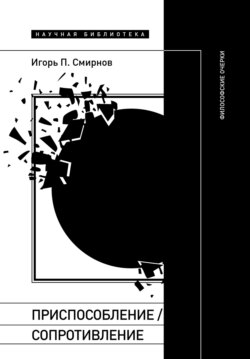Читать книгу Приспособление/сопротивление. Философские очерки - Игорь Павлович Смирнов, Игорь Смирнов - Страница 2
I. КОНФОРМИЗМ, ИЛИ СПАСЕНИЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
ОглавлениеЭволюциониста хочется сравнить с пассажиром, который, наблюдая через окно вагона ряд явлений, выказывающих известную законообразность (как, например, появление обработанных полей, а затем фабричных строений по мере приближения к городу), усмотрел бы в этих результатах и иллюстрациях движения сущность и законы самой силы, заставляющей перемещаться его взгляд.
Владимир Набоков. Отцовские бабочки
1
Долой Дарвина! Кто из нас не конформист? Принятия поведенческой нормы и единения с ценностными ориентациями большинства требует от индивида любое его вхождение в коллектив, будь то общество во всем объеме или какая-то из его девиантных частей (молодежная peer-группа, преступное товарищество, союз политических заговорщиков, религиозная секта, артистическая богема и т. п.). Более того: малые девиантные коллективы в большинстве своем налагают на участников более строгие дисциплинарные ограничения, чем макросоциум, коль скоро нуждаются для поддержания своего отклоняющегося от официальных стандартов существования в авторитетности, превосходящей влиятельность общества. Под таким углом зрения нонконформистами приходится считать разве что одних психотиков, безоглядно разрывающих, по Зигмунду Фрейду («Невроз и психоз», 1924), связь между «я» и внешним миром. Согласно классическому объяснению социализации, выдвинутому Георгом Зиммелем («Как возможно общество?», 1908), Другой для индивида не только конкретен как «ты», но и обобщен – в силу способности человеческого сознания к абстрагированию от особого и единичного. Общество результирует в себе наше представление о совместимости «я» с иной самостью как таковой, с «объективированным» alter ego1. Позднее Джордж Герберт Мид, ступая по следам Зиммеля, назовет в лекциях, читанных в Беркли в 1930 году, общество «генерализованным Другим»2. Социальный обиход предполагает, таким образом, инаковость для себя каждого, кто включается в него. В статье «Расширение группы и развитие индивидуальности» (1888) Зиммель писал о том, что дифференциация какого-либо коллектива относительно прочих альянсов усиливает в нем центростремительную тенденцию, направляющую его к однородности3. Чем отчетливее он отмежевывается от ближайших подсистем общества, тем более он претендует на то, чтобы стать репрезентантом всечеловеческого начала, родового эгалитаризма. Можно сделать отсюда вывод о том, что по ходу индивидуализации коллектив (неважно, микросоциален он или макросоциален) с неизбежностью стирает индивидуальные различия своих членов с тем весомым (пусть и не всегда эксплицируемым) доводом, который предоставляют ему его антропологические амбиции. Итак, социализация поощряет пробуждение в самости того, что ей альтернативно, и подавляет имманентное ей своеобразие. Но неужто и впрямь нонконформизм – привилегия тронувшихся умом? Интуитивно ясно, что социализация и приспособленчество несходны между собой, хотя бы они и росли из одного корня. Однако подвести под это расхождение теоретическую базу – далеко не простая задача.
В науке об обществе homo socialis и склонный к конформизму homo adaptivus то и дело смешиваются. Для Отто фон дер Пфордтена, пустившего понятие конформизма в сциентистский оборот, оно означало «жизнь в научных, этических и эстетических нормах», доказавших свою надежность4. При таком растяжении смысла конформизм подразумевал не только интегрированность человека в социальном окружении, но и соответствие самого общества «действительности», свидетельствующее о его успешности и отпечатывающееся в его ценностных предпочтениях5. В интерпретации Пфордтена быть конформным и быть разумно-прагматичным – одно и то же. В обратном порядке: отпадение от установившейся в обществе системы ценностей было заклеймено Эмилем Дюркгеймом как «аномия». В «Разделении общественного труда» (1893) он утверждал, что личностное и социальное – лишь «кажущаяся антиномия», которая снимается на практике за счет взаимодополнительного распределения между индивидами функций в полезной для всего общества деятельности. Обусловленная трудом солидарность коллектива расстраивается, если какие-то части общества обособляются от целого, функционируя автономно, впадая в «аномию». Там, где социальная тотальность страдает нехваткой, где конформизм дает трещину, воцаряется, стало быть, хаос. В трактате «Самоубийство» (1897) Дюркгейм поставил рост «аномии» в зависимость от ломки, которую претерпевает общество в период кризиса «коллективных представлений», вызываемого, к примеру, хозяйственными неурядицами. Не отказ от следования упрочившимся нормам придает обществу динамику, но, напротив, история разрушает гармоническое сочетание личностного и социального, побуждая индивидов сводить счеты с жизнью. Иную, чем у Дюркгейма, модель растворения индивидного в коллективном разработал в «Социальных законах» (1898) Габриэль де Тард, по мнению которого общество сплачивает не работа, а подражание людей друг другу (скажем, в их погоне за модой). Если в социореальности и разгораются конфликты, то они проистекают из столкновения имитаций, воспроизводящих взаимоисключающие образцы. Тогда как у Дюркгейма то, что неконформно, расположено по ту сторону социального, взятого в виде должного состояния вещей, у Тарда человек в своем общественном бытовании и вовсе исчерпывается несобственной, не ведающей оригинальности идентичностью.
Апология конформизма, не отчленявшегося на грани XIX и ХX веков от социализации, сменилась затем (во Франкфуртской школе) непримиримой критикой в его адрес, которая, однако, инерционно продолжила усматривать в нем условие для эффективного функционирования общества, пусть и оцененного в качестве извращающего человеческую природу. Индустриализация (духовной) культуры, характеризующая в «Диалектике Просвещения» Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера «поздний капитализм», не допускает отступлений от уже опробованных шаблонов, устраняя нонконформизм посредством того, что делает его «экономически бессильным»6. Согласно Герберту Маркузе, технологически развитое современное общество отнимает у индивида, призванного обслуживать аппаратуру, какую бы то ни было автономию7 и подавляет в нем – в той мере, в какой он становится придатком автоматизированного производства, – чувство вины и ответственность за поступки8. По мнению одного из застрельщиков критической социопсихологии Александра Митчерлиха, технический прогресс, как и для Маркузе, наносит ущерб личности: заставляет ее, будучи непрозрачным, испытывать страх, бежать от самой себя и применяться к обстановке. На месте этого иррационального подчинения обстоятельствам Митчерлиху хотелось бы видеть всего лишь denkende Anpassung9 – «активное», «удачное» приноравливание к техносфере, которое держало бы под контролем наши аффекты10. Насущным для социологии 1960–1970‐х годов стал не поиск ответа на вопрос, что такое конформизм, а перенос научного внимания с личной уступки давлению извне на устройство общества, разрешающего либо жестко запрещающего поведенческие и идейные диссонансы11.
В наши дни катастрофическое изменение климата под воздействием промышленного роста и интенсификации сельского хозяйства дало новый импульс для того, чтобы социология ограничила возможности человека его приспособительной способностью, лишая его права на напористое вмешательство в среду обитания12. По распространенному мнению, эта способность – залог результативности человеческих действий13. Соответственно: то, что противостоит социализации («социальной компетенции»), не более чем агрессивность субъекта, свидетельствующая о неуспехе его адаптации в обществе14. Заимствуя у Жана Пиаже («Психология интеллекта», 1947) разграничение «ассимиляции» (= приведение действительности в унисон с умственными операциями) и «адаптации» (= согласование головной работы с действительностью), Йохен Брандштедтер осуждает в своей книге «Пластичная самость» «непродуктивное упорство» индивидов15 (то есть их «ассимилятивную» установку) и ставит акцент на автокоррекции, которую они обязаны предпринимать, если преследуемая ими цель оказывается заблокированной, а также на тактических ходах, проективно возмещающих пережитый ими негативный опыт (на «разгрузочном мышлении»16). Подхватывая из прошлых столетий тянущуюся от Эдуарда Гиббона традицию исследований, посвященных упадку цивилизаций, Джаред Даймонд преобразует ее так, что помещает на передний план среди факторов, опричинивающих крах общества, его невписанность в природное окружение, его неготовность быть конформным как целое («Коллапс. Как общества предпочитают гибель или преуспевают?», 2005)17.
Трудности, на которые наталкивается теория общества при распознании различия между социализованным индивидом и приспособленцем, во многом объясняются тем, что она подходит к человеку не столько как к существу, созидающему историю, сколько как к учредителю порядка или беспорядка в своей совместимости с себе подобными. Социум – продукт истории, придающей всему, с чем имеет дело, иное, нежели естественное, начало. Только если оно будет взято в расчет, откроется возможность для того, чтобы расподобить социализацию в качестве вступления индивида в наше общественное инобытие и конформизм в качестве отхода вспять от этой инобытийности ради выживания любой ценой – ради struggle for existence Чарлза Дарвина. Социология стирает несходство того и другого, потому что, игнорируя по большей части историю, закономерным образом выбирает себе в ориентир то, что противоположно историзму, – эволюционизм, отприродный по своему существу, и смыкается с дисциплинами биологического толка. Часто homo socialis биологизируется явным образом, как, например, в работе Малькольма Славина и Даниэля Кригмана «Адаптивный дизайн психики», где душевный мир человека принимает анималистические черты, будучи сведенным к альтруистическим побуждениям, идущим навстречу групповой (поначалу семейной) выгоде, и к эгоистическому отстаиванию генных интересов особи (занявшему место Эдипова комплекса)18. О том, что кроме сохранения и продолжения рода есть еще и духовная культура, отпечатывающаяся в социальной практике, авторы, похоже, не догадываются19. Еще чаще, однако, социология натурализует человека имплицитно, незаметно для самой себя, рисуя общество не постоянно пересоздаваемым, а данным нам наподобие природы, отклонения от которой патологичны, как то представлялось Дюркгейму. Когда же критическая психосоциология признавала в лице Маркузе, Митчерлиха и иже с ними искусственность общества, подвергшегося индустриализации и технизации, она делала ставку на возникновение такой системы межличностных отношений, которая даст волю до того репрессированным инстинктам, первичным и бессознательным потребностям организма20. Биологизм вкрадывается в социологию, определяя то вечное настоящее изображаемого ею общества, то его светлое будущее, поднимающееся с темного дна бессознательных влечений человека.
Изложенное Дарвином в «Происхождении видов» (1859) учение о биологическом развитии, происходящем за счет естественного отбора и выживания сильнейших, наиболее отвечающих внешним условиям особей, подверглось пересмотру в нашу эпоху21. Так, с точки зрения Роберта Вессона, Дарвин непомерно преувеличил плавность эволюции и ее адаптивный характер. На самом деле она прерывиста, вбирая в себя мутации и вымирание видов, и базируется не только на приспособлении организма к среде, но и на их взаимодействии, являя собой «хаотическую динамику»22, в рамках которой даже малая нестабильность при воспроизводстве жизни может вести к значительному усложнению органической системы. Мэри Джейн Вест-Эберхард обнаруживает в дарвинизме противоречие, порожденное тем, что в этой доктрине адаптация служит фактором как изменчивости, так и стабилизации вида23. По убеждению исследовательницы, моделирование эволюции, которая демонстрирует присущую организмам гибкость, должно считаться, наряду с влиянием на них природного контекста, также с вариативностью, предзаданной генотипу24, и половым отбором, рекомбинирующим хромосомы25. Но даже и в ревизованной форме дарвинизм вызывает вопросы, остающиеся пока без ответов. Будучи обновленным, он все же продолжает быть центрированным на идее развития через приспособление и метаболизм. Что такое мутация, как не ошибка в передаче генной программы от поколения к поколению? Раз так, мутация означает нехватку автономии, крах самодостаточности, которые испытывает витальность вопреки своей выделенности из неживого мира. Не все ли равно, абсолютизируем мы власть среды прямо или указывая на ненадежность репликации ДНК в стремящейся к авторегулированию органике? И точно так же: не все ли равно, видим мы источник пластичности живых тел в их генетической предрасположенности к преобразованиям или в их приспособительных реакциях на специфику той действительности, в какой они пребывают? В обоих случаях пластичность предполагает, что эволюция совершается не оттого, что у нее есть causa finalis, a ради снятия губительного стресса, который живое вещество претерпевало бы в той или иной ситуации, если бы не обладало запасом трансформационных возможностей. Как бы ни была беспорядочна эволюция, она телеологична потому уже, что переходит из реальности в мыслительное отражение таковой, в наши научные и философские построения, в которых она так или иначе берется целиком – как решившая/решающая свою задачу. Даже если causa finalis на деле отсутствовала бы в эволюции, даже если наши модели игнорируют телеологизм в животном мире, сам факт осмысления человеком биологического развития становится его конечной причиной, идеальным завершением материального процесса.
По здравом размышлении достижение фенотипом пригодности к тому месту, куда он попал, заводит эволюцию в тупик, ограничивает ее нарастание. Как толковать тогда, к примеру, появление млекопитающих, распространившихся почти по всей планете? Становление этого нового рода живых существ очевидным образом свидетельствует о том, что эволюция нацеливается на преодоление видовой зависимости от локальной обстановки. Понятно, что выживание не обходится без обмена организма со средой и, следовательно, без приспособления к ней. Но, вступая в разногласие с неорганическим миром, витальность делается принципиально направленной на эмансипацию от любой среды. Выход из противоречия состоит в том, что органические системы не просто взаимодействуют со своим окружением, но в порыве к сверхкомпенсации метаболизма руководствуются установкой на господство над средой (пусть то будут заявление животным права на владение своей территорией или еще совсем недавние бразильская и индийская мутации вируса COVID-19, наловчившиеся особенно эффективно пробивать иммунную систему человека). Конечно же, эволюция зачастую протекает контингентно, особенно если ее участники осваиваются с экстремальными обстоятельствами (скажем, с очень жарким или очень холодным климатом)26, что придает подходящим к такому положению дел жизненным проявлениям сугубую частноопределенность, лишь локальную значимость, экзотизм. И все же у эволюции есть главный вектор. Ее целеположенность следует из напряжения, в котором сталкиваются подчинение организма среде и обусловленное его суверенностью инстинктивное вожделение властвовать над нею. Развязывание этой коллизии вовлекает жизнь в такую попытку примирить свои полюса, которая выливается в создание внутренней среды, параллельной внешней. Этот расположенный между индивидным микрокосмосом и макрокосмосом мезокосмос формируется благодаря тому, что потомство не отпускается после рождения на волю, а выращивается родителями. Не брошенное на произвол судьбы, оно взрослеет в замедленном темпе, проходя через относительно длительный период неотении, во время которого обучается навыкам, дополняющим заложенную в него генетически компетенцию, то есть повышающим уровень его властных притязаний27. (У млекопитающих внутренняя среда становится для потомства, получающего пищу от материнского тела, и вовсе единственно значимой – симбиотически неразрывной.) В таком освещении эволюция обретает тот смысл, что усиливает рефлексивность организмов, присовокупляя к их наследственным свойствам благоприобретенные. Живое существо не только отражает в себе мир, но и узревает свое отражение в нем, поскольку над владеющими телом инстинктами надстраивается знание, которое оно получает как со-знание от более опытных особей. Видеть свои действия так, как если бы они были чужими, и есть сознание28. Заимствование опыта – первый шаг на пути отчуждения живого существа от себя29.
Развитие рефлексивности по восходящей линии увенчивается авторефлексивностью, каковой характеризуется homo sapiens. В акте самосознания человек открывает себя и, стало быть, обретает возможность второго – не физического, мыслительного – рождения. Какие бы физиологические механизмы (зеркальные нейроны, асимметрия полушарий головного мозга) ни были задействованы при возникновении самосознания и какими бы генетическими факторами (они не ясны) это новшество ни опричинивалось, непреложен тот факт, что у творчества, которым занят человек, не может быть иного происхождения, кроме отличного от натуральной плодовитости. Коль скоро креативность противостоит прокреативности, другое начало исходно даруется тому, что контрастирует с естественным появлением на свет по максимуму, – умирающему. Покидающие бытие обретают жизнь вечную по ту его сторону. Культ предков, отправной (и остающийся краеугольным) пункт социокультуры, – это coincidentia oppositorum, так как совмещает в себе естественное начало рода со сверхъестественной неустранимостью из жизни его основателей. В своем истоке история (другого рождения) разыгрывается в том мире, какого нет, в загробном царстве, лишь постепенно в течение долгого срока становясь фактической, перекраивающей наличную социокультурную реальность. Животные завоевывают пространство, человек жаждет распоряжаться не только им, но и временем. Самоопределяющийся и тем самым проясняющий свою ориентацию человек сообщает пространству векторность, темпорализует его (поначалу колонизуя из центра своего возникновения удаленные уголки планеты). Выстраивая (в воображении или на деле) еще одну вселенную, homo sapiens ментально и в значительной степени физически высвобождается из природы, застревая в ней тем не менее в качестве организма. Эволюция, вызванная противоречием между суверенностью живых существ и их зависимостью от среды, завершается в человеке, уступая место истории, в которой он мыслительно становится полновластным хозяином природного порядка (например, населяя натуросферу подобиями своей психики в анимистических верованиях). Эта умственная власть подтверждается материально – техническими изобретениями, аграрной практикой, учреждением социальных институций, индоктринированием масс30. В дополнение к анималистическому обмену со средой человек вводит в рыночное обращение изготовленные им самим ценности. Рынок есть иноприродная, гуманизированная среда31. Но, будучи организмом, человек не достигает в своих социокультурных предприятиях окончательного выхода за тот предел, на котором заканчивается ordo naturalis. Зверь превосходится носителем Духа, но тот умирает как зверь. История поэтому замещает эволюцию эквивалентно, являя собой, как и та, ряд изменений в разрешении дилеммы, с которой имеет дело все живое, автономное и неавтономное в одно и то же время. Человек проектирует творимую им социокультуру как спасительную, вызволяющую его из-под диктата Танатоса, и пускает ее в исторические преобразования, придает ей все новые и новые начала, неудовлетворенный тем, что ни на одном из этапов она не выполняет своего сотериологического задания здесь и сейчас, питая своих носителей лишь обещаниями, требуя веры в себя и не допуская проверки. Homo historicus не совпадает со своей интенцией и как раз отсюда до чрезвычайности изобретателен в поисках того, как он может достичь желанного совпадения32. Эволюция соматична. История вершится в головах, откуда проецируется на реальность. Сущность истории – в самопроизводстве человека, которое не в состоянии, однако, возвести наше физиологическое устройство на более высокую, чем данная нам, ступень, как бы того ни хотелось теоретикам превосходства одной расы над прочими и всем тем религиозным доктринерам, философам и ученым, кому мерещится homo novus (immortalis). Биологическое развитие захлебывается в истории, ибо она в своей равнозначности эволюции лишает ту биокреативной силы, подменяемой умствованием. Мутации человеческого организма разнообразят популяцию, но не ведут его к перерождению, к биологической инобытийности.
Взятые вместе эволюция и история составляют такой комплекс, в котором одна изменчивость (организмов) прекращается, чтобы быть замещенной другой (выражающейся в инкорпорировании и материализации идей, так или иначе предполагающих спасение человека). Causa finalis имеется у обеих линий, но их телеологизм различен. В этом аспекте было бы ошибкой считать вслед за Жан-Батистом Ламарком («Зоологическая философия», 1809) и его последователями, что общее развитие организмов ведется по единому плану, направляющему их к совершенствованию органов, или соглашаться с Владимиром Соловьевым («Чтения о Богочеловечестве», 1878–1881) в том, что можно говорить о «вечности человека», о его «умопостигаемом» присутствии в мире до того, как появляется «эмпирический» homo sapiens33. До человека живая природа стремилась погасить конфликт между воссозданием себя в потомстве и своей воплотимостью в особях, поддерживавших существование за счет экотопа. Намерением же человека, основавшего собственный культуро- и социотоп, служит нейтрализация иного противоречия – того, в котором находятся интеллект и организм. В философии Анри Бергсона («Творческая эволюция», 1907) первоначальный жизненный порыв (élan originel) ни в какой момент не иссякает, не растрачивает, а только наращивает свою энергию, делая витальность льющейся непрерывным потоком, в котором не бывает зияний. Осознавая все же, что человек в своей чисто интеллектуальной продуктивности нарушает континуальный рост жизни, Бергсон призывал к совмещению дискретного разума с анималистическими по происхождению инстинктами в интуитивных познавательных актах, стараясь тем самым восстановить утрачиваемую в социокультуре целостность биокреативности. Дело, однако, в том, что человек как организм никогда и не бывал вполне отторгнутым от животных инстинктов, оказываясь полем борьбы между ними и себя толкующим интеллектом, которая ознаменовала собой скачкообразный переход от эволюции к истории. В этой схватке разум не может стать победителем. Если эволюция обрывается в собственном Другом, в авторефлексии, порождающей социокультуру, то история, в какие бы новые превращения ни втягивался ее fresh start, обречена (вразрез с гегелевской моделью) на неразрешимость своей проблемы, на энтропийное исчерпание своих возможностей по преодолению природного в человеческом. Эволюция обретает в человеческой авторефлексии свой happy end. Счастливый финал истории не проглядывает на ее горизонте, потому что можно отодвинуть вдаль старение организма, но нельзя его обессмертить: ведь функция ДНК в том, чтобы передавать жизнь от одного тела другому, внося – по диалектическому принципу – в ее континуум дискретность. Жизнь прерывиста, потому что ее носители – отдельные тела. Смерть вычленяет органику из неорганической материи, которая не умирает, а транссубстанциализуется. Все коррекции, которым подвергается теория Дарвина, бессильны сделать ее безупречно правдоподобной, ибо она нуждается не в исправлениях, а в понимании того, что принадлежит к одному из периодов в трансформациях сотериологической надежды социокультуры. После того как природа перестала быть следствием Божественного промысла, Дарвин попробовал найти спасение не в религиозной потусторонности миру сему, а в приспособлении к нему, дающему отдельным телам шанс на выживание. И точно так же не улучшаем антидарвинизм, эпохально обусловленный, как и всякая гипотеза. Интуитивизм Бергсона складывается в период Fin de Siècle, когда прогрессизм впадает в кризис и обнаруживается опасность истории, спасение от которой кажется достижимым в том, чтобы срастить ее с эволюцией.
Речь о коммунизме пойдет ниже. Но, забегая вперед, уместно уже сейчас заметить, что его смысл расходится со смыслом жизни. Ее сущность в том, чтобы, транслируя себя от одного организма к другому, избыть передатчика наследственной информации. Жизнь куда более значима, чем живущий (в чем мы, живущие, не хотим отдавать себе отчет). Сотериологическая же сущность коммунизма – сосредоточение жизни в социальном сверхорганизме, иммортальность которого не будет отменена смертностью его отдельных слагаемых. Утопическому сверхорганизму недостает необходимого ему, как и любой плоти, энергетического содержания – той жизни, иное имя которой – смерть множащего ее. Самке богомола, пожирающей самца после совокупления, дано инстинктивное знание о том, что такое жизнь. К несчастью всех, поверивших в коммунистическую химеру, вплоть до Алена Бадью, Славоя Жижека и Бориса Гройса, Маркс не увлекался энтомологией – в отличие от Роже Кайуа, написавшего статью «Богомол» (1934), в которой проследил отнюдь не случайный интерес самых разных мифологий к привлекшему его внимание насекомому. Сакрализуя богомола, мифогенное сознание удостоверяло свою адекватность жизни, которая сообщает бездушной материи новое начало, чтобы затем повторяться в нем и быть им исчерпанным, чтобы всегда переносить начало в Другое, чем то, что было. Зигмунд Фрейд (хочется почтительно назвать его богомолом мысли) был в принципе прав, вопреки своим постмодернистским хулителям Жилю Делезу и Феликсу Гваттари, центрировав психоантропогенез на Эдиповом комплексе. Будучи в психическом плане восстанием детей против родителей, эдипальность представляет собой в антропологическом измерении опознание человеком ноумена жизни, упраздняющей своего подателя.
2
Злоба дня сего. Пора вернуться к конформизму. Он преобладает в поведении и мышлении людей тогда, когда спасение ищут здесь и сейчас, а не откладывают на будущее, не переносят в реальность, альтернативную наличной. История кажется спасительной уже постольку, поскольку ее место рождения там, где каждого из нас стережет смерть, – в будущем. Конформизм сотериологичен, как и прочие интенции человека, возводящего социокультуру. Но в противовес творению истории ради победы над естественным ходом существования он целиком погружен в современность. Приспособленец неотвязно фиксирован на парадоксе, который содержится в вопросе о том, как не умереть при жизни. Ответ на этот вопрос столь же парадоксален, как и его постановка: конформист сохраняет себя благодаря тому, что губит свою самость, теряющуюся в массовых социокультурных шаблонах, в инерционном тыловом поле исторических начинаний. Тот, кто отождествляет себя с этими шаблонами, отбрасывается из истории в сферу эволюции с тем, впрочем, немаловажным отличием от адаптации животных к их местопребыванию, что продолжает быть обладателем самосознания. Оно, однако, выступает извращенным. Отношение «я»-субъекта к «я»-объекту претерпевает у конформиста переворот, в котором они обменивают свои позиции, так что «я»-субъект попадает в зависимость от «я»-объекта – от того, кто оценивает и интерпретирует себя с точки зрения множественных иных лиц, прекращающих быть чем-то внешним для прямого взгляда, овнутриваемых видящим. Такая доходящая до самоотречения индивида податливость на социальную рутину или на то, что обещает стать ею, преобразует историю в как бы эволюцию, не будучи ни тем ни другим в их чистом проявлении. Конформист увязает в безнадежной невозможности истории обратиться в эволюцию. Он потерян и для одухотворения, и как организм.
Приспособление животных к среде проводит в ней границу, которую им не дано переступить, делит ее на освоенную и не поддающуюся освоению области34. Homo historicus, напротив, трансгрессивен, действует за рубежом того, что есть, в новом для себя мире, в котором он становится инаковым себе и, рожденный во второй раз, оказывается исполнителем роли, от самого себя отличаясь, как сказал бы Хельмут Плесснер35. Объективируя себя, авторефлексивное «я» – продолжим следование за антропологическими соображениями Плесснера, несколько модифицируя их в приложении к социальности, – выпускает на волю собственное Другое, каковое принципиально совместимо с несобственным Другим, с обобщенным alter ego, с обществом, как его понимали Зиммель и Мид. Социализация, заключающаяся в примеривании самостью на себя ролевого «я»-образа, имманентна самосознанию. Это оно источает из себя социальную гравитацию, сбивающую людей воедино и отграничивающую (как на том настаивал Никлас Луман) их союз от природного окружения. Социализованный индивид остается собой, делаясь Другим. Он не совсем совпадает со своей актерской игрой. Поэтому он может иметь сразу несколько ролей, что подчеркивала социологическая теория (1951) Толкотта Парсонса (скажем, трудовую, семейную и ту, в какую входит в неофициальном дружеском круге), и выпадать из всех своих образов или действовать, трансформируя их рамки (обе эти и сходные с ними опции подробно исследовал Эрвин Гоффман36). Homo historicus инобытиен вполне – и тогда, когда театрален, и тогда, когда обманывает ожидания, имплицируемые взятыми им на себя ролевыми обязательствами. Поднимать мятеж против того, что мы застаем, можно только из другой, чем наличная, реальности, какой бы она ни была – спиритуально потусторонней, политически недопустимой, сексуально запретной, идейно чуждой мейнстриму. В этом плане дело, которым занят homo historicus, гибнет, если обращается в рутину, и длится, если воспроизводится с модификациями, с привнесением сюда новой начинательности.
Не принадлежа к анималистическому царству и дезертируя из исторического, конформист регрессивен: он переходит границу в попятном движении из потусторонности в посюсторонность. Довлеющее конформисту восприятие себя чужими глазами заставляет его быть Другим до того, как он стал собой, сливать «я» с социальной ролью, редуцироваться до степени человека-функции. Мы имеем здесь дело не с социализацией индивида, а с деиндивидуализацией социума, которая подытоживается тем, что в нем не быть собой значит «быть». Конформизм вторичен по отношению к образованию коллектива, который суммирует и координирует в групповом энтузиазме свободные волеизъявления личностей, побуждающие их к жизни в истории (большой или малой – сейчас неважно). В понятии persona далеко не случайно срастаются личность и личина. Социум должен уже конституироваться, чтобы явиться восприемником жертв, которые приносят ему лица, отказывающиеся от самости. Конформист разыгрывает двухходовку: он выбирает себе роль в персональном решении, упраздняя затем свою особость, пускаясь в бегство из зоны, антиципирующей будущее. Попадая, так сказать, в предпорубежье, задерживаясь на нейтральной полосе, конформист закономерно теряет и внутреннюю границу, позволяющую нам дистанцироваться от себя и становиться самокритичными, производить переоценку наших акций и суждений, то есть иметь личную историю. Возмещая свой дефицит, приспособленцы нетерпимы к тем, у кого она слишком заметно выбивается из застывающих норм, – ко всяческим выражениям девиантного сознания (сказывается ли оно в идеологических расхождениях личности с мейнстримом или в ее сексуальной ориентации). Конформизм реактивно агрессивен, он отзывается на активное присутствие самости рядом с собой желанием истребить ее. Другому надлежит потерять ее так же, как ее в себе стирает обезличивающийся оппортунист. Исторический же человек, шагающий в небывалое, озабочен прежде всего вложением умственных инвенций в наличную духовную ситуацию, используя агрессию в качестве орудия для реализации своих идейных исканий, инструментализуя ее37 (как то сделал Христос, изгнавший менял из храма). Нельзя, впрочем, сказать, что приспособленец вовсе отчужден от истории. Он сопричастен ей, но не как ее агенс, а как пациенс, послушно меняющий свои взгляды и повадки, если того требует конъюнктура социодинамики.
Для ранних, еще не накопивших разнообразного исторического опыта обществ проблема конформизма малозначима или вовсе иррелевантна. Протест против господствующих правил если и случается в архаическом коллективе, то как точечно-эксцессивный, личностный38. В своем становлении (из внутреннего тяготения индивидов к совместности) социальность пока не знает массового нонконформизма, на что обратил внимание уже один из основоположников науки об обществе Герберт Спенсер39, и поэтому не нуждается в выделении из состава коллектива тех, кто навсегда и безусловно покорен его воле, кто гарантирует его стабильность. Взаимосогласованность индивидуального и группового здесь сама собой разумеется. По реконструкции Вольфганга Липпа, понятие «конформность» впервые входит в оборот, еще не став научным, в Англии в середине XVI века40 (было ли чистой случайностью то, что в той же самой стране родилось и учение об эволюции через приспособление к среде?). «Конформность» делается актуальным понятием (схватываемое им явление существовало, конечно, и раньше) в той ситуации, в какой правительственная власть смыкается с властью церкви и принимается (в конфронтации национального государства с католицизмом) распоряжаться в духовных делах, оказываясь безальтернативной. Конформизм, следовательно, имеет в виду недифференцированность социального тела и Духа, насущен там, где сознание призывается забыть свою способность витать за пределом чувственно воспринимаемого, дабы сосредоточиться на том, что нам непосредственно дано, как если бы эмпирическая действительность и была той далью, куда нам еще предстоит попасть. Быть или не быть приспособленцем – дилемма, особенно остро переживаемая человеком на сломах социостаза при вторжении будущего в настоящее. Человек, сталкивающийся с вмешательством инаковости в заведенный порядок, обязывается переводить мыслительную работу из допускающей присутствие своего субъекта в отсутствии в сугубо присутственную, отелеснивать Дух. Уравненное с телом сознание либо устремляется к выживанию, поддаваясь давлению извне, либо идет на риск сопротивления обстоятельствам, который может стать смертельным.
В самоубийстве уступка внешним условиям и восстание против них объединяются в максимуме того и другого. Эпидемическим суицид бывает, вопреки мнению Дюркгейма, не только тогда, когда общество решительно перестраивается, но и тогда, когда оно застойно. У самоубийства два лица. Оно может явиться и приспосабливанием к ускорившейся истории, бросающим ей вызов (тем, что биология дефинирует как resistance adaptation41), и бунтом против безвременья, который поднимает человек, погрязший в этой обстановке и не знающий, чтó противопоставить ей, кроме добровольного ухода в небытие. В обоих вариантах самоубийство сложным образом сопряжено с конформизмом. Как смерть при жизни оно представляет собой крах конформистского расчета на спасение, на нахождение убежища в коллективе. Суицидальная личность отказывается от того нетворческого состояния, в каком находятся потерявшие самость, ради противотворчества – созидания собственной смерти.
Контракреативный потенциал конформизма, воплощающийся не в одном лишь суициде, но и в подражательстве, в порабощенности производительного сознания готовыми образцами, открылся авторам романтической эпохи, прежде всего Э. Т. А. Гофману, связавшему (в предвосхищении киномонтажа) контрапунктом в «Житейских воззрениях кота Мурра…» (1819, 1821) истории капельмейстера Иоганнеса Крейслера и его имитатора, покушающегося, несмотря на свое бестиальное происхождение, на литераторское участие в порождении духовной культуры. С замечательной интуитивной меткостью Гофман поместил приспособленца Мурра в промежуток между чисто биологическим существованием и человеческим инобытием-в-мире, между эволюцией и историей. В той мере, в какой романтизм тематизировал двойничество, он был поставлен перед необходимостью развести подлинник и копию в разные стороны, став первой эпохой, подвергшей конформизм, сколок с социализации, уничтожающей критике. Представитель сменившей романтизм позитивистской эры Дарвин взял назад – по контрасту с предшественниками – осуждение приспособленчества, придав адаптации, соглашательству особей с превосходящим их возможности окружением, противоречащее ей значение той силы, какая приводит в движение переходы из низших состояний одушевленной материи в высшие. (Преодоление природы социокультурой находит свое продолжение в том, что каждая эпоха по-своему проектирует присущую ей историческую субъективность в пресуществующий человеку мир.) Возведя в герои своей теории конформное существо, Дарвин обеспечил ей длительное признание, заразительно обольстив центральной в ней идеей приспособления новые поколения исследователей, принявшихся – соответственно – прилаживать его доктрину к прежде неизвестным эпохальным тенденциям и научным достижениям. Дарвинизм внедрил эволюционный принцип в историю сциентистских изысканий42.
Человек в «Происхождении видов» уменьшает действенность натуральной селекции, оберегает, одомашнивая животных, слабейших из них от истребления. В пику все тому же романтизму Дарвин оценивает социокультурную практику в том ее аспекте, в каком она оппонирует приспособленчеству, не без негативных коннотаций. Она не всегда отвечает универсальным законам природы. В приложениях дарвинизма к социокультуре ее противоестественное устройство рисуется как подлежащее преобразованию путем искусственного отбора, то есть посредством попрания ее сделанности сделанностью же. Изобретатель евгеники, двоюродный брат Дарвина Фрэнсис Гальтон, считавший, что natura humana должна быть улучшена за счет искоренения девиантности, предлагал лишить преступников права на «производство потомства»43. Отсюда тянется преемственная линия и к советской политико-социальной инженерии 1920‐х годов, отбраковывавшей неугодных власти лиц по классовому происхождению, и к нацистской эвтаназии, и к американскому бихевиоризму, пропагандировавшему в лице Берреса Фредерика Скиннера «…преднамеренный дизайн культуры и контроль над человеческим поведением»44. В «Человеческом, слишком человеческом» (1878–1880) Фридрих Ницше перенес дарвинизм в область философской антропологии, назвав человечество «фазой развития некоего определенного сорта зверя, ограниченной по длительности» и обвинив социокультуру в том, что она потворствует по ходу «борьбы за существование» выживанию «болезненных» натур, обратившихся из‐за своей ущербной конституции к духовной деятельности, – что и «делает всякий прогресс вообще возможным»45, движет историю вперед. Сергей Давиденков подхватил традицию Ницше, снабдив ее психостадиальным аргументом: ввиду отсутствия естественного отбора выдвинутую позицию в культуротворчестве захватывают душевно нездоровые персоны, приводящие его в шаманских культах «к организации неврозов в определенные большие системы»46.
Тоталитаризм стал реальным выводом из дарвинистски окрашенных нападок на социокультуру47. Этот строй сымитировал историческое общество, открытое в будущее, замкнув перспективу, сдвинув футурологический проект (коммунистический, расовый) в настоящее и отняв тем самым, как и всякое подражание, у своего образца предприимчивость, свободу развиваться спонтанно. Контракреативный, имитационный режим попытался предоставить всем членам общества сильную позицию, коль скоро они взяли верх над настоящим уже здесь и сейчас, а своих вождей возвел на ту ступень, на которой вершится imitatio Dei. Приостановив историю за счет осовременивания будущего, тоталитаризм превратился в как бы кастовое общество, разделенное на народную массу и партийную номенклатуру, с тем, однако, отличием от социальных систем с непроходимыми классовыми перегородками, что формировал элиту из представителей демоса. В принципе (но, конечно, не на деле) любой человек мог попасть в привилегированный (академический, управленческий, партийно-идеологический, охранительно-преторианский) слой общества. Оно мыслилось, таким образом, как среда, где финализуется отбор лучших экземпляров человеческого рода, где попросту не должно быть не приспособившихся к ней лиц. Подданные государства были стилизованы под его приемных детей, а социум – под большую семью, которую оно опекало в обмен на беспрекословное послушание. Тоталитарное государство ожидало от граждан отрешения от себя, так же как мистика подвигала людей к самозабвению ради того, чтобы они целиком открылись Богу (ясно, почему проповедовавший «нищету Духа» Майстер Экхарт получил высочайшую оценку в «Мифе ХX века» (1930) Альфреда Розенберга). Третьей quasi-кастой тоталитарного социума были узники трудового концлагеря, куда отправлялись те, кого полагали вовсе неподходящими для повышения в ранге, из кого складывалась минус-элита наказанных экскоммуницированием за неадаптивное поведение и умственные вольности. Адаптация всегда предполагает движение от особого к общему. В тоталитаризме части не просто интегрировались в целом, а сводились в нем к незначимости (по принципу totum pro parte). Общество сплошного конформизма находилось в непрерывном чрезвычайном положении, помимо которого нельзя было бы вообразить, что тоталитарное правление гарантирует всякому человеку из низов возможность подъема на высшие уровни социальной иерархии. Свою легитимацию чрезвычайное положение утверждало посредством того, что общество подвергалось экстремальному испытанию войной – внешней и внутренней (террором). Сторонникам тоталитаризма его мобилизационный характер казался непременной предпосылкой для достижения государственной властью полной суверенности – Карл Шмитт положил этот тезис в основу своей философии права, которую он начал излагать в «Политической теологии» (1922–1923). После того как тоталитаризм вошел в полосу кризисов, Жорж Батай, неафишированно полемизируя со Шмиттом, определил суверенность (в одноименном трактате, 1953–1956) как свойство каждого (для себя ценного) человека и увидел в сталинизме, похитившем у людей свободную инициативу, нивелировавшем их, самоотречение субъектов от своей власти над собой (суверенный подрыв суверенности). Двинемся вслед за Батаем: диалектика завершаемого в мобилизационном штурме отбора такова, что он дает власть подчиняющимся ей и тем самым подтачивает тоталитарное правление, делает его имплозивным, изнутри разваливающимся, омнипотентным лишь мнимо. Тоталитаризм – царство слабых, сговорчивых с фантомной идеологией индивидов, выданных за сильнейших в планетарной конкуренции. По своей сущности он суицидален без намерения лишить себя жизни, производителен в самоуничтожении.
Интеллектуальное восстание против тоталитаризма выдвинуло в нем поначалу на передний план деструктивность готовых принять этот порядок личностей. По Эриху Фромму, они страдают «симбиотическим комплексом»48, вынуждающим их либо к автонегативности, либо к разрушению объекта, на котором они фиксированы. И в том и в другом случае у индивидов, чей отправной пункт – их зависимость от внешних детерминант, нет стимула для самостановления. Однозначный протест против тоталитарной социокультуры привел ее в творчески опустошенное состояние. При таком подходе конформист, как его квалифицировал Кларк Мустакас, – в первую очередь человек, лишенный креативного дара, не использующий «ресурсы», которыми он располагает49. Это мнение односторонне. Разве в тоталитаризме не было ничего конструктивного? Как бы он мог иначе явиться на свет для весьма длительного в СССР существования? Адаптация – один из видов креативного акта, в котором творчество получает паразитарные черты, делается контрарным себе, но не аннулируется. Она – уточним Фромма – вписывает конформиста в симбиоз, не исключая, однако, того, что эта ситуация будет по-своему продуктивной. Будучи контрапозиционированным у приспособленца, самосознание, которое ведет свой отсчет от «я»-объекта к «я»-субъекту, созидает себя в Другом, питается собранными у того запасами. Такого рода плодовитость есть присвоение себе субъектом чужой собственности и оперирование ею. (Расквитываясь с тоталитаризмом, Мишель Серр обвинит в паразитизме человека как такового, как если бы тот всегда только то и делал, что жил за чужой счет50.) Неважно, в какой форме выражается апроприация, она всегда приписывает подобию превосходство над оригиналом (откуда проистекала, среди прочего, сталинистская борьба за русский приоритет в области научных и технических новшеств). Доведенный до логического конца адаптогенез предусматривал исчерпание, гибель оригинала в продукте подражания, что объясняет распространение темы смерти автора («Смерть Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова и многое сходное) в советском искусстве (словесном и изобразительном) при переходе от авангардной к тоталитарной эстетике, совершавшемся во второй половине 1920‐х годов и позднее51. Тоталитаризм с его приурочиванием будущего к настоящему предпринимал бегство из вечно внезапной, противящейся планированию истории, осуществляемое внутри нее, в ее творческом контексте, не обогащаемом, однако, небывалыми вкладами, а истощаемом, нещадно эксплуатируемом52. Покидание истории явилось в то же самое время ее узурпированием, ее сгущением в момент растраты накопленной ею собственности.
Заполонивший в 1960–1970‐х годах евроамериканские умы постмодернизм локализовал себя в связном отталкивании от тоталитарных режимов и вовсе по ту сторону истории, за ее крайним рубежом и придал – сообразно с этим – культу конформизма, ожидаемого государством от подданных, обратный ход, потребовав от общества приспособления к исключительно и непревозмогаемо индивидному. История, которую нельзя продолжить, должна была поменять местами вход и выход своего последнего состояния, пойти на попятную. Отщепенцев, которых общество не должно было бы низводить до жертв неумолимой сегрегации, Мишель Фуко нашел среди душевнобольных («История безумия классической эпохи», 1961) и преступников («Надзирать и наказывать», 1975). Жан-Франсуа Лиотар разработал проект такого социального устройства, в котором будут учтены собственные интересы разного рода меньшинств («Состояние постмодерна», 1979). Как публично-хоровое пространство вберет в себя голоса интимности и каков тот коллектив, в котором будет торжествовать индивид, – вот предмет утопических раздумий Юргена Хабермаса («Структурное изменение публичной сферы», 1962), Жака Деррида («Политика дружбы», 1994) и Джорджо Агамбена («Грядущее сообщество», 2001). Только если объединение людей станет событием, происходящим от случая к случаю, перестав быть бытием самости, отданным Другому, единичное уравновесится с коммунальным, – таков ход мысли Жан-Люка Нанси («Непроизводная община» = «La communauté désœuvrée», 1986). С этой перестройкой тоталитарного порядка, развернувшейся на его территории, коррелировали проводившиеся за его границей критика конформизма (представленного прежде всего как потребительское сознание, которое поощряется капиталистическим обществом) и глорификация протестных субкультур (что привело, в частности, к возникновению «Ситуационистского интернационала», откликнувшегося на идеи Ги Дебора, которые он высказал в антиконсюмеристском сочинении «Общество спектакля», 1967).
Раз обществу предназначалось быть адаптированным к его сохраняющим автономию членам, его самого дóлжно было истолковать как феномен приспособления. От раннего постмодернизма оставался только один шаг до появления экологической доктрины, пустившей в рост свою убедительность по мере того, как индустриальное вмешательство в природу делало ее все более и более опасной для человека. Новый конформизм контрастирует со старым, тоталитарным в том отношении, что не переводит человека из слабого положения в сильное, сверхчеловеческое, а, напротив того, зовет нас к самоподавлению, к сокращению наших производительно-потребительских амбиций в пользу оберегания Земли. Экологическое сознание пришло на смену подготовившему тоталитарные режимы и усвоенному ими геополитическому мышлению, которое, как и наша современность, отстаивало «инвайронментальный детерминизм», выводя отсюда, однако, умозаключение о неизбежности конфликтов между обществами, несходными по «месторазвитию», а не о необходимости их совместного примирения с естественным окружением. Приспособительное выживание глобального общества решает теперь не столько эволюционную, сколько инволюционную задачу, предполагающую вычитание – с помощью всяческих запретов – обретенных им прежде признаков и в конечном счете его отказ от той власти над средой, которой добивались и эволюция, и история. Последняя задыхается в первой, которую она реверсирует. Сопряженно с пересмотренным конформизмом natura humana не извращается более техникой, не претерпевает от нее ущерба, приналаживаясь к ней. Коммуникативная техника служит в социальных сетях средством установления некой антропологической справедливости, карая в недавно захватившей их cancel culture отлучением от общества тех лиц, которые нарушают «политическую корректность», неосторожно прибегая к изгнанным из оборота за пейоративность обозначениям национальных и сексуальных меньшинств. Интернет стал местом непримиримости к инакомыслящим, пусть даже их семиотическая точка зрения морально сомнительна (впрочем, и упреки, бросаемые отступникам от правил «языковых игр», не всегда адекватны). Немудрено, что в дигитальном общении царят hate speech и mobbing. Архив в интернете столь же актуален, как и злободневная информация. Дигитальная машина перерабатывает настоящее в прошлое, уравновешивает то и другое, не имея зоны будущего, то есть оппонирует истории.
3
Как не быть собой, чтобы быть. Если дифференцировать социализацию и конформизм в кратчайшей формуле, то следует сказать, что у нас есть два подступа к навязываемой нам организацией общества роли: или мы владеем ею, или она порабощает нас в победе типового над индивидным. Пуститься во второй из названных путей, ведущих в сферу межличностных взаимодействий, личность часто вынуждает социальный террор, но она и сама может отдавать предпочтение конформизму перед социализацией. В том случае, когда социология, толкуя приспособленчество, не довольствуется указанием на то, что оно вызывается стрессом, испытываемым отдельным человеком со стороны коллектива, жаждущего унификации во что бы то ни стало, оно часто объясняется желанием самости обрести в обществе престижность, статусность53. Наряду с охотой за престижем, в побудительные к конформизму мотивы зачисляют и установку индивидов на «аффилиацию»54, то есть их намерение войти в особо тесную и доверительную связь с прочими членами коллектива. Первая из этих моделей отправляет нас к гегелевской философии, умалившей единичное тем, что императивно обязала частноопределенное лицо искать «признание» у того Другого, каковое оно рассмотрит не «как существо, а как само себя в Другом»55. Абстрагироваться от себя в качестве обладателя статуса человек под таким углом зрения может, лишь получив от «генерализованного Другого» наследующее церковному благословлению «признание» (которое Александр Кожев возведет в Сорбонских лекциях (1933–1939) и во «Введении в чтение Гегеля» (1947) в ранг главной категории «Феноменологии Духа»). Вторая интерпретация конформной личности восходит к идеям Фердинанда Тённиса, противопоставившего общину и общество (в одноименном трактате «Gemeinschaft und Gesellschaft», 1887) как естественное и искусственное образования. Тогда как в общине, вызревающей из кровного родства, преобладает единая воля к жизни, в исторически продвинутом обществе (которое Тённис отвергает, подобно социал-дарвинистам) доминирует произвол, порожденный конкуренцией обогащающихся собственников. Конформисту, присоединяющемуся к обществу в порядке «аффилиации», хотелось бы, стало быть, вернуть его к тому состоянию, в каком находилась община с ее консенсусом и близостью людей друг к другу. Обе концепции конформизма специфицируют его недостаточно отчетливо, без однозначности. К социальному признанию может стремиться и тот, кто подчиняет роль самости в склонности к личному творчеству, к авторству, вовсе не опустошая себя. Интимизации социальных отношений взыскует не только конформист, но и всякий, кто восполняет свое официальное поведение в дружеском общении.
Источник беспримесного конформизма – в схватывании субъектом себя от автообъектности. Отправное позиционирование субъекта сводится тогда к тому, что он просто есть и не может не быть (отчего его и пугает мысль о смерти при жизни). Его включение в социум – это «событие бытия», происходящее как само собой разумеющееся. Конформист совместим с остальными исполнителями социальной драмы, потому что они для него отнюдь не сценические персонажи, а принадлежат сущему, как и он сам. Он онтологизирует общество. Социально значимым действиям конформиста довлеет modus vivendi, a не modus operandi. В своей крайней манифестации конформизм, строго говоря, не столько уступка себя среде, сколько неразличение «я» и «не-я» (притом, что последнее сразу и социально, и отприродно). Искание себя в Другом у Гегеля диалектично и тем самым исторично. Конформизм же недальновидно отстает от истории, завоевывающей свой плацдарм в дотоле неизвестном. Raison d’être приспособленчества обычно понимается в виде потребности индивида усилить себя за счет групповой мощи. На самом деле конформист самосилен в своей бытийности. Он и есть сама сила социального. Он социализован до социализации, неотрывен от группы, потому что групповое начало пребывает в нем не на выходе, а на входе его самосознания56. Перед нами не архаическая социализация, выражавшая себя в посвятительных церемониях, в процессе которых подростки, чтобы попасть в мир взрослых, претерпевали телесные увечья, проходили через искусственную смерть, теряли идентичность, уже нажитую в имманентной нам авторефлексии. Хотя бессамостно типовое поведение и задерживает человека перед порогом, который предстоит переступить истории, оно не знаменует собой возрождения ранних обществ. В явлении конформизма мы имеем дело с массовым человеком – с продуктом, не продуцентом исторических изменений, с существом, причащенным социальности без инициации. Сказанное не означает, что конформист непременно растворяется в толпе, как изображали массу ее первые исследователи, Николай Михайловский («Герои и толпа», 1882), Сципион Сигеле («Преступная толпа», 1891), Гюстав Лебон («Психология масс», 1895), Габриэль Тард («Общественное мнение и толпа», 1898, 1901), или в идеологически организованном коллективном теле, к которому обратился в «Восстании масс» (1930) Хосе Ортега-и-Гассет, или в безликом скопище потребителей капиталистического производства, пристыженных критиками культурной индустрии и консюмеризма, или в стадном союзе людей, избавляющихся у Элиаса Канетти («Масса и власть», 1960) от контагиозного страха57. Масса существует и в разрозненном состоянии, в виде единообразного стиля жизни, который ведут ее disjecta membra. Массовым человек становится, не только вступая в непосредственный контакт с партнерами, но и заражаясь тем, что когда-то именовалось «веяниями времени», подражая образцам на расстоянии от них (поддаваясь пропаганде, рекламе, моде, господствующему мнению). К массе принадлежит и бюрократ, как будто возвысившийся над ней, но лишь для того, чтобы обезличить по полученным им предписаниям каждого, кто к нему обращается, и себя заодно. Конформизм – предпосылка для возникновения массы в том или ином ее варианте. Формируя массу, конформный индивид входит в образ как таковой, принимает на себя роль in abstracto, ибо, какой бы она ни была (болельщика ли на футбольном стадионе, участника ли политического марша, потребителя ли продуктов индустриального производства и т. п.), актер не имеет возможности качественно конкретизировать ее персональным почином. Массовость делает социальность с ее разнообразием театральных перевоплощений сценой, где разыгрывается одна и только одна роль, суть которой в том, что ее исполнитель не должен быть самим собой. В своей безальтернативности и бессубъектности такого рода роль и оказывается бытийной. Конформист адаптируется к бытию (он самосилен, оно всемогуще), трактуя общество в качестве здесь-бытия (Dasein), которое Мартин Хайдеггер определил перед началом Второй мировой войны как не «попросту» обнаруживаемое «в наличном человеке», но как «принудительно вызывающую событие основу истины протобытия (des Seyns)»58. Стоит ли удивляться тому, что Хайдеггер, поставивший в своей онтологии Dasein в выдвинутую позицию, принял в 1933 году пост ректора Фрайбургского университета, произнеся по вступлении в должность верноподданническую речь, проникнутую духом повиновения захватившему власть в Германии нацизму?59
Человек, приспосабливающийся – ни много ни мало – к самому бытию (вместо того, чтобы претворять его в социокультурное инобытие), настроен на уравнивание себя со всеми прочими бытующими. Он эгалитарен. Как это ни покажется странным на первый взгляд, конформист и привносит в общество стабильность, и готов пошатнуть и уничтожить его эквилибриум. Оцепеневший перед границей исторического сдвига, онтооппортунист не имеет ничего против того, чтобы очутиться также по ту сторону истории – в утопическом пространстве-времени, устойчивом навсегда, то есть безупречно бытийном. Именно конформисты, возмущенные произрастающим из исторической предприимчивости социальным неравенством, составляют коллективное тело революционного действия, которое должно преобразовать разноуровневое и потому как будто несовершенное сожительство людей в царство справедливости. Конформизм способен обернуться из поведения, экономящего социальную энергию, в такое, которое экстатически растрачивает ее. Послушание перерождается в деструктивное непослушание тогда, когда массовому человеку приходится признать, что его бытийность не гарантирует ему избегания смерти при жизни: когда он перестает верить в спасительную силу Церкви (торгующей спасением, отпускающей грехи за деньги), когда он изнурен войной или страдает от безработицы, когда облагается непомерным налогом, отнимающим у него средства к существованию, или принуждается к голоду, лишенный продуктов первой необходимости. Революционна масса, которой не удается выжить, даже если она и приналажена к сущему. Революции совершаются бытующими, восстанавливающими свои онтологические права, не желающими стать отторгнутыми от бытия.
Мятежный коллектив выделяет из своих рядов вожаков или слагается в ответ на призывы застрельщиков революции. По соображению Фрейда («Психология масс и анализ „я“», 1921), завораживаемость группы авторитетом выводима из того, что в этом случае «объект ставится на место „я“-идеала»60. Спрашивается, в чем, собственно, заключается объектность лидера? Ведь он, скорее, выступает в качестве некоего сверхсубъекта, возбудителя персональных волений у тех, кто идет за ним. В одном из первых исследований авторитарного характера (оно проводилось в 1944 году под руководством Адорно) едва ли не самым главным манипулятивным средством пропаганды, подстрекающей массы к волнению, названа фабрикация ее распространителями фигуры врага и теории вынашиваемого им заговора61. Чтобы инспирировать массу сполна и держать ее в сравнительно длительном напряжении, индоктринирование должно, однако, указывать ей не только на отрицательную, но и на положительную ценность62. «Самоконституция от противного»63 важна для восстающего человека, но его собой не исчерпывает. Та позитивная социореальность, куда вдохновители революции приглашают ведомую ими за собой массу, обладает, несмотря на эпохальную пестроту своего идейного содержания, инвариантным ядром. В обязательном порядке эта область предполагает, что субъектное и объектное обменяются в ней местами, став благодаря коммутативной операции мало отличимыми друг от друга (как клир и прихожане в протестантизме; как правители и подданные, одинаково наделяемые правами человека в поправках к Основному закону США, принятых в 1791 году; как эксплуатируемые пролетарии, захватывающие в свои руки средства производства, продолжающие быть зависимыми от них и вместе с тем ими отныне распоряжающиеся). Восстающему конформисту предстоит по планам идеологов революции очутиться в действительности, удовлетворяющей конститутивное для него смешение объектного и субъектного. В глубине не слишком ловкой формулировки Фрейда просвечивает истина. Отзываясь на проекты зачинщиков переворотов, сверхсубъектов, психопомпов, массовый человек рассчитывает на то, что преодолеет барьер между личностно существующим и сущим, осуществится в среде, в которой пациенсы и агенсы станут на одну и ту же ступень, дабы тем самым упразднилась бы искусственность социальных субординаций. Самим вождям надлежит, таким образом, нести в себе зачаток конформизма, идею неизбежно долженствующей наступить спайки субъектного и объектного. Фрейд вменил лидерам массовых движений патриархальность, каковая бывает и впрямь свойственна им лишь в ситуации консервативных революций (вроде сталинской и гитлеровской). Но, вообще говоря, статус отца и ломка упрочившегося социального строя противоречат друг другу. Патриархален авторитет или ювенален, революции возглавляются теми, кто завлекает людей в мир, расположенный за последним рубежом истории, где та поглощается непеределываемым бытием. В известном смысле революции являют собой посвятительную церемонию конформистов, в которой они не нуждаются, когда по достижении зрелости включаются в общество в рутинном его состоянии. Нынешний «популизм» (в России, Западной Европе и США) контрапозиционирует революции, в результате чего политики авторитарного пошиба, натравливая социальные низы на элиту, апеллируют к ним так, как если бы массы уже пребывали за гранью истории: активизируют народный патриотизм, то есть не устают напоминать о единстве происхождения национального коллектива, со временем не меняющемся. До того, как история вступила в свою «горячую» фазу, малой революцией (она же контрреволюция) архаического общества был карнавал, нивелировавший преимущество субъектного применительно к объектному в стирании антитез социокультура vs природа, царь vs раб, мужское vs женское, разрешенное vs табуированное. Интегрированный в системе прочих ритуалов, воспроизводящих Творение, обращавший его в противотворение карнавал предотвращал поновления социальной жизни, демонстрируя их комический абсурд. Карнавал показывал, если угодно, алогичность и дегенеративность онтологизации общества, выбивая тем самым основание из-под могущего случиться восстания его конформных членов.
Как избежать расстройства слаженного функционирования – проблема, маячащая перед любым обществом. Представительные демократии справляются с ней, предназначая конформизму быть превентивным, охранять социум от революционных потрясений. Проигравшему выборы меньшинству приходится здесь принять власть победоносного большинства, тогда как выигравшие их берут на себя обязательство с терпением относиться к критике, развязываемой партиями, находящимися в оппозиции к правительству. Демократическая социокультура зиждется не на господстве слабейших, каковое атакуется дарвинизмом, спроектированным на человека и имплицирующим в тоталитаризме триумф мнимого человеческого величия, а на власти сильнейших, потерявшей полноту, поделенной с повергнутым соперником. Демократия – наименее биологизированный способ организации людского общежития, при которой сильнейшие не имеют монополии на распоряжение будущим. Добровольная уступка – сердцевина морали. Животные готовы к самопожертвованию, но концессия им не знакома. Взаимоприспособление мажоритарных и миноритарных групп населения если и не исключает напрочь, то во всяком случае предупреждает возможность государственных переворотов, провоцируемых, когда они не вырождаются в дворцовые путчи, обездоленностью масс, познавших нехватку самоволия. Эта недостача побуждает тех, кто страдает от нее, к творчеству, которое заходит в революциях столь далеко, что отменяет само себя в визионерстве, выталкивающем человека за предел изобретенной им истории. Между тем демократическому строю предзадан прагматизм, а не утопизм. Делегирование доли владычества тем, кто потерпел поражение в борьбе за доминирование в обществе, формирует частичный же дефицит власти у имущих ее. В свою очередь и слабость позиции меньшинства не компенсируется сполна полученной им санкцией на продолжение конкуренции с большинством, на соревновательное выживание. Оба лагеря либерально-демократического общества пребывают в состоянии таких лишений, которыми обусловливаются компенсаторные творческие акты, не выходящие за рамки истории, коль скоро та протекает как связный вывод желаемого из действительного, возможного из того, что есть и было. Революция обновляет настоящее, контрадикторно отбрасывая его прочь; история отрицает его контрарно, видя в нем свою опору64. Парциальная нехватка не требует ультимативного возмещения, у которого не было бы ничего общего с наличным положением дел. Оберег от революции демократии находят в истории. Их творчески-историческая направленность была подчеркнута в замечательно проницательной политологической работе Алексиса де Токвиля «О демократии в Америке» (1835–1840), и апологетизировавшей либерализм, и в то же самое время зарегистрировавшей его уязвимые стороны. (Скольких бед удалось бы избежать, будь это сочинение введено в порядке применения Закона о просветительской деятельности в обязательное для нынешнего Кремля чтение вместо замусоленного там до дыр Макиавеллева «Государя»!) Либеральная демократия рождается, по Токвилю, на руинах семьи, эгоцентрично увековечивавшей себя в передаче прав на собственность только одному наследнику, которому, таким образом, предстояло сохранить в целостности фамильные владения. Распределение наследства поровну между всеми детьми, узакониваемое американской демократией, дает им одинаковые стартовые позиции для дальнейшей деятельности, чреватой состязательностью, и тем самым избавляет общество от «вечного возвращения подобного», явленного в примате семейного самосохранения над социокультурной историей. (Уместно сказать, что сегодняшние авторитарные режимы практикуют непотизм, восстанавливая в ностальгии по тоталитарному государству первенство семьи или ее аналога (круга преданных друзей) относительно самоорганизации социума.) Взамен фамильных уз демократия предоставляет индивиду свободу в сколачивании альянсов. Опасность, поджидающая демократическое общество, вызывается тем, что оно не прочь подменить большую эпохальную историю (Токвиль подразумевает ее, рассуждая о подвижности Духа, которой мешает социостаз, поддерживаемый средним классом) частнозначимой борьбой групповых интересов, выражаемых в идеологиях партийных союзов и в местном самоуправлении. Обоюдное приспособление большинства и меньшинства способствует подъему творческой активности в обществе, но не служит базисом для достижения ее максимума (Токвиль предостерегал народоправство от духовного запустения). Безостаточное искоренение конформизма и, соответственно, превращение личного творчества (аутопойезиса) в абсолютную величину возможны только в моделях социального устройства, которые были выстроены ранним (индивидуалистическим) анархизмом, проповедовавшимся в трудах Уильяма Годвина, Пьера-Жозефа Прудона, Макса Штирнера, Михаила Бакунина. Показательно, что эти сценарии не нашли реализации в успешных революциях, упирающихся, по данному выше определению, в совмещение объектного и субъектного, в конформизм.
Общество, из которого конформизм был бы вовсе изгнан, – contradictio in adjecto, атомизировавшееся не-общество, потерявшее скоординированность в увлекшем его членов самосозидании. Социализация не то же самое, что конформизм, но нельзя ведь думать, что типовое и индивидное совпадают друг с другом. Сужение возможностей индивида предпослано принятию им на себя роли – они могут быть вновь расширены благодаря ее находчивому разыгрыванию. Навык приспособления к социально релевантным нормам ведом каждому. Вопрос в том, каков особый психический склад человека, чье «я» не проглядывает из-под его социальной личины?
Половое созревание ребенка знаменует собой кризис его, до того автономно развивавшейся, психики, которая постепенно набирала опыт по своим соприкосновениям с внешним миром. В нее вторгается отприродная телесность, от которой самость должна теперь отправляться, чтобы идентифицировать себя. Подростком правит темная энергия драйва к продолжению рода и, значит, к собственной смерти – к разрушительной, по Сабине Шпильрейн («Деструкция как причина становления», 1912), самоотдаче. Бестиализацию душевного лада самость нейтрализует, чтобы не превратиться в animal irrationale, в подгонке своих поступков под стандарты одобряемого обществом поведения, обретая то слагаемое психики, которое Фрейд обозначил как «супер-эго», осознавая себя в созвучии с социокультурой. К саморегулированию подростковая психика приходит тем легче, чем благоприятнее для того условия в семье, школе и peer-группе и чем эффективнее деятельность наставника, медиирующего между молодым человеком и названными коллективами65. Условия, в которых протекает пубертат, бывают, однако, сплошь и рядом не идиллическими, втягивают подрастающую особь в конфликт с ближайшим окружением, чем опричинивается ее фиксация на неснятой животной отприродности, ввергшей самодержавную психику в тревогу и растерянную неопределенность. Из непогашенного страха потерять под напором тленной плоти сугубо человеческую, в неотении (в недовоплощении) рождающуюся потребность самоопределиться есть два выхода – в агрессивное опрокидывание этого пугающего состояния на других, в криминогенность и в признание того, что смертное тело, объект внутри нас, правит нами, руководит «я»-субъектом. Преступник и конформист – родственники, первый из которых экстравертирует свою душевную организацию, а второй интровертирует ее (их единое происхождение подтверждается ничем не истребимой коррупцией чиновничьего аппарата и гостеррором, отменяющим закон введением объявленного или необъявленного чрезвычайного положения). В центростремительном страхе перед смертью при жизни личность, загнавшая его вовнутрь, не выбирает подходящее ей социальное позиционирование, а смотрит на любое предложение со стороны общества как на императивное, не подлежащее отклонению, ибо спасителен для нее ролевой образ как таковой, всякая – неконкретизируемая – возможность стать иной, чем она есть. Конформист онтологизирует социум, находя в нем эквивалентное замещение своей принадлежности к естественной, не преображенной человеком действительности. Пубертатный период – вторая ступень Эдипова комплекса, на которой домашний бунт ребенка против родителей перерастает в восстание дичающей психики («эгоистичного гена», если говорить на языке Ричарда Докинза) против социальности. В той мере, в какой подростковый вызов обществу не получает должного отпора, он стимулирует образование криминогенного характера. Конформист – существо, которому не удалось ни примириться с обществом (через посредничество семьи, школы и peer-группы), ни добиться удачи в агрессивном выпаде против него. Коротко: конформист – это правонарушитель, переживший фрустрацию. Возмещенная сервильной готовностью индивида без разбора выполнять социальный заказ, фрустрация реверсирует становление психики, устремляющейся не к развязке подросткового кризиса, отыскиваемой в интерактивном соотношении эго и супер-эго, а к делающемуся вновь актуальным детству – к тому положению самости, в котором она не могла не быть в конечном счете послушной, получая жизнеобеспечение от старших66. Конформист топчется на месте в преддверии истории, проецируя свой возвратный инфантилизм в большое социокультурное время. Приверженность приспособленцев к подражательности – симптом их регресса в детство. Что такое конформная абсолютизация посюсторонности и современности, как не закрепощенность в уже пережитом и вновь монотонно переживаемом?
Даже у тех, кто не был в течение жизни предрасположен к некритическому принятию своей современности, к старости нарастает потребность в соглашательстве с мейнстримом. Приближение смерти придает автообъектности преимущество в сравнении с субъектным «я» и, соответственно, обязывает индивида к покорному следованию социальным нормативам. Старческий конформизм имеет свою специфику. Пожилой оппортунист желает того, чтобы история, которую он более не в состоянии планировать из будущего, остановилась. Он бытиен операционально – по своему возрастному статусу. Между тем для подростка, становящегося конформистом, история вовсе иррелевантна, он бытиен не операционально, а помимо сознания своей ситуации, по некой внутренней необходимости.
Говоря об индивидном у животных и людей, мы подразумеваем совсем разные явления экземплярности. Биологическая индивидность определяется иммунной системой организма, гарантирующей его связность, согласованность его частей вопреки воздействиям извне67. Индивидность человека не только защитного свойства, она также исключительна. Самосознание возводит «я» в величину, антитетичную всему, что ни есть, делает «я» тем началом, из которого производится «постановка» «не-я» – в смысле Фихте68. Опыт социальной (в истоке семейной) жизни релятивирует суверенность авторефлексии, заставляя нас глядеть на себя чужими глазами, – в противоход к этому урезыванию самонравия личность доказывает свою особость в актах творчества. Историю питают персональные вложения в цивилизационно-культурное достояние общества, заставляющие приспосабливаться к ним их получателей. Конформное «я» ничему не противостоит. Оно пригодно к чему бы то ни было. Индивидное «я» релятивно, конформное – абсолютно, как само бытие. Конформист узурпирует бытие, тщетно вбирая его в себя. Бытийности жаждут ординарные люди застывающего быта.
4
Конформизм как он есть. Разумеется, ни одному из бытующих, как бы он ни старался адаптироваться к среде, не доводится добиться тождества между собой и сущим, что есть прерогатива Бога. Все сказанное выше о конформисте подразумевало некий идеальный его образ, в реальности не встречающийся. Но этот обман тех, кто ждет от претендующих на доказательность рассуждений, что в них осуществится adaequatio rei et intellectus, – полезное и неизбежное отвлечение от эмпирии, без которого в ней нельзя было бы разобраться и даже, более того, понять ее как именно противодействующую идеализации. Либо мы охватываем ее единым взглядом, проверяя наше видение на отдельных случаях, не поднимающихся до полноты эталона, но и не противоречащих ему, либо подвергаемся опасности выдать частное за общее, обмануть самих себя, не заметив фальши.
Одну из достойных внимания попыток перейти от абстрактной модели конституирования общества к конкретизации возможных в нем видов приспособительного и неприспособительного поведения произвел в статье «Социальная структура и аномия» (1938) Роберт Кинг Мертон69. Мыслительным допущением для покушающейся на эмпирическую релевантность типологии Мертону послужило различение между «культурными целями», преследуемыми человеком, и «институционализованными средствами», к которым он обращается. И наши духовные поползновения (1), и орудия, какие есть у нас в распоряжении (2), могут иметь, по Мертону, разное ценностное наполнение: положительное (+), отрицательное (–) и синкретически-амбивалентное (±). С этой аксиологической добавкой к своей основоположной посылке Мертон выстроил исчисление, куда вошли: конформизм (1 (+), 2 (+)), инновативность (1 (+), 2 (–)), ритуализм, то есть, скажу я, modus vivendi по архаическому образцу (1 (–), 2 (+)), эскапизм, к примеру бродяжничество или наркомания (1 (–), 2 (–)), и революционность, созидающая иной, нежели данный, мир (1 (±), 2 (±)). Я не буду оспаривать концептуализацию тех или иных слагаемых этого исчисления, хотя она того и заслуживает (справедливо, что конформист не дифференцирует культурно значимое и социально принятое, но последнее безраздельно доминирует в его мировидении, что не вытекает из предложенной схемы70), и ограничусь выражением сомнения в том, что верен исходный пункт мертоновской модели. В ее основании отсутствует самость, которая и только которая конфронтирует с социумом или покорно угождает ему. Мертон разграничивает антропологическое, манифестирующееся в духовной культуре, и социальное в качестве ее инкорпорирования в институциях и поведенческих конвенциях, к чему, вообще говоря, не приходится предъявлять никаких претензий. У культурных и технических достижений, из которых составляется история, общечеловеческое деяние, имеются, однако, инициаторы, пусть нередко и анонимные. Индивидное идет в своих творческих исканиях навстречу антропологическому. «Я» есть у каждого из нас, так что sensus privatus и sensus universalis находятся в фамильном сходстве. Индивидное потому и таинственно, что оно парадоксальным образом универсально, будучи свойственно любому из тех, кто обладает самосознанием, то есть всем людям. В тяге к поддержанию стазиса социальное (sensus communis) впитывает в себя историю страдательно, само по себе оно если и заинтересовано в ней, то только как в поставщике повышенного жизненного комфорта, каковой опять же укрепляет стабильность общества. Разумеется, мировоззренческие сдвиги генерируются внутри социума, а не где-то от него поодаль. У него есть также собственная диахрония, намеченная в переходе от самоорганизации к этатизму и, далее, в преобразовании статусно-династического общества в ролевое71. И все же преобладающее устремление социума – быть длительностью (longue durée), надежно функционирующим коллективным телом (corps social), которое транстемпорально восполняет неизбежную убыль индивидуальной плоти и консервативно противится мобильности Духа. Свое страдательное положение относительно истории общество, ставящее превыше всего кооперативность волеизъявлений, переадресует входящим в него индивидам, поощряя человека-функцию и цензурируя человека творящего. Лишь у личности есть шанс – вразрез со склонностью социума к консерватизму – принять участие в поступательном движении истории, в которой воплощает себя человек как таковой – homo creator. Самость же и расстается с этой возможностью, жертвуя собой на безупречной службе во благо социостаза. К обстоятельствам приспосабливается не род, а индивид, имеем ли мы дело с биоэволюцией, по ходу которой, по дружному мнению исследователей, свои пластические способности обнаруживает фенотип, или с социокультурной историей, которую притормаживает, замешкавшись в ее конъюнктуре, самость, чье поражение приял в себя homo socialis. В этой точке эволюция и история совпадают.
Путь от конформиста, которого я сконструировал умозрительно, к более или менее реальному лицу должен вести от нулевого эго, исчезнувшего в социальной роли, к некой положительной эго-величине. Совершенное отсутствие «я» ирреально. В крайних формах конформизма (допустим, при беспрекословном подчинении солдата армейской дисциплине) «я» приближается к нулю по экспоненте, оставаясь все же тем участником социальной игры, на которого падает ответственность за выполнение полученного им поручения. Субъектное «я» детерминируется у приспособленца объектным, но такое обусловливание не означает, что обратная связь между этими инстанциями напрочь обрывается. У конформиста есть остаточная субъектность. Процесс озеркаливания себя, неважно, где он берет начало – в «я»-субъекте или в «я»-объекте, поддается смене вектора на противоположный. Авторефлексия – маятниковое движение, потому что не выбивается за пределы «я», которое стоит и на ее входе, и на ее выходе, которое шагает от себя к себе же. В природе самосознания – примешивать симметрию к асимметрии автообъектности и автосубъектности. Разные типы конформизма, наблюдаемые теоретически невооруженным глазом повседневно, суть варьирующиеся формы симметрии, наслоившейся на неравенство, в котором объективированная самость взяла верх над объективирующей. У меня нет намерения обозревать эти типы с исчерпывающей их перечень законченностью (чем должна заниматься наука об обществе, а не социософия, поставляющая ей метод). Тем из них, что будут ниже названы, предназначено послужить не более чем иллюстрациями, удостоверяющими, что мой подход к приспособленчеству конвертируем в знание, не провоцирующее возмущение практического разума.
Одна из часто обсуждаемых как в биологии, так и в гуманитарных дисциплинах форм приспособления – мимикрия72. В человеческом общежитии она представляет собой такую уступку самостного начала социальному, при которой «я»-субъект в качестве функции от «я»-объекта в то же самое время скрывает в себе полный переворот этого соотношения. Мимикрант сливается с социальной средой, тайком оппонируя ей, разыгрывает роль, которая ему самому чужда, отрекается от себя только внешне, напоказ73. Разница между безотчетным конформистом и мимикрантом та же, что и между двумя актерами, один из которых в «Парадоксе об актере» (1770–1773) Дени Дидро сопричастен и помимо сцены «комедии мира», не отделяя себя от роли по отприродной предрасположенности к театральности, тогда как другой создает иллюзии для зрителей, а не для себя самого, контролирует интеллектом свое лицедейство, будучи от него умственно отчужденным. Чем актуальнее для общества преодоление кризиса, порожденного болезненной сменой правящего режима, тем шире оно ведет охоту на «замаскированных врагов», духовно не расставшихся с приверженностью к искореняемому прошлому, скрытно исповедующих религию или идеологию, которые несовместимы со вступившими во власть доктринами. В Советской России 1920–1930‐х годов разоблачения затаившихся противников тоталитарного строя приняли форму навязчивого массового психоза не в последнюю очередь по той исторической причине, что мимикрия, явленная в воспроизводившем себя самозванстве XVII–XVIII веков, была здесь когда-то реальной угрозой для государства. Трактовка мимикрии как двуличия не поддается распространению из социокультурного обихода на анималистическое царство. Мы принципиально неспособны вникнуть в то, как мимикрия изнутри переживается животными. Надо полагать, что как раз эта непрозрачность для нас биологической мимикрии и побудила Кайуа преподнести ее как магический уход (thanatosis) организма из сознания и жизни в среду, как адаптацию дó смерти («Мимикрия и легендарная психастения», 1935). С точки зрения существа par excellence авторефлексивного невозможность для него разделить чужое внутреннее состояние означает, что оно мертвенно. Пользуясь понятием мимикрии применительно как к эволюции, так и к истории, мы, по существу дела, впадаем в омонимию (в ее ловушку попал Ницше в трактате о морали «Утренняя заря» (1881), беззаботно поставив в один ряд масконошение у животного и человека).
В случае мимикрии две асимметрии, возникающие между активным и пассивным слагаемыми самосознания, оказываются целиком зеркально симметричными. Гибридность отличается от мимикрии тем, что симметрия лишь частично подчиняет здесь себе самосознание. Чаще всего к гибридной адаптации людей принуждает их вовлеченность сразу в две социокультуры, притом что одна из них (чужая) будет иметь преимущество перед другой (домашней). В эту ситуацию попадают прежде всего выходцы из колоний, мигранты и эмигранты. Очутившийся в ней индивид, притянувший к себе на подступах к XXI веку внимание исследователей постколониалистского толка74, имеет доступ к родной социокультуре как ее субъект, но объектен, приспосабливаясь в акте апроприации к ценностным предпочтениям метрополии или той страны, куда он переселяется. Обе идентичности – прирожденная и благоприобретаемая – не состоят у гибридного индивида в непримиримом конфликте, как у мимикранта. Они находятся в субординативном, а не в антагонистическом отношении друг к другу. Схватывает ли себя гибрид из своего субъектного или же из объектного положения, он не может не зарегистрировать переходности, которая его отмечает прежде всего. Она с необходимостью предполагает, что пересечение двух его «я»-образов не пусто, что у них есть общая часть (хотя бы таковой и была лишь сама ценностность разно ориентированных социокультурных установлений). Наличие общего подмножества у двух множеств не допускает того, что они во всем их объеме будут сопряжены одно-однозначной отрицательной корреляцией, необходимой для формирования зеркальной симметрии. При дистанцирующемся от гибрида взгляде на него он предстает монструозным олицетворением искажения и вырождения, которым подвергается его материнская или осваиваемая им социокультура. В полемической реакции на такую его трактовку, собственно, и сложились постколониальные штудии конца прошлого и начала нынешнего столетий. Взгляд, партиципирующий половинчатый конформизм, напротив того, сосредоточивается на его преобразовательно-креативных возможностях. С обеих точек зрения сущностью феномена становится его ценностное содержание, но первично она не более чем ситуативна и, так сказать, своелогична.
С двумя бегло разобранными модусами конформизма контрастируют еще две его разновидности – метанойя и ассимиляция (не по Пиаже, помянутому прежде75, а в социологическом значении термина, указывающем на смешение со средой чужеродного ей индивида). Эти приспособительные тактики противоположны мимикрии и гибридности в том, что диахронически разрывают старую и вновь обретаемую идентичности человека, между которыми образуется зияние, отменяющее их сосуществование в притворно-камуфляжном и компромиссном конформизме.
Метанойя не просто лишь по произволению самости случающаяся перемена ума, а такая его трансформация, которая берет на учет ранее иррелевантный для нас авторитет, подгоняет Дух под готовый пример (скажем, Христа, в которого уверовал фарисей Савл, ставший апостолом Павлом). Конформный к тому, чему предстоит наступить, и к уже надвинувшейся на современность конъюнктуре индивид отрицает в покаянном порыве свое прежнее «я», так что его обличья – изначала присущее ему и приспособительное – располагаются столь же зеркально симметрично, как и у мимикранта, но в исторической последовательности, а не параллельно, как у того. Сдвиг от превалирования в самосознании индивида «я»-субъекта к отдаче себя во власть «я»-объекта, несмотря на всю свою решительность («Ломайте себя о колено», – призывал современников Виктор Шкловский, прощаясь с формализмом и занявшись, по собственному выражению, «несвободой писателя»76), вовсе не обязательно результируется в замирании воли к творчеству, хотя бы такой эффект и был частым исходом метанойи. Как показывает судьба авангардистов, притерпевшихся в Советской России с нарастанием сталинизма к предписаниям тоталитарной эстетики (к примеру, Ильи Эренбурга, сочинившего индустриальный роман «День второй» (1932–1933) о генезисе «вредительства»), личность может продолжать быть продуктивной, и подпав под тиранию социума. Впрочем, сама продуктивность в этом случае была даже не однократно, а вдвойне имитационной, коль скоро авангард, пошедший на сделку с соцреализмом, и руководствовался не им самим утвержденными принципами, и соучаствовал в развертывании художественной системы, нацеленной на консервацию добытого в искусстве XIX века. И еще раз «впрочем»: конформизм авангардистов был предвосхищен их, как выразился бы Батай, «внутренним опытом», заключавшимся в подмене произведения искусства готовым предметом (objet trouvé) и в фактографическом вытеснении формотворчества установкой на «материал».
Вследствие метанойи, духовного эксцесса, перелома мировоззрения, старая идентичность человека если и сохраняется им, то только в памяти. Ассимиляция, подобно взрывной идеологической перестройке индивида, аннулирует его былую социокультурную принадлежность в пользу иной, избранной им. Однако, погружаясь в гетерогенную ему среду, он, как бы ни старался добиться совпадения с ней, удерживает в себе прошлое не только в его идеальном виде, но и реально, физиологически – по телесному своему происхождению. Ассимиляция, где бы и кем бы она ни предпринималась77, не эксцессивна, а процессуальна, никогда не достигая своей конечной цели, путь к которой запирает не поддающаяся рождению заново плоть. Неассимилируемое тело – мостик, перекинутый между взаимоисключающими ипостасями индивида, жаждущего довести до победного конца свою аккультурацию, та «прóклятая часть» (я опять пользуюсь словарем Батая), что делает это желание не осуществимым вполне78. Ассимилянт, стало быть, сходен с гибридной личностью в том плане, что у обоих захват самосознания симметричным упорядочением несовершенен, и разнится с ней по степени своего, делающегося радикальным, отрыва от материнской социокультуры. Можно также сказать, что гибридность – это первая ступень ассимиляции. В книге «Еврейская самоненависть» (1930) Теодор Лессинг объяснил болезненное противоречие, в какое впадают ассимилянты (он и сам был одним из их представителей), разжигаемым ими восстанием Духа, который «тиранически» угнетает «несущую его предсознательную жизнь»79. Я бы переформулировал это соображение, несколько пренебрежительное к Духу, в том нейтральном смысле, что ассимиляция натыкается на безразличие организма (этой лейбницевской себе довлеющей монады) к нашим душевно-умственным побуждениям. Ассимилянт репетирует в конформистском исполнении ту драму, в которой участвует всякий человек, коль скоро озабоченная его спасением социокультура не в силах обеспечить его организму непреходящую витальность, становясь поэтому никогда не удовлетворяющейся собой историей. Телесность – препятствие и для порождения социокультуры, и для ее апроприации. Если еврейской диаспоре и впрямь, как думал Лессинг, присуща интровертированная ненависть, то она имеет антропологические корни, попросту говоря, человечна. У нее есть хорошо известный беснующийся внешний двойник. В своей глубине антисемитизм противочеловечен. Он терроризирует ассимилянта par excellence, разыгравшего во второй раз расселение человека с места его возникновения по всей планете. За антисемитизмом, кроме того, скрывается жажда конформистов, безотчетно сдавшихся на милость обществу, деструктивно отмежеваться от тех, кто пускается на соглашательство с ним в ясном сознании своего предприятия.
Заключу обсуждение модусов конформизма методологическим замечанием. Переход от реконструкции общего строя приспособленчества к его специфицированным проявлениям на практике не потребовал принесения логики в жертву просто наблюдению и регистрации фактов. К практике конформизма оказалось возможным подойти, придав исходной абстрактной модели диалектический оборот, рассмотрев полные и парциальные формы превращения асимметричного самосознания в зеркально симметричное. Иначе и не может быть. Ибо сама эмпирия в сфере деятельности человека есть не что иное, как продукт операций его ума, реализация наших интеллектуальных способностей, логичных в силу того, что им приходится быть доказательными для самих себя, раз их нет нигде, кроме как в нас.
1
Simmel G. Schriften zur Soziologie: Eine Auswahl / Hrsg. von H.-J. Dahme, O. Rammstedt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983. S. 280 ff.
2
Мид Дж. Г. Философия настоящего / Пер. В. Николаева, В. Кузьминова. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014. С. 129. Впервые: Mead G. H. The Philosophy of the Present. La Salle, Il.: Open Court, 1932.
3
Simmel G. Op. cit. S. 54 ff.
4
Pfordten O., von der. Konformismus: Eine Philosophie der normativen Werte. 1. Teil. Theoretische Grundlegung. Heidelberg: Winter, 1910. S. 90.
5
Ibid. S. 15–16.
6
Horkheimer M., Adorno Th. W. Dialektik der Aufklärung. Amsterdam: Querido Verl., 1947. S. 159.
7
Marcuse H. Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969. S. 171–180.
8
Marcuse H. Aggressivität in der gegenwärtigen Industriegesellschaft // Marcuse H. et al. Aggression und Anpassung in der Industriegesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968. S. 26 (полный текст: S. 7–29; далее такие ссылки – без пояснений).
9
Mitscherlich A. Aggression und Anpassung // Ibid. S. 124–125 (80–127).
10
Об истории антиавторитарного психоанализа, ревизовавшего заветы «сверхотца Фрейда» и боровшегося против «репрессивной педагогики», см. подробно: Richter H.-E. Bedenken gegen Anpassung: Psychoanalyse und Politik. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1995; Das Selbst zwischen Anpassung und Befreiung: Psychowissen und Politik im 20. Jahrhundert / Hrsg. von M. Tändler, U. Jensen. Göttingen: Wallstein-Verl., 2012.
11
Ср., например: Wiswede G. Soziologie konformen Verhaltens. Stuttgart et al.: Kohlhammer, 1976. S. 154–165.
12
Еще одним побудительным толчком для нынешнего недифференцированного понимания конформизма стало широкое внедрение в обиход техники, управляемой искусственным интеллектом, тем более совершенным, чем более его адаптация к разного рода ситуативным неожиданностям оказывается не реактивной, а проактивной, чем точнее он угадывает то, что может случиться, – см., например: VanSyckel S. J. System Support for Proactive Adaptation: PhD Thesis. Mannheim: Business School, 2015.
13
См. хотя бы: Ployhart R. E., Bliese P. D. Individual Adaptability (I-Adapt) Theory: Conceptualizing the Antecedents, Consequences, and Measurement of Individual Differences in Adaptability // Understanding Adaptability: A Prerequisite for Effective Performance with Complex Environments / Ed. by C. Sh. Burke, L. G. Pierce, E. Sales. Amsterdam et al.: Elsevir JAI, 2006. P. 3–39.
14
Smith P. K. Why Has Aggression Been Thought of as Maladaptive? // Aggression and Adaptation: The Bright Side to Bad Behavior / Ed. by P. H. Hawley, T. D. Little, Ph. C. Rodkin. N. Y.; London: Psychology Press, 2007. P. 65–83.
15
Brandstädter J. Das flexible Selbst: Selbstentwicklung zwischen Zielbindung und Ablösung. Heidelberg: Elsevir, Spektrum Akad. Verl., 2007. S. 89 ff.
16
Ibid. S. 37 ff.
17
Пионером изучения человека с позиции «инвайронментального детерминизма» был Эмилио Ф. Моран, рассмотревший приспособительные реакции у обитателей арктической зоны, высокогорья, пустыни, степи и тропиков с упором на «высокую метаболическую гибкость людской популяции»: Moran E. F. Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology. Boulder, Co.: Westview Press, 1982. P. 94. Общее место сегодняшней биокультурной антропологии – поиск объяснения нашего поведения в инвайронментальном давлении и «биологической памяти о стрессе» – см., например: New Directions in Biocultural Anthropology / Ed. by M. K. Zuckerman, D. L. Martin. Hoboken, N. J.: Wiley Blackwell, 2016.
18
Slavin M. O., Kriegman D. The Adaptive Design of the Psyche: Psychoanalysis, Evolutionary Biology, and the Therapeutic Process. N. Y., London: Guilford Press, 1992. P. 83 ff.
19
Ср. еще изображение общества как «суперорганизма», изменения в котором аналогичны более или менее случайным мутациям, предоставляющим в своей вариативности человеку возможность подыскать себе оптимальный поведенческий образец: Shennan S. Genes, Memes, and Human History: Darwinian Archeology and Cultural Evolution. London: Thames & Hudson, 2002.
20
Ср.: Mitscherlich A. Op. cit. S. 93 ff.
21
К истории представлений о биоадаптации ср., например: Amundson R. Historical Development of the Concept of Adaptation // Adaptation / Ed. by M. R. Rose, G. V. Lauder. San Diego et al.: Academic Press, 1996. P. 11–53.
22
Wesson R. Beyond Natural Selection. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1991. P. 155.
23
West-Eberhard M. J. Developmental Plasticity and Evolution. Oxford, UK: Oxford UP, 2003. P. 8–10.
24
Ibid. P. 28 ff.
25
Ibid. P. 630 ff.
26
О биоадаптации в чрезвычайных ситуациях см. подробно: Wharton D. A. Life at the Limits: Organisms in Extreme Environment. Cambridge, UK: Cambridge UP, 2002.
27
Еще более затянуто взросление человека – см., например: Lerner R. M. On the Nature of Human Plasticity. Cambridge, UK et al.: Cambridge UP, 1984. P. 85 ff.
28
Одним из значительных этапов в пересмотре дарвинизма стала не утратившая влиятельности и по сию пору книга Ивана Шмальгаузена «Факторы эволюции (Теория стабилизирующего отбора)» (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946). Главная движущая сила эволюции, по Шмальгаузену, – это мутации, которые, в принципе, «вредны» для популяций, поскольку подрывают уже сложившуюся норму приспособления организмов к природному окружению. Тем не менее благодаря естественному отбору продолжают существовать и, более того, возглавляют эволюцию те организмы, измененное состояние которых доказало свою жизнестойкость. «Авторегуляторное развитие» (с. 82) жизни легитимируется или, напротив, стесняется извне. Эволюция протекает у Шмальгаузена по гегелевской схеме отрицания отрицания: внешняя действительность «элиминирует» мутации, нарушившие видовую адаптацию. Но при этом та же самая действительность не глушит мутации, вследствие которых организмы получают возможность активнее, чем раньше, на нее воздействовать. «Освобождение организмов от детерминирующей роли факторов среды» (с. 11) обеспечивает переход от низших к высшим формам жизни, с чем нельзя было бы не согласиться, если бы Шмальгаузен не впал в тягостное противоречие: каким образом одна и та же детерминирующая инстанция (среда), отсеивая одни мутации, допускает другие, и притом как раз те, которые противятся ее детерминантному характеру? Снять эту неувязку не поможет никакой диалектический кульбит. Шмальгаузен искал компромисс между генетическим и адаптивным подходами к эволюции, но надежно примирить то и другое ему вряд ли удалось. У книги Шмальгаузена есть еще один аспект, о котором не стоит забывать, критикуя ее основоположную мысль, а именно: гражданский. Сама она менее всего была результатом соглашательства автора с временем, бросая вызов засилью обезличивавшего общество сталинизма. Шмальгаузен писал среди прочего: «Свобода индивидуальной конкуренции <…> является одним из основных факторов эволюции» (с. 354).
29
В этом смысле поведенческая пластичность, порожденная обучением, отнюдь не аналогична эволюционно-приспособительной – ср. противоположное мнение: Pigliucci M. Phenotypic Plasticity: Beyond Nature and Nurture. Baltimore; London: The Johns Hopkins UP, 2001. P. 182–196.
30
Попытки концептуализовать наши мыслительные стратегии в качестве приспособительных («…люди рациональны в адаптивном смысле <…>», – провозглашает, к примеру, Джон Андерсон (Anderson J. R. The Adaptive Character of Thought. Hillsdate, N. J.: Erlbaum, 1990. P. 31)) отнимают у человека вместе с правом на иррациональность, фантазирование, идеологическую активность и выработку дедуктивных конструкций самовластие, которое нельзя понять иначе как омнипотентность, присваиваемую себе интеллектом, не считающимся с ограниченными возможностями наших тел. Ср. еще одну «натурализацию теории познания»: Engels E.-M. Erkenntnis als Anpassung? Eine Studie zur Evolutionären Erkenntnistheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. Заявленный в этой работе тезис, согласно которому «эволюционный успех особи „человек“» вытекает из приспособительной интенции познания (S. 14 ff), ставит вне закона и эксперименты, создающие искусственные, лабораторно сконструированные условия для проверки гипотез, и лежащий в основе научного рационализма методологический принцип Фрэнсиса Бэкона, нацеливавшего в «Новом Органоне» (1620) исследователей на то, чтобы те подвергали природу анатомическому «разъятию», открывая ее тайны, лишая ее власти над человеком.
31
Соответственно: отрицание рынка дегуманизирует социокультуру. Ставя в «Понятии политического» на одну доску «обмен» и «обман» (Tauschen/Täuschen), Карл Шмитт одновременно не только свернул социальные отношения к борьбе не на жизнь, а на смерть, но и пренебрежительно отозвался о «человечестве», которое «как таковое не может вести никакой войны» (Schmitt C. Der Begriff des Politischen: Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. Berlin: Duncker & Humblot, 1996. S. 76, 34–35). Шмитт обознался: у человечества есть общий враг – смерть каждого из нас.
32
Мартин Хайдеггер назвал мир животных «бедным», «недостаточным», охарактеризовав по контрасту с этим человека как существо с «мирообразующей» способностью (Heidegger M. Gesamtausgabe. II. Abteilung: Vorlesungen 1925–1944. Bd. 29/30. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Frankfurt am Main: Klostermann, 1983. S. 274 ff). Но сказать так – мало. Человек не просто создает образ универсума, будучи эквивалентным пресуществующему ему миру, но и делает эту картину сменной, пребывает в историзованном мультиверсуме.
33
Соловьев В. Чтения о Богочеловечестве; Статьи; Стихотворения и поэма; Из «Трех разговоров»: Крат. повесть об Антихристе / Вступ. ст., сост. и примеч. А. Б. Муратова. СПб.: Худож. лит., Санкт-Петербург. отд-ние, 1994. С. 145–146.
34
К проблеме разнородности той реальности, где осуществляется эволюция, ср.: Brandon R. N. Adaptation and Environment. Princeton: Princeton UP, 1980. P. 45–77.
35
Plessner H. Zur Anthropologie des Schauspielers [1948] // Plessner H. Mit anderen Augen: Aspekte einer philosophischen Anthropologie. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1982. S. 136–163.
36
Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organisation of Experience. N. Y. et al.: Harvard UP, 1974.
37
Ср. обратную моей привязку реактивной и инструментальной агрессивности к адаптации: Card N. A., Little T. D. Differential Relations of Instrumental and Reactive Aggression with Maladjustment: Does Adaptive Depend on Function? // Aggression and Adaptation… P. 107–134.
38
См. подробно: Malinowski B. Crime and Custom in Savage Society [1926]. Totowa, N. J.: Rowman & Allanheld, 1985. P. 75 ff.
39
Spencer H. The Principles of Sociology (1876–1896). Vol. II. P. 2. N. Y.; London: Appleton, 1896. P. 134 ff.
40
Lipp W. Einleitung // Konformismus – Nonkonformismus: Kulturstile, soziale Mechanismen und Handlungsalternativen / Hrsg. von W. Lipp. Darmstadt; Neuwied: Luchterhand, 1975. S. 19–23 (19–95).
41
Wharton D. A. Op. cit. P. 31.
42
Здесь не место вникать в судьбы ламаркизма, вылившегося, как и дарвинизм, в длительную и разветвленную традицию. Стоит все же сказать, что теория Ламарка зародилась на границе между Просвещением и романтизмом. Как и мыслители XVIII столетия, к которым в следующем веке примкнул Дарвин, Ламарк понимал естественное окружение организма по сенсуалистской парадигме в качестве силы, возбуждающей жизненную динамику. Но у живого есть и внутренняя предрасположенность к совершенствованию органов, посредством которых оно вступает в контакты с миром. Среда дает повод для прогресса организмов, участие которых в развитии одушевленной материи, однако, имманентно им. Особь заведомо равна и не равна себе. Овнутривание стороннего влияния определяет интеллигентность организма и позволяет ему передавать благоприобретенные признаки по наследству. Поставив акцент на их наследовании, Ламарк отдал дань романтической абсолютизации генезиса. Романтической по своему духу была и та предпосылка ламаркизма, по которой существа сразу самотождественны и не тождественны себе.
43
Galton F. Essays in Eugenics. London: The Eugenics Education Society, 1909. P. 20.
44
Skinner B. F. Beyond Freedom and Dignity. N. Y.: Knopf, 1972. P. 145 ff, 184 ff.
45
Nietzsche F. Werke in zwei Bänden. Bd. I. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellshaft, 1973. S. 361, 348–349.
46
Давиденков С. Н. Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии. Л.: Государственный Институт усовершенствования врачей, 1947. С. 41.
47
Эта импликация дарвинизма игнорируется теми, кто прослеживает традицию, заложенную «Происхождением видов», – ср., например: Geulen Ch. Wende ohne Ende: Darwin als Diskursbegründer // Historische Wendeprozesse: Ideen, die Geschichte machten / Hrsg. von K. E. Müller. Freiburg; Basel; Wien: Herder, 2003. S. 231–255.
48
Fromm E. Escape from Freedom. N. Y.; Toronto: Farrar & Rinehart, 1941. P. 158 ff.
49
Moustakas C. E. Creativity and Conformity. Princeton et al.: van Nostrand, 1967. P. 37 ff.
50
Serres M. Le parasite. Paris: Grasset, 1980.
51
См. подробно: Смирнов И. П. Выживание-через-смерть: 1920–1930‐е годы // Смирнов И. П. Второе начало (в искусстве и социокультурной истории). М.: Новое лит. обозрение, 2022. С. 188–216.
52
Тоталитарная социокультура разнится, таким образом, от обычных способов увиливания от истории, к которым Теофило Руиз отнес хилиастический мистицизм, эстетизм и гедонизм (Ruiz T. F. The Terror of History: On the Uncertainties of Life in Western Civilization. Princeton; Oxford, UK: Princeton UP, 2011).
53
Таково было мнение Джорджа Каспера Хоманса – см., например: Homans G. C. Sentiments and Activities: Essays in Social Science [1962]. New Brunswick, USA; Oxford, UK: Transaction Books, 1988. P. 282 ff. Ср. еще: Homans G. C. Elementarformen sozialen Verhaltens. Köln; Opladen: Westdeutscher Verl., 1968. S. 97–109; на англ. яз.: Social Behavior: Its Elementary Forms. N. Y.: Harcourt, Brace & World, 1961.
54
Peuckert R. Konformität: Erscheinungsformen – Ursachen – Wirkungen. Stuttgart: Enke, 1975. S. 78 ff, 114 ff.
55
Hegel G. W. F. Phänomenologie des Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. S. 146 (курсив – в оригинале).
56
Вот почему чрезвычайно наивно видеть в конформном поведении лишь результат нашей восприимчивости к внешним влияниям, как это представил бывший советник Барака Обамы Касс Санстейн: Sunstein C. R. Conformity. The Power of Social Influences. N. Y.: New York UP, 2019.
57
Об истории изучения массы см. подробно: Бобринская Е. Душа толпы: Искусство и социальная мифология. М.: Кучково поле, 2018; Смирнов И. П. Быт и инобытие. М.: Новое лит. обозрение, 2019. С. 340–361.
58
Heidegger M. Gesamtausgabe. Bd. 63. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Frankfurt am Main: Klostermann, 2014. S. 294 (курсив – в оригинале).
59
Но в опознании смертоносности бытия Хайдеггер не был конформистом, что отразилось в его скором отказе от ректорства и в многочисленных выпадах против нацистского режима, содержащихся в его текстах второй половины 1930‐х годов, которые он писал в стол.
60
Freud S. Massenpsychologie und Ich-Analyse: Die Zukunft einer Illusion. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verl., 1986. S. 52.
61
См. статью L. Lowenthal и N. Guterman «Prophets of Deceit. A Study of the Techniques of the American Agitator» [1949] в изд.: Adorno Th. W. et al. Der autoritäre Charakter. Bd. 1. Studien über Autorität und Vorurteil. Amsterdam: De Munter, 1968. S. 20 ff, 42 ff (1–84).
62
У разрушительности, которой предается конформист, есть свой предел. В прославленном эксперименте, предпринятом Стэнли Милгрэмом в 1963 году, подопытные должны были усиливать (до 450 вольт) удары током по симулировавшему мучения сотруднику лаборатории, когда тот допускал ошибки в ответах на обращенные к нему вопросы. Чем авторитарнее бывал руководитель эксперимента, тем более послушно испытуемые выполняли правила игры. Но чем ближе они располагались к жертве, впрямую сопереживая ее страдания, тем чаще отказывались продолжать опыт.
63
Гудков Л. К проблеме негативной идентификации [2000] // Гудков Л. Негативная идентичность: Ст. 1997–2002 годов. М.: Новое лит. обозрение; ВЦИОМ-А, 2004. С. 271 (262–299).
64
Неисключающее отрицание современности – conditio sine qua non для закладки архива социокультуры. Покоясь как-никак на отрицании времени сего часа, пусть и не ультимативном, архив контрастирует с культом предков в том, что приобщает их лику не всех умерших, сортирует уходящих в небытие. В известном смысле архив являет собой место наказания для тех, кто составляет большинство в социуме, поскольку сберегает память о лицах, либо превзошедших в своих творческих дерзаниях уровень рутинной социализации, либо доведших свой конформизм до степени героического самопожертвования при отстаивании общественных интересов.
65
Об этих трех инстанциях, способствующих превозмоганию пубертатного кризиса, и о фигуре медиатора, опекающего подростка, см. подробно: Scott R., Scott W. A. Adjusment of Adolescents: Cross-Cultural Similarities and Differences. London; N. Y.: Routledge, 1998.
66
К проблеме семьи в случаях приспособленчества/мятежности ср.: Sperber M. Anpassung und Widerstand: Über den unvernünftigen und vernünftigen Gebrauch der Vernunft. München: Europaverl., 1994. S. 153–175.
67
См. подробно: Praden Th. Immunity and the Emergence of Individuality // From Groups to Individuals: Evolution and Emerging Individuality / Ed. by F. Bouchard, Ph. Huneman. Cambridge, Mass.; London: The MIT Press, 2013. P. 77–96.
68
Fichte J. G. Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie [1794]. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1991. S. 73.
69
Статью Мертона «Social Structure and Anomie» цит. по: Социология преступности. (Современные буржуазные теории): сб. ст. / Пер. Е. А. Самарской. М.: Прогресс, 1966. С. 299–313.
70
Не удержусь от еще одного упрека по адресу Мертона. Он занес эскапизм («ретретизм») в разряд поведения, не наделенного положительной признаковостью. Такое усмотрение абсолютизирует социальность, расценивая то, что из нее выпадает, как сугубую негативность. Но беглец из общества не теряет ни индивидуальности, ни принадлежности к роду человеческому. Скорее даже гипертрофирует оба эти измерения, прибавляющие в значимости за счет убывания социальной идентичности.
71
О соотношении логоистории и истории, имманентной социальному миру, я писал в другом месте: Смирнов И. П. Социософия революции. СПб.: Алетейя, 2004. С. 290 след.
72
О приложениях понятия мимикрии и его истории см. подробно: Cha Kyung-Ho. Humanmimikry: Poetik der Evolution. München: Fink, 2010.
73
Ср. анализ мимикрии, поименованной «оппортунизмом», на материале поведенческих стратегий, бывших ходовыми в ГДР: Fritze L. Verführung und Anpassung: Zur Logik der Weltanschauungsdiktatur. Berlin: Duncker & Humblot, 2004. S. 94 ff.
74
См. в первую очередь: Bhabha H. K. The Location of Culture. London; N. Y.: Routledge, 1994. P. 102 ff; Young R. J. C. Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race. London; N. Y.: Routledge, 1995.
75
Словоупотребление у Пиаже восходит, по всей видимости, к Фоме Аквинскому, который подразумевал под assimilatio слияние спекулятивного интеллекта с Богом.
76
Шкловский В. Третья фабрика. М.: Круг, 1926. С. 98–101, 67.
77
О разнообразии ассимиляции см., например: Zwischen Anpassung und Subversion: Sprache und Politik der Assimilation / Hrsg. von A. B. Kilcher, U. Lindner. Paderborn: Fink, 2019.
78
В статье «Скрытая традиция» (1948) Ханна Арендт указала на тот след прежней идентичности у ассимилировавшихся авторов евреев (у Генриха Гейне, Бернара Лазара, Франца Кафки), который запечатлевается в их творчестве в фигуре парии (Arendt H. Die verborgene Tradition. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976. S. 46–73). Причислив к этому ряду также Чарли Чаплина, Арендт, видимо, ошиблась – его этническая принадлежность загадочна.
79
Lessing Th. Der jüdische Selbsthass. München: Matthes & Seitz, 1984. S. 34 (курсив – в оригинале).