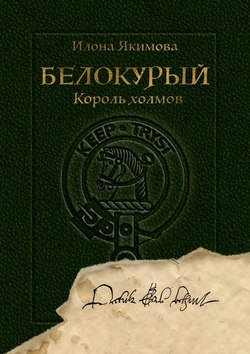Читать книгу Белокурый. Король холмов - Илона Якимова - Страница 3
Король холмов
ОглавлениеПустоши Бьюкасла простирались на север до старой крепости, за которой лежали Лиддесдейл, Тевиотдейл – и неприятности.
Алистер Моффат, «История рейдеров Приграничья»
Alistair Moffat, «The reivers: the story of the border reivers»
Шотландия, Приграничье, Лиддесдейл, лето 1528
И назывался гарнизон замка весьма красноречиво – свора Хермитейджа.
Это молодой граф узнал наутро, когда проспавшийся дядя Болтон отправил к нему МакГиллана – разбудить его милость, привести в божеский вид и пригласить откушать, чем Бог послал, ибо разносолов в Хермитейдже отродясь не водилось. Когда граф в превосходном расположении духа спустился в холл, Болтон восседал за господским столом, деликатно оставив племяннику место хозяина дома, и, морщась, поглощал из кувшина темный эль. Его передергивало от каждого глотка, и он с отвращением покачивал косматой, черной с проседью головой. Но пил снова. Голова гудела нещадно.
– Доброго утра, дядя! – жизнерадостно приветствовал его Белокурый. – Его преподобие епископ Брихин, к слову сказать, просил передать вам…
– Да пошел он к черту, его преподобие, там ему самое место! – рявкнул дядя, не стесняясь тем, что перебивает своего лэрда, и так Патрик понял, что тут, в Хермитейдже, семейные ценности стоят, пожалуй, повыше титульных. – Как будто я не знаю, что за гадость Джонни может мне передать… не благословение, надеюсь? Сюда садись, ваша светлость.
– Нет, – отвечал Патрик, усаживаясь в хозяйское кресло на помосте, по правую руку от которого и похмелялся доблестный хранитель замка. – Но, пожалуй, его слова отчасти можно счесть беспокойством о вашем здоровье… он передал пожелание.
Холодная оленина, тушеный кролик, острый овечий сыр, свежий хлеб – МакГиллан ловко выставлял на стол перед графом дары его новой вотчины.
– Сдохнуть от пьянства? – с пониманием переспросил Болтон между глотками. – Да?
– Нет. Не опухнуть от пьянства.
– А, одна сатана… – захохотал дядя, львиная голова в растрепанных волосах и бороде в пол-лица затряслась, и хранитель замка зарычал, снова схватившись за кувшин. – Твое здоровье, граф Босуэлл!
И отрезал себе на закуску добрый кусок оленины.
Через холле тем временем сновали рейдеры, и кто в открытую, кто бегло – но все смотрели туда, где на возвышении, на помосте, первый раз за двадцать лет было занято место главы семьи и лэрда Лиддесдейла – и кем? Белокурым долговязым юнцом, который расположился на троне рейдерского замка в позе, полной изящества, присущей разве что придворному щеголю. Конечно, здесь слыхали о наследнике Хепбернов, но, во-первых, никто никогда не видел его в Долине, а во-вторых, никто из рейдеров не ожидал себе именно такого господина. Все острее Патрик кожей ловил эти взгляды – недоуменные, недоверчивые, полувраждебные – но не подавал и вида, что замечает их. Нынешней ночью в замок пропустили брата хранителя, Ролландстона, с его ребятками, и мало до кого дошло, что на деле-то это сам Босуэлл прибыл в Хермитейдж-Касл. А те из местных, кто отсыпался у камина после ночной ходки, так и в открытую прислушивались к разговорам за большим столом. Все уши стояли торчком от любопытства.
Тем временем в зал спустился и Ролландстон, все еще сонный и мятый с долгой дороги. Патрик смотрел на обоих своих дядьев и в голове всплывали слова Брихина – «одинаковые, как горошины из стручка». Теперь-то он понял, что это значит.
– Уилл! – заорал Ролландстону ничуть не менее помятый старший брат. – Ты вовремя! А ну, гони сюда этих сволочей, кто не пьян и не в рейде! Живей, живей, сколько нам с графом ждать еще!
Холл поспешно заполнялся рейдерами, их гомоном, запахом, пестротой платья, скрипом кожаных сапог и курток, негромким побрякиванием оружия… помост окружали люди, с которыми Патрику предстоит провести не год и не два, если он в самом деле намерен покорять Лиддесдейл. Они вошли, разговаривая, дожевывая хлеб, сплевывая в ладонь вишневые косточки, поигрывая ножом… от стола поднялись с чаркой эля. Матерые волки, ровесники Болтона, седеющие, прожженные черти, и совсем молодые, не старше своего нового лэрда, лица которых уже несли печать дерзости и развращенности. Усталые и выспавшиеся, сытые и голодные, просмердевшие лошадьми, виски и черным порохом, пропитанные кровью, разбоем и воровством.
Но Патрика Болтона не устраивало их мягкое небрежение к важности момента. И дядя взревел иерихонской трубой над ухом едва не подскочившего на месте графа, не подозревавшего о такой мощи Болтонского голоса:
– А ну, все закрыли пасть и замерли, я сказал! Тишина! – Болтон обвел взглядом притихших рейдеров и веско продолжил. – Свора, я дожил до счастливого дня. Сын моего брата Босуэлла, наследник семьи Хепберн, глава рода, лэрд Лиддесдейл вернулся в Долину, в Хермитейдж-Касл! Сегодня я слагаю с себя обязанности хранителя Караульни…
Тут уж повисла мгновенная тишина не по приказу. Болтона здесь любили и знали, а теперь народ гадал, куда примется мести новая метла – слишком красивый юноша, сидящий неподвижно, точно алтарная резная скульптура, в кресле их господина. И тишина обернулась к нему жаждущей ответа сотней глаз. Патрик осмотрел эти живописные рожи – большая часть рейдеров была старше него едва ли не вдвое – и, поскольку решительно не знал, что сказать, произнес единственно верное:
– Здорово, ребята! Я – ваш лэрд, я вернулся и буду тут жить.
– Да здравствует Босуэлл Третий! – рявкнул Болтон, делая широкий взмах рукой. – Многие лета лэрду Лиддесдейла!
Его поддержали нестройным ревом. Свора далеко не была уверена, что им так уж нужен лэрд. Половина из гарнизона, посмотрев на Белокурого, решила, что пацана можно всерьез не принимать, вторая половина понадеялась, что все и дальше будет, как при Болтоне. Как выяснилось позже, ошиблись все.
Включая самого графа.
Издалека, из Стерлинга и Эдинбурга, приграничное будущее виделось ему веселым, беззаботным приключением – чем-то вроде летних каникул в Хантли. Сейчас, наблюдая перед собой тех, кем ему предстояло править твердой рукой, Патрик впервые засомневался в удачности своей идеи – вломиться в Приграничье на волне воодушевления от быстрой зачистки столицы – да еще пренебрегая перспективами, открывавшимися при дворе без всяких хлопот… что там обещал ему коронованный кузен Джейми? Замок Танталлон? Ну, и зачем же он не согласился? Даже осажденный в родовом гнезде, огрызающийся Ангус сейчас казался ему более подходящим противником, чем собственная свора – ибо там хотя бы понятны были правила войны.
– По-моему, я им не понравился, – сказал граф Ролландстону, когда рейдеры были отпущены хранителем и разошлись по своим делам.
– А тебя это в самом деле заботит? – удивился Уильям. – Ты – не крона, чтобы всем нравиться, ты – лэрд. Подойдет время, еще станут любить, как миленькие… обожать станут.
Ролландстон с хрустом, сладко потянулся и улегся на скамье возле камина, укрывшись плащом. В следующее мгновение он уже опять спал.
Когда глядишь из окна спальни лэрда на берег быстрой и неглубокой вне паводка Хермитейдж-уотер, то сразу на той стороне, за бродом, который с полумилю правей, за омутом Килдэра, видна огромная, унылая, гнилая трясина – первый рубеж обороны коварной Караульни Лиддела. В трех милях к западу на берегу реки стоит полузаброшенная, трехсотлетней давности часовня, еще Сулисами отстроенная, и при ней же кладбище, заросшее травой – тихое место для вернувшихся в землю рейдеров. Если уж лечь под сочный дерн, подумалось Босуэллу, то не здесь, среди кровников… В старинном деревянном особняке возле часовни, с которого и началась история лэрдов в этих краях, ныне Болтон держал конюшни для галлоуэев и сторожевую часть гарнизона. А дальше – холм Дамы и колодец Дамы у его подножия, и стекающий с холма ручей… их было три, огибающих Хермитейдж-Касл: проток Дамы, Замковый и Зеленый, и естественные русла ручьев, перерезающих топкую землю, вокруг замка углублялись до рвов. Трудно штурмовать Караульню Лиддела, но трудно даже представить, как добраться в это разбойничье гнездо с армией для штурма – артиллерия завязнет в болоте, тяжелые кони уйдут в зыбкую почву по бабки. Даже галлоуэи проберутся только по заранее проставленным вешкам, по секретной тропе… а коли и проберутся – попадут под арбалетные болты и залп аркебузиров с верхней смотровой галереи по контуру башен, ибо день и ночь там прогуливается дозор, и среди влажного летнего зноя, и согреваясь огнями жаровен в промозглой зиме. Караульня никогда не дремлет, Караульне до всего есть дело, и никто не войдет в Долину и не покинет ее без ведома самого лэрда, графа Босуэлла, господина рейдеров.
Однако, насаждать господство – задача не из простых. Рейдеры, узрев лэрда, разошлись в недоумении, хотя и без прямого протеста. Негласно среди них было решено подождать-посмотреть. Он – Хепберн, в конце концов, и, быть может, хоть по крови не так уж никчемен, как по смазливому лицу. Отдельно к лэрду Лиддесдейлу были званы его капитаны, точней, капитаны Болтона. Патрику предстояло набрать своих людей, если эти молодому хозяину не глянутся. Было их трое – Клем Полуухий Крозиер, кряжистый и молчаливый, разве парой лет младше Болтона, заросший по те самые полтора уха окладистой бородой, рука его даже в покоях лэрда лежала на рукояти поясного ножа; рыжий, долговязый, худой Оливер Бернс Вихор, такой же несгибаемый и стальной, как его джеддартский жезл; и самый молодой среди подручных Болтона, Джон Хепберн Бинстонский. Последний был на полголовы ниже своего кузена лэрда Лиддесдейла, лет на пять-шесть старше, мощно и сильно сложен и также заметно светловолос, как и сам Белокурый.
– Бинстон? – с подозрением переспросил Патрик, окидывая кузена с ног до головы не самым дружелюбным взглядом. – Двоюродное сорное племя?
– Лорд Болтон, – скучающе отозвался Джон, лишь мельком взглянув на родственника и господина, словно по-прежнему здесь Патрик Болтон был всему голова, – коли вам моя рука более ни к чему, так я возвращаюсь к себе… со всеми своими.
– Но-но! – цыкнул на него Болтон. – Я здесь уже не хозяин, коли граф отпустит – тогда уйдешь… а ты, племянник, не судил бы о людях по имени. Джон мне вот уже три года – первая подмога и капитан лучшей сотни.
– А по чему мне судить, если не по имени, дядя? Имя в наших краях – полчеловека.
– Иногда и весь целиком, – согласился Болтон. – Но этот весь целиком – Хепберн, вот об этом думай, а не о подонке Морэе…
Джон Бинстон сощурился, бросил насмешливый взгляд сперва на бывшего хранителя, затем – на нового лэрда:
– Если что, так Патрик Хепберн Бинстон, епископ Морэй – мой двоюродный дядя, лорды… но вы-то были об этом осведомлены, лорд Болтон, когда принимали меня под свой штандарт.
– Не та родня, которой бы хвастаться, – отрезал Белокурый.
У него в долгой памяти бинстонские Хепберны были связаны не только со сварливым и распутным Морэем, но и с открытым сомнением в законности его, Патрика, происхождения… и этого-то он кузенам забыть и простить никак не мог.
– Уж какая есть! – возвысил голос Джон, вздернув подбородок.
– Парни, хватит собачиться! – осадил обоих Болтон. – То есть… это… помолчи, Джонни… и вы охолоните, ваша светлость. Я за Джона Бинстона ручаюсь головой. А что у тебя не заладилось в Сент-Эндрюсе с «повелителем шлюх» – дело прошлое, – и прибавил вовсе глубокомысленное. – Здесь тебе – не там!
Бинстон молча поклонился Болтону, затем ожидал решения графа.
– Поживем – увидим, – мрачно отвечал тот.
Хермитейдж-Касл, внутренний двор, Лиддесдейл, Шотландия
Но трудно, ох, как трудно держать фасон перед этими прожжеными, порой не понимая и слова из тех, которыми они так небрежно обмениваются. Первые пару месяцев в Приграничье Патрик постоянным трудом сгонял с лица выражение ошеломленного недоумения – ему все время казалось, что он воистину попал на другую сторону луны. Собственно, так оно и было.
Ничего общего с его прежней жизнью родовитого вельможи, придворного щеголя, приора Сент-Эндрюса, любимого кузена Джеймса Стюарта. Где они, королевские охоты на кабана, жаркая гальярда, изящные дамы, их ножки, обтянутые чулком, в парчовых башмачках? Девчонки Приграничья босы круглый год, а поговорить в Караульне решительно не с кем, кроме обоих его дядей, из которых Уильям – прирожденный молчун, а Патрик частенько пьян – не от развращенности натуры, а от той же скуки. И Белокурый, которому еще не было ни нужды, ни страсти напиваться каждый вечер, помянув добрым словом душу покойного приора Джона Хепберна, распаковал связку прадедовых книг, чтобы хоть немного сгладить умственный голод. Читал он перед сном, растянувшись на медвежьей шкуре у камина – единственное теплое место во всей спальне, полной сквозняков – или запалив свечу возле постели. Йан МакГиллан не один раз спасал лэрда от пожара, гася среди ночи забытый огонь в его покоях. Но книги мертвы, а живые люди были вокруг него каждый день. Те самые живые, кем он собирался править твердой рукой, но поначалу не мог запомнить, кто из них кто. Рейдерских фамилий было не так уж много, но по несколько поколений приграничников зачастую жило в одном и том же местечке, на одной ферме, а если уж и нескольких братьев в роду крестили, по семейной причуде, одинаково… Местные звали друг друга не по имени, и даже не по имени рода, а по названию земли, фермы, урочища во владении. Или по бойкой кличке. Все – и даже могучие лэрды, хозяева мощных укрывищ, замков, пилтауэров – тут имели прозвища, когда насмешливые, когда устрашающие, когда непристойные, но всегда весьма точные и живописные. Это хоть как-то помогало разобраться в бесчисленных Уолтерах Скоттах, Джоках Эллиотах и Вилли Армстронгах… Что там отличия в привычках и обычаях быта, когда здесь даже говорили на ином языке – на галлоуэйском гэльском и на лиддесдейлском арго, состоящем из нижнешотландского диалекта, англицизмов, местных воровских и непристойных словечек. Детьми или ребятками назывались, к примеру, те, кто был дважды вне закона – и как рейдеры-налетчики, и как люди, от которых отказался даже собственный лэрд ввиду их полной неуправляемости. «Конченые», как их еще звали, сбивались в собственные банды, независимо от фамилий, и были непричастны к одному конкретному роду. Часто они же ходили и под церковным отлучением – Гэвин Данбар, архиепископ Глазго и королевский канцлер, когда еще излил на них смолу и серу гневных речей в Карлайле, предавая их полному, неснимаемому, неисцелимому проклятию, но «детей», похоже, это мало беспокоило… поглядев на отдельные рожи, граф пару раз припомнил Брихина, которому их приходилось еще и исповедовать, когда Джон совмещал ремесло налетчика в Долине со своим церковным поприщем. Так вот откуда это брихинское «ребятки» в резне на Коугейте, в тупике Белой лошади…
Местные пастухи, да и вообще – местные черти, вели счет всему – скоту и людям – на староваллийском. У Босуэлла первое время скулы сводило оскоминой от кривой их привычки ставить единицы впереди десятков, от всех этих «четыре и двадцать» вместо «двадцать четыре», от всех tedderte-medderte. Но довольно скоро он обнаружил, что и сам начал говорить так же – соринки типуном липли на язык, не сходили после уже никогда. Это был язык жестких мужчин, скотоводов, грабителей и воров, полный скабрезностей, гэльских и саксонских словечек, пришедших в Шотландию за сотни лет до того, как чертовы норманны оказались на острове. Годовалая скотинка называлась саксонским stirk, а суягная овца – траханной овцой. Про тупицу говорили – да тебя, верно, баран в голову отымел.
– Что это они там делают? – спросил граф, с караульной галереи наблюдая за причудливыми действиями скотников в овечьем загоне на берегу протока Дамы.
– А овцам зад зашивают. Чтоб баран не вскочил. Что, неужто не видел никогда?
Некоторое время Патрик думал, что Болтон подшутил над ним.
Жизнь с Брихином была деятельной, так или иначе. Учеба, правосудие приора Сент-Эндрюса, присутствие на церковных службах и в городской управе, затем – обживание Босуэлл-Корта, два двора – королевы и молодого короля, веселая жизнь под угрозой расправы Ангуса и вблизи сердечно расположенного Джеймса Стюарта… интриги, интриги, дамы, тяжелая от крови и вина голова, охота на кабана, побег из Фолкленда, бойня в тупике Белой Лошади. С двенадцати лет завершились шалости детства, и граф был все время чем-то занят. Но прошло уже с неделю пребывания Патрика в Караульне Лиддела, когда он понял, что наставника больше нет. И что ему самому нужно придумывать себе дело, входить в подробности управления имуществом, землей, людьми.
– Дядя, хоть счетовод-то у вас имеется?
– Имеется, – с хрустом зевнул Патрик Болтон. – Эй, кто там! А ну, давайте-ка сюда Джибби Ноблса!
– Сассенах? – неприятно удивился Патрик.
– Ну, какой же это сассенах? Он со Спорных земель. Да что я говорю, сейчас сам увидишь…
И когда дверь в покои лэрда отворилась под натиском Йана МакГиллана, граф в самом деле увидел… это действительно не был сассенах, но то был и не шотландец. Существо, по-доброму подслеповато выглядывающее из-за спины хмурого горца, вообще не было человеком, так показалось Босуэллу на первый взгляд. Как-то сразу хотелось предложить ему кусочек хлеба и блюдце с молоком, потому что перед Патриком, застенчиво взглядывая то на носки своих грубых разваливающихся башмаков, то на молодого графа, стоял самый настоящий брауни. Счетовод Хермитейдж-Касла, Джибберт Ноблс, был мал ростом, нескладен, худ, но с небольшим брюшком, с непомерно длинными руками, кисти которых, казалось, свисали ниже узловатых колен на коротких ножках, когда он, как сейчас, стоял в полунаклоне, всей странной своей фигурой выражая почтение к новому хозяину. Рыжеватые волосы клочками на круглой голове, физиономия вся в складочку, нос кнопкой, рот, свисающий по обе стороны лица, маленькие темные глазки, поблескивающие голышами-окатышами, вроде тех, на перекатах Хермитейдж-уотер… Хобгоблин Синяя Шапка, натурально, подумалось Патрику, интересно, где дядя его раздобыл? Их специально, что ли, разводят на Спорных землях? Ничего невозможного в этом не было, если уж ведьмак лорд Сулис держал тут, в замке, в подвалах, своего личного Красношапочника, красившего колпак кровью невинных жертв колдуна, грохотавшего железными сапогами и размахивавшего лейтской секирой… чтобы избавиться от морока, Белокурый заговорил:
– Мастер Ноблс, принеси-ка мне расходные книги, коли есть здесь что-либо подобное…
Синяя шапка отвесил поклон, отвечал неожиданно приятным голосом:
– Не извольте беспокоиться, лэрд, все в полном порядке, – и поглядел на бывшего хранителя замка.
– Это уж без меня как-нибудь, – отмахнулся Болтон и вышел из покоев вон. – Я внизу, если понадоблюсь…
В Хермитейдж-Касле по стенам гуляли чудовищные сквозняки – галлоуэя с копыт свалят, хотя сами стены были завешены древними гобеленами, шерстяными пледами, оленьими, овечьими и коровьими шкурами – для тепла. Стылые камеры комнат даже летом топились торфом и хворостом, коли последний удавалось раздобыть на болотах. Где уж тут до роскоши и уюта восстановленного Брихином Босуэлл-Корта… Вместо кресел – лавки и длинные скамьи со спинкой и подлокотниками, где под сиденьем устроен ларь, и там хранятся всякие сокровища лэрда Болтонского, как то – несколько особенно длинношерстных овечьих шкур, две-три штуки толстого сукна, разрозненные железки от арбалетов, пистоль, связка стрел, еще пистоль, еще стрелы, кисет с порохом и пулями, фляга виски, запасной почти новый джек, еще фляга виски, побольше первой, пересохшая чернильница… Кресел, собственно, было всего два – одно в покоях лэрда, и второе, подобье грубо сколоченного деревянного трона – тоже для лэрда, на месте хозяина в холле, на помосте, где вместо стола – доски, уложенные на козлы, но льняное полотно на них натягивают служанки отменно чистое, хотя и грубого тканья. Каменный пол засыпан вереском и пахучими травами, среди которых белой пеной выступают свежие соцветья таволги. Их затаптывают в слякоть до вечера, но на рассвете пол выметается, укрывается новым благоухающим покровом. Окна прорублены только во втором этаже и выше, там, где уже начинаются жилые покои, но и те – скорей уж бойницы, не окна, узки и черны, словно глаз гадюки. В хмурые, дождливые дни темно в замке круглые сутки, лишь свет жаровен, факелов в настенных петлях да каминов освещает Караульню Лиддена – в этом красноватом дымном отсвете спят, бродят, играют в кости, пререкаются друг с другом, предвкушают добычу и считают потери темные тени рейдеров. Особенно мрачно становилось, когда от дождя закрывали ставни. Окна в холле имели свинцовый переплет, и графы Босуэлл были настолько богаты, что даже могли позволить себе вставить настоящие стекла не только в окна личных комнат, но в один из холлов, и даже не вынимать их из рам, чтобы забрать с собою, отправляясь на жительство, скажем, в Хейлс. Стекла в окнах Хермитейдж-Касла были непреходящим поводом к зависти для соседей – того же Уолтера Скотта, лорда Бранксхольма-Бокле, хотя и Бранксхольм, прямо скажем, был крепостью не из нищих. Когда первый раз при Белокуром зарядил добрый приграничный дождь, дней на пять без перерыва, Патрик впал в настоящую тоску, из которой выбрался только посредством виски пополам с Цицероном. В такую погоду, да в темных, освещенных только жаром камина покоях, болота вокруг Хермитейджа, видимые в щель ставен, наводили на душу настоящую хмарь. Он почти начинал понимать пьянство Болтона… но вздохнул, сказал себе, что не затем приехал сюда, чтобы спиться, и принялся при свече изучать бумаги, с готовностью предоставленные ему счетоводом, которого он про себя по-прежнему звал Синим колпаком. Караульня жила по-мужски сурово, но приходо-расходные книги ее были, благодаря Джибберту Ноблсу, в полном порядке. Правда, записи в них содержались куда более оригинальные, нежели ожидал увидеть Белокурый. Хотя – неужели Брихин не намекал ему? Отчего, так увлечен своей придворной карьерой, он не выпытал у епископа раньше и все эти дела, и их подробности?
Хобгоблин Ноблс писал с педантичной аккуратностью, почерком мелким, резким, словно птичий скок. Странно было увидать в этом захолустном углу такую чистую манеру ведения бумаг. Примерно половина книги была заполнена записями Патрика Болтона – крепкий и жирный унциальный шрифт, куда более ясный, чем изящная вязь епископа Брихина. Железный Джон, между тем, молчал, словно воды набрал в рот. Не то, чтобы Белокурый ждал от него любовных писем, но без ехидства младшего дяди ему было как-то не по себе. В конце концов, они довольно долго прожили бок о бок – мог бы и поинтересоваться успехами племянника в Приграничье.
– Если ваша милость желает, я могу дать подробнейшие пояснения, – мягко сказал Джибби Ноблс, возвращая графа от размышлений к действительности.
Босуэлл поднял голову. Он сидел за столом, листая толстый том, Ноблс стоял напротив, чуть изогнув и без того кривоватый хребет, с видом полной покорности господину. Стоять ему было неудобно, однако он терпел и только моргал маленькими, глубоко посаженными глазками, но понять, что отражается в этих глазах, кроме дрожащего огонька свечи, было невозможно. Кусок торфа в камине рухнул в глубину топки, рассыпавшись фонтаном искр, и отсвет упал на руки Джибберта Ноблса, сложенные на животе – крупные суставы кистей, бугристые, узловатые, искривленные… это какая-то болезнь, отвлеченно подумал граф, Брихин что-то такое рассказывал про своих нищих… или то были не нищие? Ему должно быть дьявольски больно держать перо, этому смешному человечку.
Патрик разрешающе махнул рукой, опять углубился в книгу. Ноблс с благодарностью присел на скамью в отдалении.
Довольно скоро граф привык разбирать и пространные изложения счетовода, и короткие фразы дяди. Вот запись от двадцать второго года в самом начале тома… «Колдингэм. Необратимо». Твердый, уверенный, без наклона почерк Патрика Болтона, все буквы прописные. Дальше, в двадцать третьем, «Керр, два. Необратимо. Уплачено сто пятьдесят», в двадцать четвертом – «Джорди Хепберн, Оливер Крозиер. Необратимо. Принято по семьдесят». Все это перемежалось вполне миролюбивым «принято пятнадцать галлоуэев от Раутледжа», «принято тридцать голов молочного скота от Грэма», «выдано пять фунтов на увечье Нилу Крейгу», «принято четыре гостя, по сто на каждого» – если не знать, что это были финансовые результаты рейдов по ту сторону границы, из года в год, за осень-зиму каждого года больше всего. Здесь же были учтены доходы от продажи краденого скота на ярмарках в Джедбурге, Мелроузе, Карлайле, и немалые деньги текли в казну графа Босуэлла из Караульни Лиддела, лорд Болтон, по-видимому, был удачливый рейдер и рачительный хозяин. «Принято от Форстера… Робсона… Ридли… Чарлтонов… Милбурна». Принято, принято, принято. Где дважды, где трижды. Как видно, в иные хлебные места Болтон наведывался регулярно. О, что-то знакомое! «Принято Джоном Хепберном от Фенвиков». Епископ нарисовался перед внутренним взором как живой – в седле и с джеддартом, правда, тогда он еще не был де-факто епископом, конечно… «Расход на дозор: пять фунтов черного пороху, фунт свинца, три десятка стрел для щеколды» – стрелы для щеколды поставили графа в тупик, он поднял голову, смахнул со лба светлую витую прядь, спросил у Синей шапки:
– А «необратимо», надо полагать?
– Да, – тихо отвечал тот.
– А суммы?
– Вира за кровь, полученная или данная жалобщикам.
– Что ж, видно, Керры стоят дороже наших… зачем же он это пишет? Это ведь прямое признание вины.
– Лорд Болтон, – отвечал печальный брауни, поблескивая умными глазками, – во всем любит порядок. А до книг никому, кроме меня, дела нет.
И потер пальцы на руках, при этом лицо его исказилось не болью, но воспоминанием о боли, а съехавший с запястья рукав рубахи обнажил старый, круглый шрам от ожога, похожий на печать… и Белокурый внезапно все понял. Болезнь тут была не при чем. Но с тем большим уважением он подумал о Ноблсе, способном теперь так чисто вести свои книги.
– Не стану спрашивать, мастер Ноблс, кто переломал тебе пальцы…
Джибби бросил на молодого лэрда взгляд, полный ужаса, и поник головой.
– Я… я сам…
– Сам? Будет, мастер Джибберт… я спрошу о другом: чего ты хочешь?
Ноблс медленно поднял голову, потом поднялся с лавки, потом, как показалось лэрду, попытался встать на колени, однако ноги не слушались, и он снова рухнул на скамью.
– Ваша милость…
– Чего ты хочешь, Джибберт Ноблс? – мягко повторил Белокурый. – Говори, пока я спрашиваю об этом.
И в голосе молодого графа показалась и заворочалась, как медведь на лежбище, такая сила, что Ноблсу стало не по себе уже не от страха. Он решился.
– Небольшой дом, ваша милость… совсем маленький. И кусок земли, где я смогу устроить сад.
Он выпалил это, как самое трепетное – на исповеди, темные глаза его блеснули мокрой галькой.
– И женщину, чтобы стала хозяйкой и родила тебе детей?
– Нет, не надо, – стушевался Ноблс. – Только сад. Я был женат, ваша светлость, это не по мне.
Белокурый откинулся в кресле, рассматривая человечка перед ним, корчившегося от страха пополам с надеждой. Когда-нибудь секрет Ноблса выйдет наружу, а сейчас им нужно договориться. Во власть страха он верил постольку-поскольку, значит, оставалась надежда. Всегда надежней, когда оба эти чувства идут голова к голове – и держат свою жертву накрепко.
– Ты получишь дом и кусок земли, – сказал он ошеломленному Джибберту. – И любую девушку, какую захочешь, в жены, – и после того, как Ноблс несколько минут пытался поверить своим ушам, спросил через паузу с холодным интересом. – Когда тебе размозжили кости, когда прижигали раны каленым железом, очень было больно, Джибберт Ноблс?
– Да, – отвечал тот, глядя на молодого графа, словно кролик на филина. – Очень, ваша милость…
– Ты благословишь эту боль, Джибберт, и будешь молить о ней, прежде чем отправишься путем Рамсея… если хоть одно слово из нашего разговора выйдет за стены моих покоев, если хоть одна страница из этих книг найдет своего читателя… ты понял меня, мастер Ноблс?
Александра Рамсея, друга и соперника, лорд Дуглас уморил голодом в подвалах Хермитейжа, продлевая пытку тем, что иногда передавал пленнику еду. Синий колпак смотрел на своего лэрда со смешанными чувствами ужаса и благоговения. Лорд Болтон спас Джибберта от односельчан, пытавшихся по наущению супруги Джиба изгнать из него дьявола – по случаю удачно подпалив селенье, Болтон развлечения ради вытащил Ноблса из пруда, искалеченного и наполовину захлебнувшегося, но он никогда, никогда не спрашивал счетовода о заветной мечте, полагая, что уже подарил ему все самое лучшее – жизнь. Ноблс поклонился Белокурому с глубоким почтением:
– Да, ваша светлость!
Граф Босуэлл брезгливо спихнул с края столешницы стопку расходных книг прошлых лет:
– Вот это все – в огонь, мастер Джибберт. И дай-ка мне последнюю…
При третьем Босуэлле бумаги Хермитейджа велись исключительно на денежном языке, никаких больше «необратимо» – придраться не к чему, хотя, по правде сказать, необратимостей от этого меньше не случалось.
Лорд Болтон и лорд Ролландстон играли в кости возле камина в большом зале, и Ролландстон преспокойно и постоянно проигрывал, как оно, впрочем, бывало почти всегда, когда сверху-сзади над их равно косматыми головами прозвучал ясный голос:
– Лорд Болтон, есть разговор. Правильно ли я понял из ваших записей…?
На лестнице стоял Белокурый, с удовольствием обозревая открывшуюся ему картину, в руках у него была книга в грубом кожаном переплете, в которой Болтон безошибочно узнал записи приходов по своим рейдам.
– … что вы, дядя, вы – хранитель Хермитейдж-Касла, вы – мастер Хейлс и следующий граф Босуэлл, если я умру бездетным, вы – самый обычный рейдер? – продолжил Патрик с ехидной усмешкой, гуляющей на красивом лице.
В общем, он представлял, что дела в Долине идут криво, но чтобы так… вовремя же он вырвался сюда от короля в чине лейтенанта шотландской короны.
– Почему обычный? – обиделся лорд Болтон. – Смею думаю, что не из худших!
И заново метнул кости.
Собственно, Патрик и не ожидал раскаяния, но всякому бесстыдству ведь есть предел.
– Дядя! – окликнул он, спускаясь в холл. – Извольте уделить мне немного внимания, пока я не уделил его себе сам.
Болтон с готовностью отозвался на легкое раздражение, уже просквозившее в голосе графа.
– Пожалуйста, ваша светлость, – согласился он, отставляя стаканчик с брякнувшим содержимым в сторону, поворачиваясь всем корпусом к Белокурому. – Что именно тебя не устраивает?
– Не устраивает меня то, что я – хранитель Долины и Средней Марки, а вы, мой ближайший родственник, моя правая рука, моим же именем творите во вверенных мне землях разбой, грабеж и убийства…
Повисла пауза. Теперь даже Ролландстон поднял голову и вместе со старшим братом воззрился на племянника. Белокурый же, в свою очередь, был искренне изумлен их удивлением.
– Ты как с луны свалился, – с уважением сказал наконец Болтон. – Не хочу тебя разочаровывать, Патрик, но вообще-то в Лиддесдейле только и есть два занятия для благородного человека – добрый налет в сезон и кровная резня с соседями во все остальное время. Слышь, Уилл, наш граф, кажется, не имеет ни малейшего понятия о настоящей жизни в Долине…
– А откуда ему иметь-то? – рассудительно возразил Ролландстон. – Зато ихняя светлость говорит на латыни лучше даже, чем маленький Джон. Но ты-то ему в состоянии объяснить, что к чему, братец?
– Попробую, – с сомнением отозвался старший дядя. – Но ведь он не понимает даже, что на самом деле значит – хранитель! – и когда граф, хмурясь, подозревая в дядиных словах подвох, уселся к столу с ними рядом, продолжил. – Значит так, ориентируемся, племянник. От века Восточной Маркой правят лорды Хоум, из которых родом отец твоей сестры, и Керры из Кессфорда, леворукие черти. Западная марка – это Джонстоны и Максвеллы, сейчас это твой второй отчим, Джон Максвелл, дай Бог ему здоровья. Ну, а по Средней Марке, мы, Хепберны… то есть, ты. Граф Босуэлл. Правда, Фернихёрст или Бокле горло бы разорвали за то, чтобы занять твое место.
– Это который Бокле? – на всякий случай переспросил Патрик.
– Да все тот же, прежний, Уот Вне-Закона.
– Мне Брихин про него рассказывал.
– Хорошо, хоть про что-то рассказывал. Оно и понятно, он нашему Джону приятель был.
– А вам?
– А по мне, – Болтон задумчиво поскреб в затылке, – лучше вовсе не иметь приятелей, да и по тебе, ваша светлость – тоже. Чтоб руки себе на рейд не связывать. А то – сунешься с десяток галлоуэев угнать с пастбища, но нельзя – приятелевы же. Несподручно. Ладно… хранитель Долины. Хранитель Марки. Это значит, что твоих будет сотня фунтов жалованья – Ангус в прошлом году именно столько хапнул за то, чтобы вместо тебя быть Хранителем. И еще твое – кошт для конников, прокорм лошадям и людям. Это неплохо, а дальше – как повезет. Ежели поймал кого на контрабанде с поличным – половину в казну, и вторую тебе. Ежели взял на погоне с краденым, и это доказано – то же самое. Штрафы от судов смотрителей, когда они сходятся в Дни перемирия, наши и английские, разбирать общий разбой – и они частично тебе. Конфискованное имущество всех воров и правонарушителей, заключенное в движимость – и оно твое, ради, как оно там… по статуту… ради твоих трудов и забот, о как! Правда, половину твоего общего дохода ты должен сдать в казну, но кто его точно-то считает, твой доход, кроме Джибби Ноблса, а с тем разговор короткий. В общем, должность хорошая, жирная, кормовая, да и прижать кого надо при случае позволяет… кто спросит с Хранителя? Сам король? Так ему и своих дел хватает, чтобы думать о Приграничье.
Такая трактовка никак не совпадала ни с одним соображением Белокурого. Одно дело – при случае раз-другой поживиться за счет должности, в том греха нет, но возводить в основной источник дохода… Закон и порядок – именно это он обещал королю, объясняя свое стремление на Границу. То-то Джеймс Стюарт так скептически принял его слова, выходит, король-то, несмотря на свое долгое заточение в Эдинбурге, был осведомлен о делах приграничных куда поболее, чем пылкий новоиспеченный лейтенант.
– Но есть же ведь закон королевства… – возразил Белокурый Болтону.
Но тот только хмыкнул в бороду:
– Закон, милый мой, тут один – длина меча. И прав ты всегда тоже на длину меча, не больше. Ты вон к Керрам за законом сходи или к Джонстонам. Безоружного вздернут, вооруженного зарежут, если ошибешься с числом сопровождающих… и не надо кривить лицо, ваша светлость. Ты выжить хочешь или быть правым? Когда я приехал в Хермитейдж после смерти Адама, мне было девятнадцать, и думал я примерно, как ты. А в первую же неделю моего пребывания в замке зарезали Долгого Ниала… Ниала помнишь, Уилл?
– Помню, как же. Он вроде твой молочный брат был… – Ролландстон в продолжение всего разговора меланхолично правил охотничий нож на жестком, снятом с пояса ремне, а после пробовал на голенище сапога.
– Не только молочный, – и Болтон пояснил графу. – Бастард твоего деда, мать как-то не успела извести ни соперницу, ни мальчишку. И мой лучший друг был Ниал, Царствие ему Небесное… ну вот, а еще дней через десять, поняв, что не испугали, и меня сняли с седла арбалетной стрелой. Чуть Богу душу не отдал, провалялся полтора месяца, кровь стала гнить уже, однако здешняя знахарка отходила, пополам со святой водой отца Брайана…
– Сассенахи? – несколько наивно уточнил Белокурый.
– Какое сассенахи! Джон Скупец Джонстон, Лохвудский лэрд. Ну, штурмовать Лохвуд я был тогда не в силе, поэтому, когда тот предложил виру за кровь, я взял. Но если ты сейчас, как хозяин Лиддесдейла, надумаешь припомнить, так я с удовольствием подновлю старый счет… хотя и лэрд в Лохвуде уже другой. Так что, когда я оправился от раны и заново вышел в поле, пощады от меня больше никто никогда не видел. И тебе давать слабину не советую.
– Что ж, здесь все время война? – спросил Белокурый, минутку помолчав.
– Разве ж это война… жизнь! Видел ты здешние земли, успел разглядеть? И людишек здешних, и то, как они живут? В глинобитных хижинах, в мазанках, дунь – развалится. Жрут круглый год вареную брюкву с морковью, ежами похлебку сдабривают. Если же овца заболела и сдохла – вот уж и пир на полгода! Скот здесь все – кровь, плоть, мясо, шкура, тепло, постель… жизнь сама, и если ты ее отнимаешь у приграничника, то будь готов к кровной мести. Но крадут все и у всех, это уж как водится. Пахать, сажать-сеять… две трети почвы – глина, остальное – торф. Что тут вырастет? Так, горсть овса, да сено, на корм скоту, если повезет. А если пройдет дождливое лето, вот как нынешнее, так и вовсе земля не родит. Какой выбор у местных? Сдохни от голода или кради. Вот и крадут, крадут…
– Те, что в мазанках – оно понятно, дядя, – возразил граф, – но вы-то, мастер Хейлс? Вам смерть от голода вроде бы не грозит.
Но лорда Болтона не так-то просто было сбить с темы, если уж он оседлал конек.
– Во! – сказал он многозначительно, воздев толстый палец для привлечения внимания, какового, впрочем – привлечения – и не требовалось. – Во! А вот теперь уже действительно – сассенахи, понимаешь ли! Сассенахи, южаки и прочие скоты телесного образа. Скажи-ка, наша светлость, приходилось ли тебе видеть… нет, не налет, а хотя бы – приграничные фермы после налета англичан?
Пришлось признаться, что нет.
– Уничтоженные до камня дома? Пепелища? – продолжал допрашивать Болтон. – Расчлененные трупы, брошенные воронам? Подожженные пустые поля? Вырезанный скот, который не хватило рук увести с собой? Оскверненные могилы? Убитых монахов? Разрушенные аббатства и руины церквей?
При каждом новом вопросе что-то такое проходило мельком в лице графа Босуэлла – не отвращение, не печаль, не злость, даже не ненависть – но что-то быстрей и горше всего перечисленного, словно этими заклинаниям лорд Болтон извлекал со дна души прекрасного придворного рыцаря ядовитый и черный, накопляемый с поколениями осадок кельтского духа… Можно было бы посчитать, что Болтон сгущает краски, однако сидящий рядом Ролландстон, в прямолинейной честности которого графу уже не раз выпадал случай убедиться, отмечал кивком каждое новое обвинение.
– А вот тут, – развивал свою мысль Болтон, – уже выступаешь ты. Хочешь, как граф Босуэлл, лэрд Лиддесдейл, а хочешь – и как хранитель Долины и Марки. И режешь их под корень так, чтоб никому неповадно было. После того, что они творили на шотландской земле, начиная от Эдуарда Длинноногого, чтоб ему в пекле икалось, костлявому дьяволу, все, вообще все, что на той стороне границы – наше.
Повисла тишина, только слышно было посвистывание по коже ножа в руках Ролландстона.
Болтон хмыкнул, плеснул себе эля и добавил, улыбаясь в бороду:
– Ну, и на этой нашего – будь здоров. Вот в том же Лохвуде, к примеру…
Белокурый тоже потянулся за элем, немного помолчал, потом сказал хмуро:
– Ладно… я понял, дорогой дядя. Вы держите свору для самых разных целей, отличных от закона и порядка.
– Я держу свору, – веско отвечал Патрик Болтон, – по одной только причине, если уж начистоту. Хорошо… по двум! Во-первых, чтобы кормиться самому и кормить тебя, ваша светлость. А чтобы свора в голодный год не сожрала меня лично, я с наслаждением отпускаю их попастись к сассенахам. А во-вторых, я держу свору, чтобы меня не сожрали соседи. И потом, ну, распущу я их… дальше что? Они живут в седле, и к мирным делам не пригодны. Хочешь посадить их на землю, сеять-жать… мое почтение, завтра же ищи их на Спорных землях под командой какого-нибудь «конченого». А так они тащат в дом все, что смогут урвать у южан. Исключений для жадности настоящего рейдера только два – все, что слишком тяжелое, и все, что слишком горячее…
Никто из троих собеседников даже не улыбнулся, ибо то была и не шутка.
– Всякий, кто вышел в поле – твой враг. И всякий, кто встретился тебе на дороге – твоя добыча. Не обманывайся ни дружбой, ни бондами. Что, Джон и вправду не говорил тебе?
– Мы были при дворе. При дворе все несколько по-другому.
– При дворе, – неожиданно вступил Ролландстон, – ровно все точно так же, господин граф. Только в шелках и бархате.
Патрик поднимался к себе в башню в чувствах самых смятенных, хотя и не подавал виду. Согласиться с позицией дядьев означало предать доверие короля, противиться действительности – с большой вероятностью, означало идти против здравого смысла. Но независимо от того, какое решение примет он, как лейтенант короны, для начала нужно было стать настоящим местным лэрдом, хотя бы с виду. И дней десять спустя приезда в Хермитейдж-Касл Дивный граф, покорствуя судьбе, совлек с себя придворные одеяния, понимая, что смотрится среди своих людей по меньшей мере глупо, и МакГиллан убрал в сундуки и бархатные, шитые золотом дублеты с алмазными пуговицами, и колеты по немецкой моде, и короткие плащи с беличьей опушкой, и боннеты, украшенные кистями, рубиновым аграфом, пером заморских птиц. Туда же, в кипарисовый сундук, пошли модные короткие штаны, чулки, подвязки, тупоносые туфли танцора, дамского угодника, лощеного кавалера… и вместо всего этого на свет божий Йан извлек две дюжины рубах тонкого льняного полотна, дедов плащ, тартан «гордон-хантли», подаренную еще Брихином стеганую безрукавку рейдера, которая здесь, в холмах, называлась просто – джек, суконный боннет с пучком тонких ястребиных перышек, узкие высокие сапоги из оленьей кожи, поясной ремень с ножнами для охотничьего клинка, спорран с тисненой эмблемой – голова коня, разорвашего узду… Да еще Патрик велел МакГиллану пошить ему с полдюжины штанов плотного сукна и несколько шерстяных дублетов, хотя большей частью времени предпочитал разгуливать лишь в рубахе, в тартане, обернутом вокруг бедер на горский манер, да в кожаном джеке, чем по первости вызывал недоумение в рядах собственных рейдеров, ибо таким образом в Мидлотиане одевались разве что бедные из бедных. Но потом и рейдеры привыкли. Лорды-дядья только переглянулись, увидав на плечах Белокурого схваченный фамильной брошью «олд-хепберн». Давненько никто не носил этих цветов в Приграничье… Ролландстон крякнул, но ничего не сказал.
– Ты это, только в седло так не садись, голубчик, – оценил новую моду лэрда практичный Болтон, – сотрешь бубенчики под самое основание… а они, покамест ты законных не наплодил – наша семейная драгоценность!
Как когда-то – железный Джон, Патрик Болтон присматривался к новообретенному племяннику, выжидал слабины. Ему хотелось понять, каким ветром занесло к Хермитейдж этого юного красавчика, чем это грозит лично ему, Болтону, и справится ли Белокурый со своей ролью, не треснет ли с первых же дней у графа хребет под ярмом лэрда, главы, хозяина, господина. Патрик не смог сдержать улыбки, получив от дяди небрежное приглашение постоять против него с двуручником или палашом, на выбор… Болтон явно пошел по стопам брата Брихина, но теперь-то и сам граф – не двенадцатилетний мальчишка.
Рейдеры, кто не в поле, словно мухи, обсели все закоулки внутреннего двора, когда там появились новый лэрд и прежний хранитель – оба в гамбезонах и бургиньонах, на случай нелепой промашки. Болтон не ставил целью опорочить боевые навыки Босуэлла перед населением Караульни, напротив, отзывы о молодом графе он имел от обоих братьев самые положительные, и ему всего лишь любопытно было самому убедиться в его умениях. Он и убедился – буквально сразу стало понятно, что мальчишка азартен, горяч, но при том хитер и легок в маневре. Конечно, Болтон был старше графа примерно в два раза и в два раза опытней, но и тяжелей, потому что старше – и там, где Болтон выносил Белокурого с поля силой мечевого удара, племянник брал свое быстротой и ловкостью. И он, этот граф, ни в малейшей степени не желал понять, что дядя играет в поддавки, и воспринимал их схватку со всей серьезностью настоящего боя. Что ж, придется поднажать, сказал себе Болтон, и поднажал, но в тот же миг в дюйме от лица его остановился палаш, когда же он отпрянул – рукав гамбезона распорола дага, а сам хранитель получил подсечку под колено самым вероломным образом – и устоял на ногах только чудом, исключительно благодаря авторитету, наработанному за два десятка лет, и полной для него невозможности опозориться на глазах у своры Хермитейджа. Но сию же минуту племянник приложил его, запоздавшего на ответ, по левой руке клинком плашмя так, что мясо, казалось, отмякло от кости… а граф уже стоял поодаль, с самой легкой иронией в синих глазах глядя на Болтона, опираясь на рукоять меча, вогнанного меж плит мощеного двора. Дядюшка, чуть не задохнувшийся от боли, был почти рад ей – оказывается, новый Босуэлл не так безобиден, как кажется:
– Кто научил тебя так драться?
– Один немец, Франц Хаальс, из Данцига, и еще мой дядя Джон.
– Оно и видно, – проворчал Болтон, потирая ушибленное плечо, – твой дядя Джон на подлые приемы мастак известный…
Патрик ухмыльнулся:
– Эх, дядя! В настоящей драке не бывает подлых приемов, коли в самом деле хочешь выжить… разве не так?
– Это верно, – осклабился Болтон. – Добро, я напишу Джону, что ты ему достойный ученичок. Если ты еще и хотя бы вполовину умен, как наш меньшой, так нам повезло с графом.
– Вам повезло с графом, – без улыбки согласился Белокурый.
Особенно горячо с этим утверждением готовы были согласиться прачки, судомойки, кухарки и горничные Хермитейдж-Касла. Женщин в Хермитейдже почти не держали, зато немногочисленный контингент постоянно живущих в замке прошел огонь, воду и утратил девственность задолго до того, как граф вернулся в родные пенаты. При стирке белья разворачивались бои вальками за право нынешним вечером стелить Патрику постель. Те, что помоложе и посвежей, и приседали в реверанс перед молодым графом пониже, недорого продавая товар, щедро выложенный в корсаже платья. Прочие норовили задеть бедром, проходя мимо, или, схватив его руку, в порыве благоговения прижать к пышному бюсту. Патрика эти женские бега весьма забавляли, но фаворитки он себе так и не выбрал. Молодой граф был брезглив – если уж брать постоянную наложницу, так только личную, а не под раздел со всей сворой Хермитейджа. Эти же девушки, очевидно, перепробовали всех здешних рейдеров, и им не хватало только луны с неба, благосклонности нового хозяина. Болтон даже некоторое время имел насчет племянника темное подозрение, но успокоился, узнав, что Патрик навещает дочку фермера в ближайшей деревне, и на всякий случай заплатил фермеру за бастарда вперед.
В целом, дядья Патрику нравились. Внешне они были на удивление похожи – две человеческие глыбы, каждая футов по шесть ростом. Ролландстон выглядел, как простак, и на самом деле был немножко простак, хотя отлично себя чувствовал в Приграничье со всеми местными условностями – резня, грабеж, рейд, выкуп. Болтон, напротив, выглядел почти как простак, и усердно этим пользовался в личном общении, однако простаком ни разу не был. Патрик не сразу понял, что самый старший Хепберн в чем-то по уму не уступит младшему Брихину. Но все-таки Патрик диву давался, насколько старшие дядья отличаются от железного Джона, и не мог не задавать себе вопроса, на кого из них походил бы его отец, выживи он после Флоддена. По этим двоим внешне никак не скажешь, что сыновья графа, наследники второго порядка, и оба – шерифы в своих приходах, глянешь – так обычные фермеры Лиддесдейла, разве что речь куда как чище и одежда добротней. А вот железный Джон был и внешне лорд, как сам Патрик. Но людьми они были хорошими, эти его новообретенные дядья. Кроме того, подсказывал внутренний голос, до удивления похожий на голос железного Джона, ими не так уж сложно управлять.
– С чего начнем знакомство с соседями, дядя Болтон? Лохвуд, ты говоришь?..
Но Болтон предположение о возобновлении кровной войны внезапно отложил на потом:
– Вовремя спросил. Для начала устроим тебе праздничек, присягу рейдеров новому лэрду Лиддесдейла, пусть знают, что ты здесь, что ты вернулся… когда погиб Адам, было не до присяг, главное – вытащить тебя из Приграничья и надежно укрыть. Но теперь-то мы погуляем…
– Что именно устроите? – на всякий случай уточнил Босуэлл, потому как, хорошие-то они хорошие, но с дядьями нужно держать ухо востро.
– Присягу, – терпеливо пояснил Патрик Болтон. – Присягу его лэрдству на общем собрании. Не совсем разумно, правда, проводить ее здесь, в Лиддесдейле…
– А что в этом такого? – удивился Ролландстон.
– Да ничего! А ты подумал, как мы обеспечим безопасность гостей, приехавших в Долину на собрание? – обратился к нему старший. – А наша мать, которую придется сюда привезти? А мать Патрика?
– Ну, много ли надо народу? Да и потом, ты хочешь сказать, что если в Долине одновременно будут все три хранителя Марок, этого недостаточно для безопасности? Ты съездишь за матерью, я подхвачу невестку… – Ролландстон осекся под взглядом брата.
– Нет, – сказал тот со значением, – пусть-ка наши две гарпии едут бок о бок, чай, не перегрызутся насмерть. Нельзя так просто оставлять… – он замялся.
– Эй, родственники, – осторожно переспросил Патрик, – это вы так намекаете, что не решитесь оставить меня тут одного?
Братья переглянулись и посмотрели на Белокурого.
– Ну, в общем-то, да, – признал лорд Болтон, как наиболее бессовестный.
– Так смею заметить, дядя Болтон, что мне семнадцать, я здешний лэрд, и достаточно взрослый, чтоб меня было сложно выкрасть из-за двухметровой толщины стен собственного замка…
– А, – отмахнулся Болтон, – это я уже слышал. И дело тут вовсе не в твоей взрослости. Вот ты навещаешь свою метресску в деревне, выезжая из Хермитейджа в гордом одиночестве и полагая, что все тебя боятся… А знаешь, племянник, почему ты до сих пор жив или хотя бы не сидишь под замком у Джонстонов или Керров в ожидании, что мы заплатим выкуп? Потому что, пока ты красиво гарцуешь, двадцаточка из своры шарится по холмам следом за тобой, прикрывая по бокам и с тыла…
Патрик с недоумением глядел на дядю. Он не разу не замечал слежки, но, правду сказать, и не приглядывался.
– Так и здесь. Как только мы с Уильямом разъедемся охранять гостей, и я уведу с собой часть гарнизона, в ворота Хермитейджа тут же постучится какой-нибудь подонок Армстронг, и пиши пропало. Выдержать осаду с третью людей, не имея военного опыта, сложновато. Да и по правде, не уверен я, что те из своры, что будут здесь, не откроют ворота и не выдадут тебя осаждающим…
– Это почему еще? – не поверил Патрик своим ушам. – Я – лэрд…
– Ты – лэрд, – согласился Болтон и пояснил просто и жестко. – Но тебе еще не присягали. А до присяги все вопросы тут будут решаться силой. И я не могу увести с собой даже часть своры, а то, пока подойдет присяга, как бы не остались от нового графа рожки да ножки. Да и после присяги ты еще должен будешь доказать им, кто хозяин.
В конце концов, вопрос с охраной решили просто – Ролландстон со своим отрядом отправился в Хейлс за леди-бабушкой, а Агнесс пообещал привезти муж – Максвеллов было много, и все буйные, так что беспокоиться следовало только о достаточном количестве виски, чтобы свалить их с ног под вечер.
Молодой граф восседал на помосте в холле в дубовом кресле хозяина, больше напоминающем трон. По правую и левую руку Босуэлла стояли дядья, Болтон и Ролландстон, приодетые по случаю торжества, оба были почти неузнаваемы – наконец-то достойный вид благородных лордов, зрелых духом, еще молодых мужчин. Они присягали новому графу первыми, Патрик – за Хермитейдж и Болтон, Уильям – за Ролландстон и Крайтон. Леди-бабушка вместе с присягой возвращала внуку Хейлс-Касл и земли близ Хаддингтона. Старая графиня прибыла накануне, заняла покои в Колодезной башне, заперлась со своими камеристками – молиться, и вышла в люди только сегодня, вся в черном, как и обычно, сухая, подтянутая, полная достоинства, с омертвевшим от властолюбия и утрат лицом. Глядя на нее вблизи второй раз в жизни, Белокурый осознал, как много той самой жажды власти перепало от Маргарет Гордон Хепберн, графини Босуэлл – дочери принцессы Анабеллы Стюарт – ее младшему сыну, епископу Брихину. Черная роба леди, расшитая жемчугом и гагатами, снежно-белый партлет, строгий старомодный чепец, раскачивающиеся на поясе четки до обморока пугали разбитных служанок Хермитейджа, тем паче, что вдовая графиня тут же принялась их строить не легче, чем в замке Хейлс. Колени и шея ее сгибались с трудом не столько от старости, когда она вкладывала свои руки в жесте оммажа – давно ли его давал сам Патрик? – в ладони внука, так похожего на до сих пор ненавидимую невестку.
Прибыла леди Максвелл с мужем, дочерью и пасынками. Роб Максвелл по-прежнему был крепыш, но Белокурый обогнал его в росте на полголовы, и уж точно не позволил бы надрать себе уши, как прежде. Роберт воспринял эти перемены стоически и вынужденно обнялся со сводным братом. Максвеллы присяги, понятное дело, не давали, но пришли союзниками. Их наряды были – красное и зеленое, олень и падуб на эмблеме, и «возрождаюсь!». Среди их кричащей пестроты строго и благородно выделялись цвета Хоумов – глубокий синий и темно-серый. А вот и сама сестричка, с головой белого льва в фамильной броши на корсаже… Дженет Хоум, которой еще не сравнялось пятнадцати, смотрела на старшего брата глазами, полными обожания, снизу вверх. Серые сияющие очи и роскошные каштановые локоны – когда уйдет юношеская угловатость, она может составить счастье самого знатного лорда. Однако сейчас взор ее был обращен туда же, куда и взор ее матери – к помосту большого холла замка Хермитейдж-Касл.
Адам гордился бы своим сыном, подумала лучезарная Агнесс, и слезы блеснули на ресницах, хотя это было так давно в жизни вдовой графини Босуэлл – и юность, и любовь, и ранняя смерть супруга, и разлука с первенцем. Этот взрослый мужчина в глубине холла сейчас казался ей почти чужаком. Леди Максвелл не видела сына больше года, с тех пор, как тот с Брихином отправился ко двору. И сейчас она рассматривала третьего графа Босуэлла со смешанными чувствами. Странно было глядеть на создание чрева своего и не узнавать в нем ни себя, ни отца ребенка. Вот, разве что фигурой Патрик удался в Адама, и манерой, повадкой. Даже глаза у него темней, совсем синие. И мастью он Стюарт, единственный в череде черных Босуэллов сияет, словно дитя солнца. Сын за год вытянулся, но еще будет расти. У него ухватки взрослого, но тонкие, нежные черты лица, словно у архангела Гавриила, как его рисуют на витражных стеклах часовен. У него отличная стать, хотя в теле нет еще подлинно мужской мощи. У него длинный прямой нос де Хиббурнов, фамильный, как и все в них худшее, и круглый подбородок отца, и те же брови вразлет, но в лице нет ни капли природного добродушия Адама. Его красота холодна и почти неприлична, и действует на окружающих хуже яда, завораживающе, она видела, как хихикают, краснеют и умолкают девушки, когда ее сын идет по залу, равнодушный, даже взгляда не бросив в их сторону, как кланяются ему парни, как переговариваются кинсмены, как он минует всех этих людей с пренебрежением прирожденного господина, словно всеобщее восхищение естественно составляет часть воздуха, необходимую ему для дыхания, как он подходит к ней и…
Патрик Хепберн, третий граф Босуэлл, на глазах гостей и семьи пройдя холл, опустился перед леди Максвелл на одно колено и поцеловал ей руку:
– Досточтимая леди-мать, я рад приветствовать вас в доме, где и вы были некогда счастливы… – во всеуслышанье объявил граф.
Уроки куртуазности железного Джона не прошли даром. Это было не совсем правдой, потому как Адам ни разу не привозил молодую жену в Лиддесдейл, но интонация соблюдена верно. Леди-бабушка с другого конца зала сверлила Белокурого взглядом, которому позавидовали бы лучшие василиски.
…и поднимаясь, шепнул ей одной:
– Здравствуй, мама…
И тогда леди Максвелл все же заплакала, потому что на холодном лице владетельного барона, который в силу роста смотрел на нее сверху вниз, вдруг вспыхнула и зацвела лукавая и нежная улыбка мальчика, которого она качала на коленях во время краденых свиданий в Сент-Эндрюсе.
Волынки выли. Над толпой гостей разносился «Бег белой лошади», плавно переходящий по вариациям в «Хепберны идут». Вернувшийся на помост граф, усадивший по правую руку от себя леди Максвелл, сиял равно красотой, холодностью чела и неодолимой силой наследного права, исходившей от всей его фигуры, словно он занимал трон королевства, а не кресло лэрда. В отличие от будних дней и привычной ему уже повседневной местной одежды, Патрик, третий Босуэлл, Дивный граф, друг и наперсник Его величества Джеймса Стюарта, сегодня был облачен в бархатный дублет цвета запекшейся крови, колет по немецкой моде – с открытой грудью, с широкой баской, короткие штаны в тон, и плащ «нью-хепберн» – алый, с богато вышитым гербом, львы и роза – обнимал широкие плечи. Высокие сапоги тонкой кожи облегали длинные ноги превосходного наездника так плотно, что девицы в холле краснели и обмирали от странных чувств, стараясь вовсе не глядеть на гульфик, который ничуть не менее бросался в глаза. Мужская сила – синоним власти, и именно это, свою власть, заявлял молодой граф всему Лиддесдейлу, всей Средней Марке королевства. Кисти рук, крупные, еще по-юношески изящные, выступали из белизны кружев на рукавах сорочки – дороговизна по местным нравам немыслимая; на левой руке – печатка с эмблемой рода, на правой – перстень Босуэллов с рубином, и на обоих – еще пригоршня колец, отчего от сжатого кулака графа, легшего на подлокотник кресла, создавалось ощущение латной перчатки – и скрытой угрозы. Кулак мелькнул и пропал, рука молодого человека снова опустилась на темный дуб в полном покое, но те, кому нужно, и заметили, и оценили красноречивый жест. Блеск факельного пламени играл на золотом шитье – плотная вышивка дублета делала его похожим на кирасу, на пуговицах из граненой шпинели, на золотом дедовом ожерелье, где по центру, в тяжелой грубоватой подвеске – голова бешеного коня с рубиновыми глазами. Золото и кровь – это верно подобранное сочетание понятно и приятно было жителям долины, как никому. Сияла фамильная цепь на груди, и сияли необычно светлые волосы графа, и его суженные, внимательные синие глаза. Красота, богатство и властная мощь – это был почти идол, а не живой человек. А чуть поодаль от молодого Босуэлла, возле кресла Агнесс Максвелл, стоял ее муж, лорд Джон, и это был также серьезный козырь, ибо против того, кто решится сейчас на любой жест неуважения к молодому хозяину дома, поднимутся сразу два хранителя Марок – сам лэрд Лиддесдейл, королевский лейтенант, хранитель Долины и Средней марки, и лорд Максвелл, хранитель Западной. Ниже помоста, подпирая его спинами, отчего казалось, что Босуэлл восседает на плечах главарей своры Хермитейджа, расположились трое капитанов Болтона – Клем Крозиер, Оливер Бернс, Джон Бинстон – каждый в цветах своего рода, настороженными взорами окидывающие толпу. Ни для кого не секрет, что лорд Болтон выставил стражу на всех входах в Караульню, и что не меньше полусотни его людей рассеяны в холле среди гостей, и две сотни еще двумя кольцами стоят вокруг замка в холмах. Тут и самый дерзкий из рейдеров не решился бы затеять свару. Под вой волынок шептались все – и лорды, и простолюдины – о новом Босуэлле, о титулах, нагружен которыми сверх всякой меры явился он в наследную вотчину, о его родстве и связях, о невиданной милости короля, и не в последнюю очередь – о его красоте. В долине не знали имен собственных, только имена родов, да вот еще – воровские клички. Надо ли говорить, что Белокурого повторно прозвали Белокурым? Да еще – Красавчиком. И то была большая милость и редкость для приграничного сообщества, большей частью падкого на прозвища совершенно непристойные. Волынки выли, им вторил гулкий рокот барабанов и синичий посвист тонких флейт, смутный ропот гулял над холлом. Здесь были Беллы из Дамфрисшира, копьеносцы Максвеллов, в серо-черных плащах, с тремя колокольцами в гербе, и на лице каждого из них словно прописан был девиз «Я – впереди!». Здесь были семьи рейдеров Долины, скотоводов и фермеров, Робсоны, Крозиеры и Никсоны – серо-зеленые, алые, густо-синие сукна – простые парни, соль шотландской земли, надежные и вездесущие, как торф. Здесь были рослые, как на подбор, Тёрнбуллы, со своим быкоглавым гербом, в вульгарной, кричащей пестроте – красный, оливковый, зеленый и синий, с не менее хвастливым утверждением на эмблеме «Я спас короля!», во главе со своим лэрдом, зятем Керра Фернихёрста. Здесь был и белый крест на черном поле – Моффаты с их «надеждой на лучшее». Здесь были даже Принглы из Смейлхольма с окраин Марки, Патрик прочел и их серебряные щиты с золотыми ракушками, и миролюбивую латынь «Дружба достойна уважения». И, наконец, был здесь и самый зловещий знак в Западной марке, черный крест на белом поле – заклятые враги Моффатов и Максвеллов, фамилия Джонстон с их насмешливым: «На землю, воры!», надменные и злобные черти в нежных зелено-голубых цветах, никак не соответствующих их отвратительной репутации.
Но двумя островами посреди этого моря человеческого возвышались в толпе двое – сэр Уолтер Скотт Бранксхольм-Бокле, легендарный Уот Вне-Закона, и сэр Эндрю Керр Фернихёрст. В былые времена, до тех пор, пока зарвавшийся граф Ангус не забрал синекуру себе, именно эти двое делили полномочия королевской власти в Средней марке – Бранксхольм отвечал за Долину, а Фернихёрст – за прочие, более мирные относительно Долины земли. И вот теперь оба они были званы на торжество к новому лэрду, который – руками короля – лишил их огромного источника дохода и влияния, к долговязому белокурому мальчишке, который покамест был силен только выставленным напоказ родовым богатством, титулом да дядьями Хепбернами за спиной. И отчимом Максвеллом, хотя лорд Джон – лис старый и меченый, против своих за пасынка не встрянет. Но как раз теперь старый лис сквозь расступающуюся перед Хранителем толпу шел прямиком к Бранксхольму.
Сэр Уолтер, надо сказать, над соплеменниками возвышался весьма условно – скорей, своим гонором, характером и славой, нежели ростом. Ростом Бранксхольм был не выше среднего, сух, жилист, весьма подвижен, с лицом волка, как про него говорили, и сердцем сатаны. И это было довольно приятное лицо – правильных черт, ясные серые глаза, чуть более стальные, чем требовалось для обаяния, но вполне соответствующие в своем выражении рангу хозяина твердыни Бранксхольм. Даже под парадным колетом из добротного сукна на Злобном Уоте угадывался джек налетчика. Говорили, что, ежели в твердыне Уота заканчивались краденые у сассенахов припасы, жена, леди Элизабет, подавала ему в обед на пустом блюде шпоры… и через четверть часа Бокле был уже в седле по направлению в Карлайлу. Англичан и все английское Злобный Уот ненавидел так страстно, как ненавидит только приграничный шотландец. Когда раздавался его свирепый боевой клич: «Скотты вышли!» или «Снова будет луна!» – английские фермеры седели, даже находясь в укрепленных домах…
– Как тебе новый Босуэлл, сэр Уолтер? – обратился к нему лорд Максвелл.
Максвелл был крестным сыновей Бранксхольма-Бокле, дружбу они водили старинную, что, впрочем, не мешало обоим относиться друг к другу со сдержанным вниманием возможных противников. Граница – место, где мирные союзы живут недолго, уступая место вечной кровной вражде.
– Это уж тебе видней, лорд Джон, ты ж ему отчим, – отвечал ему сэр Уолтер, не моргнув и глазом на сложный вопрос.
– Я с тобой, Бокле, вижусь чаще, чем с ним, – улыбнулся Джон Максвелл. – Даром, что он мне пасынок.
– А что я? По мне… из молодых, да ранний, – отвечал Уот Вне-Закона, цепким взглядом окидывая ладную фигуру молодого графа. – Но это сразу видать. А как покажет себя – поглядим. Ежели рот разинет сообразно аппетитам – так всех проглотит, коли на кость не напорется.
Ну, вот вам и позиция Уолтера Скотта, надо будет передать это Патрику. Вопрос только в одном – видит ли себя Бокле той самой костью. Или камнем преткновения станет крепколобый Фернихёрст… так думал лорд Джон, обмениваясь со Злобным Уотом выражениями самой искренней приязни.
Когда хранитель Западной Марки вернулся на помост к Патрику, граф встретил его понимающей усмешкой:
– Не глянулся, не так ли, милорд?
– А чего ты ожидал, если занял место, на которое претендовали оба твоих противника, и каждый старше тебя раза в два… но это дело поправимое. Возьми с них бонд! – подсказал лорд Максвелл пасынку.
– Бонд? – удивился тот. – Узы дружбы?
– Это дело! – согласно подтвердил Болтон. – Спасибо, Джон, вы, как всегда, мудры и предусмотрительны… – и разъяснил молодому графу. – Пусть подпишутся своим именем и честью, что рады и намерены поддерживать тебя, как Хранителя марки, и всячески собственными силами способствовать искоренению смут и воровства… эй, Джибберта Ноблса сюда, живейше!
Брауни предстал – и даже в новых башмаках, подаренных лэрдом – уже с листом бумаги и пером наготове, словно знал заранее, зачем зовут.
– Не то, чтобы это сильно тебе помогло по службе, – обнадеживающе продолжил лорд Болтон, – однако полезно. Поименно знаешь, кого карать, как нарушителей, если что.
Джибберт Ноблс не особенно долго скрипел пером, с поклоном протянув графу витиеватый результат трудов своих:
«Мы, нижеподписавшиеся, жители Средней Марки этого королевства, расположенной напротив Англии, понимая, как любезно для Его величества нашего господина Короля назначение и утверждение милорда Патрика Хепберна, графа Босуэлла, Высоким хранителем и судьей всей Средней Марки, а также хранителем и судьей Долины Лиддесдейл, и в полной мере осознавая свои обязанности, обязуемся служить советом и силой для содействия указанному Хранителю во всех его делах, направленных на доброе правление и спокойствие в указанных Марке и Долине, и поддерживать власть Высокого хранителя против изменников, смутьянов и прочих преступников вплоть до наложения наказаний, а также защищать и способствовать безопасности всех честных людей. Следственно, мы обещаем и клянемся, и в этой бумагой обещает и клянется каждый из нас, что будем честно служить Нашему господину Его величеству Королю, и подчиняться и содействовать Его светлости указанному Хранителю, и станем совместно подавать наши советы и рекомендации, или всеми силами участвовать в преследовании или защите от указанных воров, изменников, смутьянов и прочих преступников, непокорных власти нашего государя, а также нарушителей мира и тишины в королевстве, и как только мы будем извещены или предупреждены открытым объявлением, письмом, посланием байли, или в любой другой привычной форме, мы отзовемся Его светлости со всем тщанием и решительностью, а если же мы будем замечены в невнимательности или небрежности, то нас надлежит считать, а также обращаться с нами, как с пособниками и соучастниками указанных воров, изменников, смутьянов и преступников в их постыдных и злобных деяниях, с тем, чтобы нас за то подвергнуть преследованию и наказанию, в назидание всем прочим».
Далее должны были следовать подписи. И последуют – поименно, после слов присяги или выражения дружбы, на которые обязаны теперь все, присутствующие в холле Хермитейджа, уже просто потому, что пришли. Когда же, прочитав бонд, граф поднял взор от листа бумаги, внимание его привлекла фигура, совершенно безобразная и роскошью своего наряда, и невыносимым самодовольством поведения.
– Кто это там, в толпе? – спросил Босуэлл у окружающих.
– Ого, – удивился Болтон, прежде, чем успел ответить хорошо знающий пришлеца лорд Максвелл. – Да это сам Джонни Армстронг, Черный лэрд Гилноки!
– И чем он знаменит? – нетерпеливо переспросил граф.
– Самый удачливый мерзавец в наших краях. Младший брат Сима Армстронга, лорда Мангертона, и его военный вождь, – перечислял дядя, – краденые стада чуть меньше, чем у Бранксхольма. Отступное и «черные весточки» собирает едва ли не со всей Марки. Пойду-ка поздороваюсь с ним.
Джон Армстронг, в глубине холла, был окружен не меньше, чем двумя десятками своих людей, легко опознававшихся по бляхам с обнаженной мускулистой рукой, кое-кто из его отряда носил герб его старшего брата – три синие полосы на белом поле. Кабы не было известно, кто именно есть лэрд в Долине, Джона Гилноки легко было бы принять за такового: он распространял вокруг себя величие почти материальное, ощутимое в количестве и уровне вооружения свиты, и в манере держаться, и в помпезном костюме – одних золотых кистей на его боннете было больше, чем колокольчиков на сбруе кардинальского мула. Он был сам собой – выставка своей доблести и богатства, бархат и шелк его наряда, сталь его доспехов и сам конь его под вышитой попоной, отдыхающий сейчас в стойлах конюшни Хермитейджа – все это было краденые у сассенахов бесчисленные стада, и Джон гордился собой по праву. Не было парня в Приграничье удачливей Джонни Армстронга! А сколько песен пелось о нем на летних пастбищах…
– Доброго дня тебе и твоим, Джон! С чем пожаловал, лэрд Гилноки?
– Покамест с миром, Патрик Болтон, – лениво улыбнулся матерый налетчик, и с него мигом слетело все величие, поскольку улыбка его, прямой результат трудного ремесла, была изрядно щербата. – Приехал вот поглядеть на вашего лэрда.
Это было скверное начало, очень скверное.
– Это и ваш лэрд, Джонни Армстронг. Это лэрд Долины.
– Это бабушка надвое сказала, Болтон, уж извини ты меня, старина. В Долине не станешь лэрдом по рождению, тебе это не хуже моего известно.
– Следи за языком, Джон, – предупредил Болтон, – за эти слова ты можешь поплатиться прямо сейчас. Хермитейдж уже стал могилой для одного Мангертона.
– Но ты-то – не Сулис! – захохотал Джон. – Да и я не стану ждать, пока меня утопят в Хермитейдж-уотер! А кроме того, объявлено ведь перемирие по случаю присяги, разве нет?
– Вот и веди себя на перемирии соответственно. Негоже оскорблять хозяина дома.
– И не думал, – возразил с усмешкой налетчик, – разве что правда в кои-то веки стала для тебя оскорбительной, Патрик Болтон. Покамест, повторяю, я пришел с миром, а там поглядим. Я погляжу на вашего лэрда, поглядит Мангертон, и мы подумаем…
– Ты говоришь за себя или за род, Джон Армстронг?
– Я говорю за Мангертон и Гилноки, а что думают в Спорных землях, того моему лэрду неведомо.
Чистой воды вранье. Лорд Мангертон прикармливал «конченых» Армстронгов – братьев Джона и Вилла – отличавшихся совершенным бесстрашием и редкой жестокостью, обращенными, причем, зачастую против своих, шотландцев, когда идти на промысел к сассенахам было опасно или невыгодно. Потому-то эти отщепенцы и чувствовали себя в полной безнаказанности.
Болтон и Гилноки обменялись долгим взглядом, и многое было в нем: и старинное знакомство, и не менее старинная неприязнь, и обоюдное уважение к сильному противнику… затем Болтон кивнул и вернулся к племяннику – пора было приносить присягу.
Это было странное чувство – почти как то, что Патрик испытал в своем первом бою, в тупике на Коугейте – момент глубокой подлинности, словно долгая череда лет, усилий, учения, складывась, сковываясь в одну цепочку, вела его именно к этому часу, сюда, в сердце самой кровавой долины Шотландии. Он был рожден для того, чтобы быть здесь – и он здесь. Руки Патрика Хепберна Болтона, тридцатишестилетнего мастера Хейлса, следующего за ним в роду, легли в его ладони, и коленопреклоненный дядя начал говорить громко, медленно и отчетливо, склонив косматую, черную с проседью голову:
– Я, Патрик, мастер Хейлс, лорд Болтон, приношу тебе, Патрик, граф Босуэлл, лэрд Лиддесдейл, во всякий день и час моей жизни свою верность и свой меч, буде приспеет у тебя в нем нужда, и прошу у тебя милости в моей службе, и приму от тебя казнь в моей измене. Во имя Отца, и Сына, и Святого духа – да будет так. Аминь!
Босуэлл кивнул, поднял его, обнял, протянул чашу – пригубить в знак в приязни. Чуть заметная улыбка скользнула в бороде Болтона, и его медвежие объятия были куда крепче ритуальных. Сейчас, на глазах у всей Долины, совершалось то, ради чего он был хранителем Караульни почти двадцать лет – власть переходила к главе рода, к законному наследнику. За ним следом на колени опустился лорд Ролландстон… за ним вслед пошли под присягу капитаны Болтона, люди его семьи, кинсмены без числа, арендаторы, рейдеры своры Хермитейджа, и, конечно, те, ради присяги которых и затевалось все это – представители равнинных семей Средней Марки. Белокурому Босуэллу, как хранителю и королевскому лейтенанту, присягнули Робсоны, Крозиеры, Никсоны, Принглы, Янги, Бернсы, Дэвидсоны, Рутерфорды, Тёрнбуллы… Каждого лэрда волынщики Хепбернов приветствовали вариацией на его пиброх. Лорд Джон Максвелл вышел среди остальных, отдельно и во всеуслышанье приветствовал пасынка, как друга, соседа и лэрда Лиддесдейла, а за ним поклялись в дружбе и Беллы. Сэр Эндрю Керр Фернихёрст, тяжелую челюсть которого свело от неприязни к мальчишке, занявшему его место, сдержанно выразил свою радость от того, что в Хермитейдж-Касле снова появился Босуэлл… подписи под бондом в руках Джибберта Ноблса все множились и множились, большая часть, правда, была вписана самим Ноблсом, а знаменитые рейдеры, могучие приграничные лорды в подтверждение своей доброй воли рисовали крест или птицу рядом со своим именем. Даже Бранксхольм-Бокле, с усмешкой, гуляющей на хищном лице, подобно лунному свету на стальном клинке, пообещал молодому графу свою прославленную дружбу… И только Джонстоны наблюдали издалека – Хранителю Средней Марки ни к чему ждать присяги и подписи под бондом от них, уроженцев Западной.
Внезапно волынки выдали несколько тактов «Хей, Армстронг!» – и Джон Гилноки вышел вперед, к помосту Босуэлла. Лорд Болтон лихорадочно пытался сообразить – зачем именно, кроме как для оскорбления или смуты, ведь Армстронги не собирались подтверждать свою лояльность… ему не хотелось верить, что Черный Джон открыто затеет свару, но наглости тому было не занимать, и…
– Не подавай ему руки! – шепнул Болтон племяннику, – они не присягнут!
Но Патрик, разумеется, тут же сделал все наоборот.
Лэрд Лиддесдейл протянул обе руки навстречу именитому налетчику.
У лэрда Гилноки было несколько секунд, чтобы принять эти братские, хотя и ритуальные, объятия Босуэлла, но он не шелохнулся. Еле уловимый холодный огонек мелькнул в глазах Белокурого, и ровно за мгновение до того, как этот повисший жест стал бы нелепым, левая рука графа, выполнив изящную дугу, опустилась на пояс, а правая – на рукоять даги… Никто, кроме непосредственных участников сцены, так и не понял – предложил ли Босуэлл вначале дружбу Армстронгам или сразу выдал предупреждение.
Джонни Армстронг из Гилноки улыбнулся, низко поклонился лэрду Долины, развернулся к нему спиной и вышел в сопровождении своих людей.
Джон Максвелл, наблюдая все это, мрачнел с каждой минутой.
В обозримом будущем намечалась резня.
– Не вижу Армстронгов, Маршаллов, Эллиотов, – хмуро перечислял Болтон. – Вот тебе и ответ, чем надлежит заняться в ближайшие дни…
Лорды-братья переговаривались над головой своего лэрда, словно между собой, но он-то знал, что разговор ведется непосредственно для него.
– Армстронги – они же «конченые», – возразил Ролландстон, – с чего ты ждал, что они появятся? Да еще в присутствии Троих Больших – Бранксхольма, Максвелла и Фернихёрста… Гилноки поводил носом да и был таков. Чуть не оконфузил нашего лэрда на присяге. Маршаллы от века якшаются с Армстронгами со Спорных земель, понятно, почему их нет. И мастер Лохвуд, сукин сын, уже увел добрую часть своих, оставил только три десятка соглядатаев за Максвеллами.
– Эллиоты, между прочим – копьеносцы Бранксхольма, могли бы и приехать, раз сам сэр Уолтер здесь.
– Ну, кое-кто из них тут был, положим, – отметил лорд Уильям. – Я видел младшего из троих братьев Эллиотов, тех, что из Парк-тауэр… шнырял тут в толпе, потом исчез из виду незнамо как. А вот Керр Кессфорд не приехал, хотя ведь зван был, скотина.
– Вестимо, раз Скотт Бранксхольм здесь… они же кровники, тут бы и перемирие не спасло. Фернихёрст прибыл – и того довольно.
– Постой, дядя Болтон… – вмешался на конец в их беседу сам граф, – если Керры кровники к Скоттам до такой степени, что им и на перемирие плевать, то почему Керр Фернихёрст все-таки здесь?
– О! – отвечал Болтон с усмешкой. – Во-первых, Фернихёрст как-никак – бывший хранитель Марки, он не мог не прибыть, надо же подтвердить свою лояльность королю… да и на тебя поглядеть ему любопытно. А во-вторых, две эти ветки Керров, Кессфорды и Фернихёрсты, даже с друг с другом-то бывают в кровной резне… Левши – такие черти, что их и родство не смущает.
– Зато есть незваные гости… – сказал вдруг Ролландстон, – смотри-ка…
– Кто? – переспросил Белокурый.
– Хоумы прибыли, вот кто.
– Интересно, – приподнял бровь хозяин дома, вглядываясь туда, где от входа в холл толпу расклинивали люди, облаченные в то же сине-серое сукно, что и плащ у его сестры Джен. – Интересно, зачем им это понадобилось…
Джордж Хоум, четвертый лорд Хоум, был младший брат покойного отчима Патрика, Александра, и, соответственно, дядя Дженет Хоум, так давно отданной на попечительство матери, что собственная семья едва ли вспоминала о ней. Видный, довольно красивый мужчина лет тридцати пяти, но красота его была глуповата, а выражение лица – неприятно своей надменностью. Также он славился тем, что его, как всякого Хоума, заносило в спорах, в результате чего лорд Джордж почти постоянно пребывал хоть с кем-нибудь, да во вражде. Поначалу он довольно любезно привествовал хозяина дома, был также любезно принят графом, на том дело и кончилось. Более того, его люди с готовностью поучаствовали в сборе команд для игры в ба. Присяга была завершена, за ней должны были последовать относительно мирные развлечения, по своей интенсивности слабо уступающие военным действиям – для Приграничья, впрочем, дело вполне обычное. Желающие размять застоявшиеся мышцы делились на две команды сообразно вкусам и предпочтениям, зеленые или синие повязки на рукаве, «Вереск» или «Чертополох». Размер команд был ограничен только численностью желающих, и сошлись, в основном, два больших рода – Максвеллы против Скоттов, все прочие выбрали команду, исходя из собственных симпатий к этим двум. Пока шел разбор игроков, мужчины беззлобно задирали друг друга и обменивались шуточными тумаками. Несколько настоящих тумаков тут же были отмечены и пресечены зорким Оливером Бернсом, и драчунов, чтоб охолонули, просто выкинули с берега в заводь Килдера на Хермитейдж-уотер. Патрик, глядя на всю эту подготовку, ощутил зуд в ногах – он здорово устал, изображая из себя неподвижный символ власти, и с удовольствием присоединился бы к играющим. Но на всякий случай уточнил у Болтона:
– Графу положено принимать участие?
– А ты хочешь? – удивился Болтон. – Вообще-то эта штука для простолюдинов… мы с Уиллом гоняли ба только среди своих, и то нечасто, чтоб лица не уронить. Мы же все-таки сыновья великого лорда-адмирала Шотландии…
– Ну, это меня пока мало беспокоит. У меня еще столько лица не наберется, чтоб бояться его ронять.
– Послушай, Патрик, хотя бы не сегодня. Если ты не хочешь, чтоб тебе разбили рожу при всем честном народе и трех Хранителях Марок…
– Ну, ладно, дядя, ладно! Но что мне делать-то тогда на поле для хендба?
– Судить!
– Отлично. Какие правила?
– Вообще-то тут одно правило – хватай мяч и беги. И вали тех, кто тебе мешает это делать.
– Очень жизненно. А как вы считаете очки?
– Голы, – поправил лорд Болтон. – Значит, так. «Вереск» получает гол, если проведет мяч за вторую линию рвов, за берег Зеленого ручья. «Чертополох» получает гол, если ему посчастливится закинуть мяч за стену овчарни на берегу Хермитейдж-уотер…
– Так ведь там нет овчарни!
– Так в том и закавыка! Но она там была, вон, посмотри, еще ямы от стенных столбов видны…
– Отлично, – повторил Патрик со смешком. – Доколе считать?
– Ну, – Болтон чуть поразмыслил. – Думаю, что до десятка пленных с каждой стороны, и пять-шесть сломанных ног – тоже вполне достаточно! И следи, чтоб смертоубийства не было… могут попытаться, под шумок-то. Особливо Керры…
И с этим жизнеутвердающим предсказанием, оставив графа с выражением изрядного изумления на лице, дядя отправился открывать игру.
– Ребятки, готовы? – нестройный рев был ответом бывшему хранителю Хермитейджа. – Начали!
Высоко в небо, поброшенный его могучей рукою, вылетел небольшой кожаный мяч, набитый шерстью, украшенный цветными ленточками, чтоб было видно издалека. И справедливость дядиной просьбы «только не сегодня» лезть в игру граф оценил, когда Патрик Болтон, далеко не хрупкой комплекции, рослый, крепкий, почти грузный в теле тридцатишестилетний боец, с неожиданной прытью, петляющими бросками, как заяц, стал уходить от огромного комка тут же сбившихся в свалку за мяч игроков. А ком все нарастал – рейдеры запрыгивали на спины друг друга, ныряя сверху в кипящую человеческую лавину, перекатывающуюся от одного конца поля на другой. Над схваткой летали такие метафоры, что становилось понятно, почему эти люди всю жизнь живут под церковным отлучением, нисколько его не боясь. Время от времени муравейник выплевывал кого-нибудь – с вывихнутой рукой или разбитой челюстью, особо ретивых ухватывали покрепче и относили за кромку поля, в «пленники». Граф Босуэлл, стоя на гребне оборонительного вала, старался окинуть взором всю картину игры, но обстоятельства боя за мяч менялись каждое мгновение. В ходу были обманные ходы и уловки – к примеру, один из Скоттов, спрятав мяч под курткой, довольно долго крался в сторону невидимой овчарни, пока его не разоблачили, попутно наградив проломленной головой… Болтон, Ролландстон, Джон Бинстон и Оливер Бернс по четырем сторонам поля следили за тем, чтоб не было бесполезных, неигровых драк.
– Уордлоу! Гол! – неистово орали болельщики Максвеллов. – Гол Скоттам за Зеленый ручей! Гол «Чертополоху»! Эй, где ваша луна?!
– Скотты вышли! – вопили им в ответ с не меньшим воодушевлением. – Лорды-судьи, гол «Вереску» – был бросок за овчарню!
Перевес по очкам клонился то к тем, то к другим. Обе фамилии славились умелыми и жесткими игроками и стояли насмерть – как-никак, ба позволял выпустить пар совершенно мирным образом, не считая легких телесных повреждений. Тяжелыми повреждениями, как после пояснил Болтон, считались только несовместимые с жизнью. И, насчитав с десяток сломанных ног и шесть разбитых голов, пятнадцать пленников у Максвеллов и двенадцать у Скоттов, лэрд Лиддесдейл подал голос к окончанию хендба:
– Победа «Вереска», ребята! Остановились! С этой минуты тумаки не в зачет!
И одобрительный гул голосов над полем смешался с разочарованным.
Ближе к концу игры внимание Патрика привлекла явная свара, разгорающаяся на конце поля, откуда лорд Джон Максвелл наблюдал за успехами своих людей. Рядом с цветами отчима он разглядел серо-синий плащ Хоума, и неприятная догадка посетила его… широкими шагами, перепрыгивая через рвы и дренажные канавы, граф Босуэлл направлялся к спорящим. И успел вовремя. Лорд Джордж уже отвечал криком на увещевания сдерживающегося из последних сил Хранителя Восточной марки…
– Скажите прямо, вы придерживаете у себя девчонку, чтобы прибрать к рукам ее денежки и выдать замуж за своего! А, может, уже и подложили кого к ней в постель? Этого вашего похотливого мальчишку? Чтобы порченый товар точно остался при вас?!
Лорд Максвелл хватанул воздух ртом и побагровел:
– Да вам же не было дела до Дженет все эти годы! Вы отказались от нее еще при рождении, так извольте держать однажды данное слово, милорд!
– Ах, вы сомневаетесь в моем слове!.. – и клинок Хоума вылетел из ножен, независимо от того, что противник был безоружен и вряд ли успел бы обнажить меч.
Но прежде, чем Хоум успел выйти в замах, тяжелая, цепкая лапа легла на его предплечье в такой захват, из которого он не мог вырваться, как ни старался. И молодой голос, мягкий, полный одновременно холодного презрения и глубокой иронии, произнес:
– Мне кажется, вы забываетесь, драгоценный лорд Хоум. Вы обнажаете меч в присутствии королевского лейтенанта, в день перемирия на присяге семей лэрду Лиддесдейла… говорили мне, что Хоумы ног под собой не чуют в запале, но чтоб настолько!
– А, Босуэлл! Вы вовремя! Объясните этому чертову упрямцу, что леди Дженет Хоум наконец должна последовать за мной в свой настоящий дом, которым она столько лет пренебрегала! Ей пора обрести достойного мужа, и решать, кто им станет, могу только я, как самый старший ее родственник со стороны отца!
Спорящих настиг уже и лорд Болтон, поставив распоряжаться выносом тел с хендба уравновешенного Уилла Ролландстона. Но не стал вмешиваться, только лишь наблюдая за происходящим. Патрик, меж тем, смотрел на лорда Хоума несколько сверху вниз с непроницаемым выражением на челе. По скулам графа прошли желваки, а после он сказал спокойно и очень веско:
– Или я, как ее ближайший родственник со стороны матери. Не вижу повода для Дженет немедленно покидать дом моей матери и отчима, достойнейшего лорда Максвелла. Если желаете, я извещу вас о времени и месте ее свадьбы, с тем, чтобы род Хоум мог приветствовать дочь и наследницу своего покойного третьего лорда, как полагается.
– Известите? Да не много ли вы на себя берете, Босуэлл?!
– Не слишком. По праву и по должности. Известно ли вам, милорд, чем я был занят в Эдинбурге этой весной?
– Говорят, что вы были любовником Его величества.
Лорд Максвелл ушам своим не поверил – дядя Дженет впрямую нарывался на кровничество с ее братом Босуэллом… говорят, что все Хоумы чуточку полоумны – но не до такой же степени. И не до такой степени велико приданое Джен, чтобы был повод рисковать жизнью.
Однако Белокурый и ухом не повел, хотя внутри у него все кипело от бешенства.
– Дугласы? – уточнил он у собеседника с пониманием. – Питтендрейк? Понос, узнаваемый по запаху. Вот поэтому я и отказался от Танталлона, который Его величество предлагал мне в дар… не жить же в отхожей яме.
И, пока тот переваривал новость, дружелюбно поделился с ним новым соображением:
– Вот самое занятное людях, Хоум, это, на мой взгляд, недальновидность. Если ваше предположение верно, подумайте, как скоро король подарит мне ваш замок? Теперь, после ваших слов… А если ваше предположение ошибочно, дела, увы, обстоят еще хуже. Отрубленные головы Алекса и Уильяма, ваших братьев, не научили вас, что ссориться с Хепбернами накладно?
История со штурмом собора Святого Андрея в Сент-Эндрюсе, после которой старый Джон Хепберн, приор и настоятель, из мести подвел двух братьев Хоум под топор палача, случилась задолго до того, как Патрик мог в полной мере оценить прадедово коварство, но воспользовался сейчас Белокурый древним козырем с огромным удовольствием.
– Боже, куда я попал… это же притон воров и убийц! – сузив глаза, выплюнул лорд Хоум в лицо хозяину.
– Выбирайте выражения, милорд, – обаятельно и открыто улыбнулся Белокурый. – Это Хермитейдж-Касл, вы не ошиблись! – и тон его разговора вдруг поменялся так, что у лорда Джорджа, в два раза старше графа, мгновенно пошли мурашки по хребту. – А теперь проваливайте, любезнейший, подобру-поздорову! Я объявил перемирие, и сдержу слово, в противном случае вы уже пошли бы на корм воронам…
И прежде, чем успел обуздать свой минутный страх, лорд Хоум уже поневоле отступил на шаг под этим свирепым ледяным взглядом. Белокурый же, долго посмотрев на противника, с полным пренебрежением развернулся к нему спиной и, сопровождаемый Джоном Максвеллом, отправился через поле к замку.
– Патрик, – прошипел лорд Джордж, глядя ему вслед с бессильной злобой, – скажи ему хоть ты, что я в своем праве!
Болтон первым браком был женат на сестре Джорджа и, хотя Николь рано умерла, оставив ему двух таких же хилых, как она, отпрысков, воспоминания о ней он сохранил самые лучшие, и потому положил Хоуму руку на плечо:
– Остынь! Босуэлл привязан к сестре, а ты слишком грубо попытался предъявить свое право. Да еще пятнадцать лет спустя – вам же не нужна была девчонка все эти годы? А теперь понадобилось пристроить ее денежки? Остынь, Джордж, она не стоит кровной вражды.
– Это как поглядеть… – процедил сквозь зубы лорд Хоум, запахивая плащ, направляясь к своим. – Ну, я еще припомню ему сегодняшнюю игру в мяч!
Болтон нагнал племянника уже возле входа в Караульню.
– Убрался? – спросил граф у Болтона.
– Ну да, – отвечал тот. – Вот согласись, полезная же это штука – власть… только ты, похоже, с ним теперь на крови.
– После того, что им устроил старый Джон Хепберн, приор, – философски возразил граф, – мы с ними давно уже на крови, разве нет? Убрался – и слава Богу, меньше вони. Хоумы все-таки родня, хоть и дальняя, не резать же их только за то, что лорд у них без мозгов…
Граф Босуэлл не поскупился на то, чтоб приветить своих гостей – пиршественные столы занимали оба холла замка, зал для лордов и ближних, и зал для кинсменов помянутых лордов, и столы стояли на берегу Хермитейдж-уотер, под открытым небом, под первыми звездами в летнем небе Приграничья. Кто не был сыт – был пьян, и наоборот, однако, сытых и пьяных одновременно было больше всего. Пол, устланный тростником, был также покрыт уже и объедками, и телами павших в сражении с добрым виски. Тот, кто не храпел – братался с соседом, но дружба эта не проживет дольше похмелья. А с кухонь все наплывали и наплывали новые блюда, кувшины эля, огромные свежие хлеба… Над головами усталых, объевшихся, хмельных гостей в холле для лордов плыли первые звуки музыки – флейты, волынки и барабаны, и еще нежный подголосок фиддлов. Кто еще мог стоять на ногах, горели желанием растрясти еду перед вторым заходом обжорства и пьянства. Белокурый скучающим взором окинул зал, обратился направо:
– А танцевать мне тоже не положено, дядя Болтон?
Старший родич оторвался от крупной говяжьей кости, которую выловил из рагу – лорд Болтон был на редкость трезв, прекрасно понимая, что у него впереди еще бессонная ночь, и брал свое едой. Волокна мяса застревали в его густой бороде, лоснящейся от жира, и кое-где свисали с усов, хотя он деликатно утирал рот полотенцем, лежащим на коленях. Вот потому, отвлеченно заметил про себя Патрик, и следует бриться начисто, по примеру епископа Брихина и самого Цезаря… и потер шершавящийся подбородок.
– Это уж как твоя графская светлость изволит, – отвечал Болтон, проглотив кусок, препятствовавший разговору. – Но даму выбирай с умом, Патрик. Тут четыре фамилии кровников, которые только из уважения к твоему титулу и своре Хермитейджа попрятали ножи на двое суток. Если ты выберешь девицу Скотт – не поймут Керры, хотя Фернихёрст с Бранксхольмом, в отличие от Кессфорда, пока что не на крови. Если ты выберешь одну из Максвеллов – лохвудские Джонстоны тебе это потом припомнят, хоть и сидит их тут только два десятка соглядатаев, не больше… да и все остальные за своих дочерей порвут горло. И почти каждая из девиц, кого ты позовешь в пару, решит, что ты ее зовешь и в постель… и замуж. Оно тебе надо, сейчас жениться?
– Ничего себе, – хмыкнул Белокурый. – Да у вас тут посложней, чем при дворе, как я погляжу.
И он спустился с помоста, направляясь к столам, стоящим по правую руку от хозяйского, все-таки туда, где обосновались Максвеллы, неторопливо прошел несколько шагов, прекрасный, равнодушный к похвале и хуле, к восторгу и поношению, в этом своем темно-кровавом бархате, переливающемся золотым отсветом при движении – словно внутренний огонь Белокурого пробивался изнутри, из души, на поверхность платья – и все с той же мягкой, сдержанной грацией сильного парня, воина и наездника, затем остановился, почти не глядя, протянул открытую ладонь в пространство… волынки уже начинали его любимую тему хорнпайпа, но для парадного случая ничего, лучше паваны, пока не придумано.
Патрик знал, чья рука ляжет в его собственную еще прежде, чем он позовет. Леди Дженет Хоум поднялась со своего места, полная достоинства и неоспоримого права быть рядом с ним – до того, как любая из девиц Максвелл поняла, что происходит. Лорд Джон Максвелл заметил нестерпимую досаду на лицах племянниц и усмехнулся в бороду – девчонкам придется подождать…
– Потанцуешь со мной, сестренка?
– Как вам будет угодно, ваша светлость, господин брат мой…
Серые глаза Джен искрились весельем, когда он вывел свою даму на середину зала.
Роберт Максвелл метнул на сводного брата такой взгляд, что Белокурый задумался, а нет ли уже у Дженет нареченного… Роб – не худший вариант, но сестра графа Босуэлла, любимца короля, явно заслуживала жениха породовитей и поближе к столицам. И почти все молодые леди в зале отравились черной желчью, утешив себя только тем, что хилая худая стерва – единоутробная графская сестрица. Ничего, они своего часа дождутся – на сестрах не женятся, и с ними не спят, будь ты хоть трижды Дивный граф.
Они прошли в танце с десяток па в молчании, улыбаясь, искренне любуясь друг другом, двигаясь так согласованно, словно тела их связывала невидимая нить кукловода. Дженет смотрела на него почти завороженно, как если бы облик брата был для нее светлее солнца.
– Патрик, ты такой красивый…
– Ты тоже, моя малышка, ты тоже, – это было не совсем правдой, потому что Джен сейчас напоминала лебеденка, серого, незрачного, являющегося еще только мечтой о лебеде, но мечтой, которая непременно сбудется. – Но говори со мной не об этом. Времени подумать у тебя – до конца паваны. Я выставил вон твоего дядюшку, но, может, ты хотела бы в самом деле вернуться к Хоумам?
– С какой это стати? – удивилась Дженет.
– Максвелл не принуждает тебя выйти замуж за кого-нибудь из своих?
– Нет, и разговора не было…
– Договоримся: ты скажешь мне, если это случится. Независимо от того, будет ли наша мать на стороне мужа или нет, ты мне скажешь, если брак будет тебе не по душе.
Это не было просьбой, это было приказом. Джен Хоум по крови не принадлежала к роду старшего брата, и не была в его власти, как лэрда, однако с готовностью приняла его волю над своей… по любви, и потому что он в самом деле ослеплял собою ее полудетский взор.
Граф Босуэлл остановился посреди холла, когда умолкла павана, поцеловал узкую руку и затем – высокий белый лоб леди Дженет Хоум. И девочку бросило в жар не от ласки, а от того, что она очевидно дорога его сердцу.
Хермитейдж-Касл, жилые покои лэрда, Лиддесдейл, Шотландия
По стенам зала горели факелы, отбрасывая причудливо пляшущие тени, но за стенами Хермитейдж-Касла стояла глухая ночь. Завершился пир, и подошел к концу день присяги, когда в Караульню съехались лучшие из лучших в Долине, именитые лорды Границы, чтобы засвидетельствовать свое почтение молодому графу Босуэллу. Большинство из гостей разместилось в шатрах вокруг Караульни, самые ближние к хозяину по крови или по узам дружбы занимали покои в замке. Снаружи еще раздавался вой волынок – еще гуляли рейдеры, еще горячи были песни и ругань, и еще метали бревно, ревом приветствуя самых умелых, и звуки рила плыли под ясными летними звездами, смех и визг бойких девушек Хермитейджа, азартные уговоры парней…
Лэрд Лиддесдейл, уже в дублете нараспашку, разгоряченный долгим днем, собственной неоспоримой и впервые примененной властью, изрядно хмельной от выпитого за день – хотя умел пить, не валясь с ног и сохраняя приличную ясность сознания – прошел через двор, где трезвыми стояли в карауле только люди Бинстона, а гости спали вповалку, завернувшись в пледы, миновал холл для кинсменов, вошел во второй холл, где кое-кто еще сидел за столами, хотя служанки и прибирали объедки, и подтирали лужи вина и эля. Граф Босуэлл замер на мгновенье, прищурясь, наблюдая за их работой, решая, не стоит ли умерить разборчивость именно сегодня, когда со стороны кухонь скользнула мимо какая-то тень в юбке… молодая женщина успела бы пройти незамеченной, если бы не порыв сквозного ветра по стене, который бросил на нее пятно красноватого света от чадящего факела. И тотчас Белокурый схватил ее за руку – она слабо ахнула, оказавшись лицом к лицу с красавцем-хозяином, и уронила на пол кувшин молока, который несла наверх, в господские покои. Белое пятно поползло лэрду под ноги, но впиталось в затоптанный к вечеру тростник, измятую таволгу.
Она была юна и довольно миловидна, глаза расширены скорей от внезапности его жеста, чем от страха, большие, слегка овечьи голубые глаза, густые пшеничного оттенка волосы… какая, в сущности, разница? Патрик Хепберн возвышался над ней больше, чем на голову, стоял так близко, что она чувствовала исходящее от его разгоряченного молодого тела тепло; от лэрда ощутимо несло виски, руки его прошлись от талии дамы и выше, уверенно легли ей на плечи…
– Ты… как тебя звать? Ты меня хочешь?
– Мэри… конечно, ваша милость!
Это «конечно, ваша милость» сопровождало его еще и следующие четверть века, и здорово испортило ему самомнение, разумеется, но, видит Бог, по молодости он же еще их спрашивал! Мог бы просто завалить на спину.
– Ты девица?
– Н-нет… ваша милость.
Поутру оказалось, что она – камеристка и воспитанница грозной леди-бабушки, и старая графиня Босуэлл отбыла домой в ярости, но это и поутру не сильно-то волновало Белокурого, не то, что уж теперь. Теперь его разрывало на части от похоти, голова слегка кружилась от выпитого, и он прижал молодую женщину в нише стены, целуя грубо, почти жестоко. Она не сопротивлялась даже для виду, напротив, была тепла и податлива, несмотря на невинное личико, и граф едва не приступил к делу тут же, где и настиг добычу. Но обернулся не на звук, а, скорей, на присутствие живого существа – по залу и до сих пор бродило изрядное количество нетрезвых гостей, и большая часть из них была занята тем же, что и хозяин – укрощением доступных служанок Хермитейджа… Он обернулся и поймал спокойный взор отчима, увидел мелькнувший край плаща матери – Максвеллы провожали своих женщин в гостевые покои Караульни, в Южной башне – Роб Максвелл ухмыльнулся ему паскудно, с пониманием, и блондинка быстро укрылась на груди у Босуэлла… а потом глаза сестры резанули его по лицу, широко распахнутые серые глаза, полные такой глубокой обиды, почти боли, что он даже слегка протрезвел… надо будет спросить Джен завтра, что стряслось, кто посмел ранить ее словом ли, делом… но мать и сестра, взмахнув юбками, быстро исчезли, поднимаясь по лестнице, а граф взял свою случайную даму за руку, потянул за собой наверх, в покои хозяина. Огромное преимущество быть лэрдом – не приходится приглашать свою избранницу в темные кусты или сырую канаву, чтобы получить хоть видимость уединения в минуту нежного союза. К моменту, когда они преодолели все эти бесчисленные ступеньки, множащиеся особенно быстро, когда ты нетрезв, лэрд был уже каменный до боли в том месте, которым следует доставлять удовольствие даме, а потому, не церемонясь, нагнул Мэри над постелью, закинул юбки ей на пояс, не утруждаясь ласками, распустил шнуровку гульфика и вторгся в женщину, которая вскрикнула от неожиданности натиска и от величины орудия… о да, вот оно… Господи, благослови их всех, и шлюх, и добродетельных, и девиц, и вдов, и неверных жен, и праматерь Еву – в первую очередь, за то, что сделала познание добра и зла столь сладостным… виски еще туманил сознание, жар в крови возрастал, Патрик проникал в любовницу размеренными, острыми, сильными выпадами, до самой женской сути, та вздыхала, кусала губы и поскуливала так, словно ее драли черти в преисподней:
– Ох, ваша милость… ох, полегче, Царица Небесная!
– Заткнись, Мэри! Не Богоматерь пособляет совокупляться… какая же ты узкая, девочка… и атласная внутри!
– Ваша милость, только не останавливайтесь, красавчик мой сладкий… ох, берите меня еще!
Мольба излишняя, право слово. Кровь, власть и женщина, которая отдается тебе со страстью – только это и позволяло Патрику Хепберну чувствовать себя по-настоящему живым, по-настоящему в настоящем. То были его моменты подлинности, дающие труд телу и умиротворение сердцу. Бедняжка Мэри закричала в голос уже безо всякого стыда, когда граф бросил ее на постель, продолжив входить сзади все жарче и злее, она уже не могла понять, где смешивались в ней наслаждение и боль, и желала умереть прямо теперь, чтобы отправиться в рай, где наверняка снова продолжится это неумолимое, греховное движение жезла внутри ее тела, так невыносимо возносящее к небесам. Грудь ее, выскользнувшую из корсажа, терзали изящные сильные пальцы, на одном из которых загорался и гас фамильный рубин Босуэллов – в такт наносимым ударам…
Йан МакГиллан, расслышав характерные звуки из покоев лэрда, поставил у закрытой двери поднос с едой, а сам опустился на пол, скрестив ноги, на ледяном камне лестницы, деловито достал правильный камень, вытащил из-за голенища сапога скин-ду… после всех упражнений сегодняшнего дня молодой Босуэлл заснет, как убитый, а у лэрда нет еще привычки спать вполглаза, такой полезной в этих краях. Сколько тут было случаев, когда проспавшиеся первыми гости вырезали подчистую еще хмельных и сонных хозяев. Когда на винтовой лестнице раздались тяжелые шаги, под рукой МакГиллана, не изменившегося в лице, тихо звякнул короткий арбалет. Но то был Уилл Ролландстон, проверяющий посты и порядок по Караульне. Патрик Болтон оставался в зале, распоряжаясь размещением особо пьяных и буйных гостей. Лэрд Лиддесдейл спит, а эти двое не будут спать всю ночь. Лорд Уильям заметил Йана, кивнул, потом свистнул вниз по лестнице – из нижнего яруса тотчас явился Оливер Бернс с парой своих ребят, расположился тут же на лестнице, чуть ниже МакГиллана. Винтовая лестница – коварная штука, и всего нескольких человек хватит ее отстоять, если что…
Над Караульней Лиддена, в храпе, шопотах, последних нетрезвых выкриках стояла черная приграничная ночь. Йан МакГиллан прислонился спиной к стене, подоткнул под себя плед и со вкусом протянул лезвие кинжала по точильному камню.
– Вставай, граф, поедешь со мной…
– Куда это? – из-за полога графской постели появилась растрепанная светлая голова, помятое лицо лэрда Лиддесдейла, сонные синие глаза. Рассвет только-только занимался на болотах вокруг Караульни.
– Как куда? – удивился Болтон. – А арендную плату я пожизненно за тебя собирать буду? Ладно, нечего косоротиться, тебя никто не заставляет это делать постоянно, но разок объехать свои земли не грех. Пусть люди видят, что у них опять появился лэрд.
Прошло дней десять после торжества присяги, лето шло на Ламмас. Арендную плату Болтон рассчитывал собрать до осени, прежде, чем начнется время рейдов – иначе, неровен час, ее за тебя успеют собрать другие. Заодно он хотел показать новому лэрду его владения – как есть, без прикрас, чтоб имел понятие… и если уж молодой Босуэлл намеревался в самом деле проявить себя Хранителем Марки, путешествие как нельзя лучше пошло бы ему на пользу для расширения кругозора. Когда Патрик, еще позевывая, потягиваясь по утренней прохладе, спустился на берег Хермитейдж-уотер, там уже собрались по два десятка рейдеров от сотен Бинстона и Бернса, при полном параде – в джеках и стальных боннетах, в плотных коротких штанах, пригодных как нельзя лучше для долгой верховой езды, и в высоких кожаных сапогах, и либо пара пистолей заткнуты за пояс сзади, либо короткий арбалет, который можно взвести одной рукой, называемый здесь «щеколдой», закинут на ремне за плечо – ожидающих только явления его милости. Его милость обозрел их не без удовольствия и заорал в сторону конюшен, чтоб седлали Раннего Снега. Жеребца вывели, и он трусцой направился к хозяину, недовольно потряхивая виснущего на поводьях молодого конюха. Лорд Болтон окинул животное взглядом опытного коневода и конокрада:
– Отличный жеребец! И отличная мишень – виден издалека и в сумерках… для Приграничья тебе нужен галлоуэй – каурый или гнедой, как пожелаешь.
– Это чтобы я пятками цеплялся за кочки, дядя?
– Ну, если уж я научился этого не делать, – хохотнул Болтон, – так и ты справишься, ваша светлость!
– Не сегодня, – отвечал граф, чуть поразмыслив, хотя в дельности дядиного совета сомневаться не приходилось. – Должен же я произвести впечатление.
У брода, в поле, их ждало еще с полсотни налетчиков – низачем, но для впечатления исключительно.
В сущности, это был почти что обратный путь – на северо-восток, к Джедбургу, через земли всех недавно подписавших бонд фамилий: от Тёрнбуллов к Рутерфордам, к Янгам, к Принглам, в могучий Смейлхольм, угнездившийся на каменном выступе и глядящий на много миль вокруг в каждую сторону света. Дальше начинались уже земли Хоумов, где гостеприимства можно было ждать весьма условно, и отряд Босуэлла повернул обратно от границ Марки, с визитом к Керру Фернихёрсту. После Фернихёрста, наподалеку от Келсо, Босуэлла и Болтона оставили люди Уилла Ролландстона – тот возвращался в Крайтон, где сам граф не покажется до весны, когда сам лорд Уильям навсегда переберется к себе в Ролландстон. Как дальше повернется судьба Патрика Болтона, мастера Хейлса, придется ли ему тоже покинуть Хермитейдж-Касл теперь, когда замок передан законному наследнику, граф Босуэлл помалкивал, и сам лорд Болтон также предпочитал об этом покамест не спрашивать. Возвращаться в Болтон-тауэр хотелось ему весьма умеренно… Впереди еще остаток лета, осень – время рейдов, долгая промозглая зима – прежде чем лэрд Лиддесдейл сможет обойтись в этих землях без его помощи.
Вкусив суровое гостеприимство сэра Эндрю Керра – Болтон отсоветовал ночевать в Фернихёрсте, ибо нрав левшей не поддавался никакому предсказанию наперед – молодой Босуэлл двинулся на север, к Мелроузу и Галашилсу, через долины Ярроу и Твида, вглубь Мурфутских холмов. Оттуда Патрик хотел пройти по течению Твида на запад, и затем в долину Аннандейл, можно было бы большим кругом вернуться в Хермитейдж через Западную Марку, навестив мать и сестру у Максвеллов в Карлавероке, однако Болтон опять отговорил его: таким путем прежде Максвеллов пришлось бы повидать изрядное количество Джонстонов, а сотня – не тот отряд, который устрашил бы Джона Джонстона, лэрда Лохвуда, от предательского удара в спину. Выяснять отношения с лохвудскими чертями следовало в ином составе, и Босуэлл пошел вниз, к югу, тем же путем, повсюду, где бы ни останавливался, собирая жалобы, как то пристало королевскому лейтенанту. Уже на третий день похода голова его шла кругом от сонма взаимных обвинений, которые возводили друг на дружку местные лэрды – с перечислением проступков до десятого колена, не меньше. Когда же молодой и нетерпеливый Босуэлл предлагал говорить конкретнее, с указанием времени, места, размеров недавнего – лишь за минувший год, к примеру – ущерба, на него смотрели, как на варвара, нарушающего священнодействие в храме. Болтон веселился от души.
– Ты пойми, – объяснял он племяннику, – для местных жалоба – это вид искусства! Он не ждет от тебя возмездия – он и сам соседа порезать в силах, он жаждет участия и сочувствия…
– Это не ко мне! – отрезал Патрик. – Коли нет такого ущерба, который бы он хотел возместить, да не тратит он мое время. А поговорить пусть приходят на Дни перемирия – так, ты сказал, это называется?
Верный брауни Джибберт Ноблс покачивался в седле в хвосте отряда, вцепившись в гриву покладистого галлоуэя, словно клещ в собачье ухо. Заведенная им к случаю новая книга в кожаном переплете теперь расползалась от бесконечных жалоб его милости Хранителю Средней марки.
На исходе лета холмы Приграничья прекрасны как никогда. Порой всадникам доводилось пересечь целое поле цветущих маков, отчего лэрд Лиддесдейл казался себе плывущим по колено в крови… или сплошное золото сурепки с ее сладким, удушающим ароматом – до горизонта… белые крохотные маргаритки во ржи под пасмурным небом. Узкие быстрые ручьи, прыгающие с камня на камень, которые Ранний Снег переходил с недоумением на морде, почти не замочив копыт. Старые церквушки, прячущиеся в редкой зелени, и приходские кладбища возле, такие тихие, что выспаться на них хотелось еще при жизни. Восходящее солнце срезало первыми лучами края сереющих в сумерках надгробий… Каменные круги овечьих загонов, древние, словно сами холмы. Редколесье, покрывающее эту землю, было самым странным скопищем деревьев из всех, какие только видел Белокурый, на охоте с королем изучивший все зеленые окрестности Эдинбурга. Древесные стволы здесь все, как на подбор, были невысоки, но разлаписты и кривы так, словно их ведьмы помелом закручивали от самого корня. И стояли внаклонку к земле, от века удерживая злобные порывы ветра с западных гор.
Поля, холмы, равнины, долины, излучины мягко сменяли друг друга под мерный шаг Раннего Снега. Босуэлл и Болтон никуда не торопились. И старший дядя говорил, говорил… К пятому дню похода Белокурый с изумлением наблюдал исключительно трезвого вот уж которые сутки родственника – у лорда Болтона было фамильное железное здоровье, позволявшее равно легко переносить как беспробудную пьянку несколько дней подряд, так и полное отсутствие виски, даже в седельной фляге. Патрик Болтон был собран, внимателен, точен и ловок в каждом движении, разумен в каждом спорном вопросе. В рейде он вообще не позволял себе спиртного, слишком цена была высока, добро бы – только своя жизнь, но у пьяного капитана под рукою и люди долго не живут. А Болтона рейдеры не только уважали, не только подчинялись ему, но и любили… Крупные, резкие черты в обрамлении буйных черных, уже с изрядной проседью волос, живые темные глаза, прячущаяся в густой бороде фамильная ехидная усмешка – кабы сдать дядю на руки приличному цирюльнику и придворному портному, получился бы из него заправский лорд и внешностью, не только по воспитанию. А на воспитании этом толстым слоем жирной дорожной пыли лежали шестнадцать лет приграничных рейдов, налетов на сассеннахов и резни среди своих, шестнадцать лет кочевой жизни в поле днем и ночью, жизни вечно настороже, полной жестокости, крови, потерь и разочарований. Старшему дяде было всего тридцать шесть – или уже тридцать шесть – по меркам Приграничья возраст глубокой зрелости и совершенного опыта, а за счет роста, веса, комплекции он казался еще и старше своих лет. Как некогда Брихин посвящал племянника в таинства политики и интриги, так сейчас Болтон прикармливал теплым мясом приграничного разбоя.
– Что тебя, собственно, удивляет? – вопросил он Белокурого, когда поутру на шестой день они выехали от Бернсов по направлению к Келсо – на Смейлхольм-тауэр и к Принглам.
– Меня не удивляет, – медленно отвечал граф Босуэлл. Раннее утро, обнимающее кавалькаду всадников, дышало таким покоем, что тема их разговора прозвучала, как фальшивая нота, резко и неприятно. – Я в толк взять не могу до сих пор, как все здесь, на Границе, живут разбоем… и эти даже, с их «достойной уважения» дружбой.
– А, так ты не поверил мне на слово, ваша светлость, – хмыкнул в бороду лорд Болтон. – Что ж, тогда кушай из первых рук…
– Да уж тошно от такой жратвы.
– И напрасно, между прочим. Ты тоже тем и живешь, – отвечал Болтон. – Что, разве Джон тебе ничего не рассказывал? Ну, значит, опять придется мне. Выкуп, рента, простой грабеж, а как ты хотел? Конечно, приличную часть твоих денег приносят арендаторы, поэтому с ними надо поаккуратней, даже если олень в охоте заскочил к ним на поле… но и сложный грабеж никто не отменял. Что ты морщишься? Ты только в третьем поколении граф, а до этого Хепберны жили куда как весело. И кое-кто из нас так живет до сих пор, те же Бинстоны или Ваутоны. Контрабанда вот еще… не забывай, твой Хейлс стоит на Тайне, а туда приходят все те, кто не желает платить королевскую пошлину в Лейте. Большей частью, сассенахи, но есть и датские, норвежские капитаны. Я не припомню их что-то уже лет десять, но все то время в Хейлсе жила леди-мать, вряд ли она их привечала. Теперь, когда пойдет слух, что в Хейлс вернулся Босуэлл, они тоже вернутся…
Говорил он так, словно Белокурый уже был согласен и на разбой, и на контрабанду. Граф мерно покачивался в седле, отпустив поводья Раннего Снега, и был мрачен, ибо наследственный способ приращения богатств семьи и должность королевского лейтенанта пока что не совмещались в уме никоим образом.
Смейлхольм, пилтауэр Принглов, Приграничье, Шотландия
Это был довольно однообразный пейзаж, который лишь слегка скрашивали горы на западе, их угрюмые серо-сизые спины. За перевалом находилась Западная Марка, земли от века соперничающих за господство Джонстонов и Максвеллов. Существо от природы исключительно земное и непоэтическое, Патрик Хепберн вначале бесился от скуки, глядя, как хребет холма ныряет в долину, а после снова выплывает новым изгибом почвы, потом привык, потом это стало ему даже нравиться – где-то к пятому дню похода. К пятому дню похода бескрайнее небо над холмами захватило его и понесло – всякий раз, как он смотрел ввысь, клок сердца отрывался и воспарял туда, к перистым облакам, скрывающим Господа… о Творце настоящий приграничник задумывается всего дважды в жизни – на первом причастии и на последней исповеди, аккурат перед джигой висельника, но молодому Босуэллу тогда еще свойственно было удивляться величию Творения и неведомому промыслу Творца. Радуга в полнеба через все поле от края до края… он вырос в городе, тесном и душном, полном людей и людской грязи, где только ветер с моря вымывал из улиц их затхлый запах, он никогда не видал такого простора на небе и на земле. Мирно золотились поля, полные наливающимся зерном, дорога вилась под холмом, и серая пыль оседала на шкуре мохноногих шустрых галлоуэев. Пилтауэры появлялись среди всего этого благолепия внезапно, на горизонте, на скальном выступе почвы холма, среди чистого поля, словно зловещее напоминание о том, какова действительная подоплека мирного времени в Приграничье. Угрюмые башни, обнесенные барнекином, караульные на стене, запертые ворота… для королевского лейтенанта и Хранителя Марки они отворялись по первому окрику, и там, во внутреннем дворе, Босуэлл вновь вел бесконечный разговор с настороженным хозяином. Иногда Патрик принимал предложенное гостеприимство, как было в Смейлхольме, иногда, как было у Керров, предпочитал увести людей на открытый воздух, чтобы засыпать возле теплого костровища, завернувшись в плед, сквозь дремоту слыша, как пересвистываются часовые, как ведет старинную песню о парне с Ярроу приятный, чуть с хрипотцой голос кузена Бинстона… чтобы до того, как веки сами собой сомкнутся от усталости, в глаза лилось затухающее в пожаре бессмертное небо. Особенно рассвет и закат здешних мест завораживали Белокурого – мелкие брызги розовато-золотого света на бледном серо-голубом или густое небо, сквозь темную синеву приближающейся ночи полное крови.
Они заходили в дома беднейших, обмазанные глиной и коровьим навозом поверх сплетенных из ивняка стен – без окон, топившиеся только жаровней на полу, пропахшие и зачерненые торфяным дымом, и там граф Босуэлл, хранитель Марки, усаживался за стол с семьей хозяина и ел с фермерами тот самый потаж с ежами и белками – и не морщился, что по первости удивляло Болтона, помнившего, каким сияющим щеголем прибыл в Хермитейдж Белокурый. Они ночевали в бастлхаусах зажиточных – если можно называть зажиточным человека с малым куском земли, двумя десятками овец, парой молочных коров и пятеркой галлоуэев – в тех грубых деревянных срубах или каменных двухэтажных домах, сложенных так массивно, словно их строили тролли. В первом этаже, в сводчатом хлеву, ревели коровы, укрытые на ночь, оттуда через люк в полу в комнаты второго, чистого этажа, поднимался острый запах навоза и овечьей мочи, влажный дух закрытого стойла. Здесь, наверху, над стойлами, Босуэлла ждала сухая постель и жаровня возле кровати, и потчевали тем же потажем, но уже с овечьей головой для дорогого гостя. Бастлхаусы ласкали взор Белокурого своей добротностью – конечно, эта примитивная каменная кладка не выдержала бы, скажем, залпа из пушек, но десяток-другой «конченых», вооруженных только пистолями да джеддартами, вполне могла заставить разочароваться в своих намерениях. Самые знаменитые рейдеры обитали в пилтауэрах – укрепленных башнях, а лэрды – в кипах, укрывищах-крепостях. Есть три способа построить правильный пилтауэр: на скальном выступе-возвышении, чтобы видно было с караульной галереи на много миль вокруг; посреди болота, чтобы любой неприятель завяз по шею, пробуя подойти к барнекину; в глухом лесу, где надобно еще не заплутать нападающему, а защитникам легко выбить любого врага. Сейчас граф Босуэлл направлялся в логовище волка, обустроенное по третьему типу – в твердыню Бранксхольм, с ответным визитом к Уолтеру Скотту Бранксхольму-Бокле, легендарному Уоту Вне-Закона.
– Гляди! – сказал ему Болтон еще на подъезде к Бранксхольму. – Вот это и есть – настоящее золото Долины…
Не тот богат в Приграничье, у кого есть звонкая монета – монету не опустишь в пустой желудок, а тот, у кого действительно много скота. Скот – это жизнь. Это мясо и кровь, и это потаж, и сыр, и молоко, и кожа, и шерсть, и сукно – и даже замена оконных стекол! Оконные стекла бережливый сэр Уолтер держал только в личных покоях и еще – в самых парадных гостевых, в остальных окна были затянуты от сквозняков затертой до прозрачности, дубленой коровьей шкурой. А вот стада его ревели в загонах, на зачищенных в лесу полянах, и было этих стад несметно – не сосчитать. Стада приумножались и рассеивались, закалывались, поедались, дарились, раздавались в голодный год кинсменам, уворовывались с другой стороны границы, а, подчас, и у более слабых соседей. С Бранксхольмом боялись связываться и свои, и сассенахи, сам сэр Уолтер не боялся связываться ни с кем, и с равным усердием запускал лапу в любой подвернувшийся кошель. Каждый День перемирия в Картер Бар, когда шотландские и английские лорды-хранители совместно разбирали прегрешения приграничных рейдеров с обеих сторон, становился для сассенахов днем головной боли именно из-за Уота Вне-Закона, прозванного так в том числе и за то, что жаловаться на него было решительно некому, не ему же самому, как смотрителю Лиддесдейла? Для жалобщика, чтобы взять свои обвинения и улики обратно, бывало достаточно увидеть, как сэр Уолтер только появляется на судилище – кому захочется получить деньгами за украденную корову, чтобы на обратном пути домой по чистой случайности лишиться жизни? «Клевещут», – отвечал сэр Уолтер взбешенному лорду Дакру, пожимая плечами, протирая клинок рукавом своего старого стеганого дублета. – «Ибо злых и завистливых довольно под солнцем, так оно и в Писании сказано». И улыбался. Улыбка у него была такая, что почти у всякого по спине отчего-то проходила изморозь.
Это был странный характер, цельный в своей противоречивости и сложный во мнимой простоте. Бесстыдный, наивный и по-детски простодушный в каких-то своих поступках, во всем остальном Грешник Уот был жесток и интуитивно коварен, как всякий дикарь. Уолтер Скотт Бранксхольм-Бокле был рожден от кровной вражды и ею вскормлен, ныне же питался ею сам и питал ее собой. С фаталистическим равнодушием он, как данность, принимал возможность самому сгинуть в финале этой вражды, хотя, по его мнению, Керры должны были все-таки сгинуть раньше – во всяком случае, он прилагал к этому все усилия. Белокурый не обманывался насчет подписи Уолтера Скотта под бондом и его обещанной дружбы, но уж лучше было получить от Бранксхольма хотя бы невмешательство в свои дела, чем его подлоги, каверзы, подножки, ловушки, обманки и прямое вредительство. А кроме Скоттов, рода многочисленного и сварливого, под рукой Злобного Уота ходила еще и орава Эллиотов – потомственные копьеносцы Бранксхольма-Бокле, они жили по своим законам и со своим лэрдом, но признавали верховным вождем Уота Вне-Закона. И, что особенно настораживало Босуэлла, их не было в день его торжества в Хермитейдже.
Лорд Болтон думал о том же:
– От того, как мы договоримся с Уотом, – вещал он, мерно покачиваясь на галлоуэе, – зависит очень даже многое. Он тут – изрядному числу молодчиков голова, не только своей фамилии. Это даже и хорошо, что мы едем в Бранксхольм со всей-то собранной с Долины арендной платой. Если Уот будет в духе, оно ничего. Если нет, то рента – такая превосходная приманка на обратном пути, особенно теперь, когда ушел Ролландстон, когда наших стало меньше… сам Уот мараться не станет, но ищеек может и выслать вслед.
– То есть, на нас нападут?
– Само собой! – жизнерадостно согласился Болтон. – Запомни, племянничек, самое удобное – это когда враги приходят к тебе сами, а не когда ты за ними гоняешься… вот сразу и узнаем, на кого пойдем в рейд другим разом.
Уолтер Скотт Бранксхольм-Бокле был в духе.
Это было понятно по той позе, в которой он поджидал Хепбернов, стоя на входе в главную башню Бранксхольма – расслабленной и одновременно исполненной силы, и одна рука сэра Уолтера, как всегда, находилась на рукояти поясного кинжала. Невысокий, сухощавый, жилистый, облаченный в свой лучший наряд – черного сукна дублет, расшитый цветами чертополоха, который почти наверняка был еще и простеган со стальными пластинами внутри, короткие штаны, высокие сапоги, почти новые, хотя и слегка заляпанные грязью – Злобный Уот уже объезжал нынче с утра свои глухие владения – боннет, лихо сидящий на коротко стриженных, начинающих седеть волосах, и яркий черно-белый плащ, в цветах Скоттов Приграничья, заколотый на плече брошью с сохатым и латинским «Amo!» – сэр Уолтер представлял собой фигуру не только весьма живописную, но и гордую своей неизменной удачливостью, и предупреждающую всякого, прибывающего к главе семьи Скотт, о должной осмотрительности. Караульные, рассеянные в лесу, пропускали в чащу всякого, но лэрд бывал извещен о гостях значительно раньше, чем сами гости хотя бы догадывались, что за ними следят. Это напоминало путешествие к сказочному великану – далеко не все смогли вернуться обратно, на опушку леса, однако местный лэрд овладевал своей жертвой не посредством громадной физической силы, а умом, хитростью, изворотливостью, хладнокровием и жестокостью. И змеиным языком – ибо переговорить просторечного на первый взгляд сэра Уолтера удавалось немногим. Бранксхольм-Бокле улыбался – на его живом, подвижном лице эта улыбка рассыпалась на несколько мелких, перетекающих из прищуренных серых глаз по тонкому шраму на виске во впадину под скулой, в густые рыжеватые усы, очерчивающие рот и подбородок, в уголок узких губ, сложенных почти всегда с изрядным ехидством. Из этой мерцающей усмешки порой трудно было понять, веселится ли Уолтер Скотт в самом деле, или уже оскал матерого волка перед броском обнажает его белые, хищные резцы.
Скотты до известной степени были олицетворением всей приграничной Шотландии, ибо что может быть одновременно общего и при том определенно личного для шотландца, кроме этой фамилии – Скотт? Бесстрашные, буйные, коварные, мстительные, отходчивые, гостеприимные, щедрые – из тех, кто и как друзья, и как враги запоминаются надолго. И твердыня Бранскхольм отражала собой все лучшие и худшие черты рода и его вождя. Обширный внутренний двор, обнесенный барнекином высотой не менее, чем в три человеческих роста, заключал в себе амбары, кухни, кладовые, дом для слуг и кинсменов, птичник, овчарню, свинарник, конюшню, кузню. Сам барнекин по каждой стороне снабжен был деревянными балконами на внутренней части стены, позволяющими лучникам и арбалетчикам вести стрельбу по нападающим, находясь в относительной безопасности. Ворота в барнекин изготовлены из тесаных дубовых досок на массивных железных скрепах, и могучая кованная решетка, подтянутая кверху на цепях, щерила клыки на подъезжающих. Сейчас ради дорогих гостей ворота были распахнуты настежь, и волынщики по обеим сторонам огромных створок заводили приветственный пиброх Скоттов, но дружелюбия твердыне Бранксхольм это никак не прибавляло.
– Да, – заметил Белокурый дяде вполголоса, когда они подъехали к барнекину, – это ж надо действительно быть вором и налетчиком до глубины души, чтобы обитать в таком логове!
Сама крепость состояла из бывшего пилтауэра, окруженного припепившимися к нему, как наросты древесного гриба, подзнейшими расширениями и достройками – две башни поменьше и холл, соединенный с большой башней крытой галереей, безо всякой, как отметил Белокурый, архитектурной гармонии, однако очень добротные. Единственное и верное впечатление от этого дома было только одно – что его хозяин готов к обороне и ответному нападению в любой момент. Бранксхольм-тауэр подслеповато и настороженно глядел на приезжих маленькими узкими оконцами, в которых безошибочно угадывались бывшие бойницы, и ко главному входу во втором этаже вела грубовато сложенная каменная лестница – усовершенствование нынешнего лорда. В первом этаже, где прежде держали скотину зимой, сейчас сэр Уолтер устроил свой гарнизон. Вот наверху лестницы, в открытых дверях, и встречал своих гостей глубоко почитаемый в этих краях Уолтер Скотт Вне-Закона, и никто не знал, ни хозяин дома, ни гости, чем завершится эта знаменательная встреча.
Любопытно, что Босуэлла Уолтер Скотт сразу принялся называть почти исключительно по местному титулу, как хозяина Долины – лэрд Лиддесдейл. Несмотря на то, что, как зубоскалил о нем Болтон, для Уолтера Скотта «ты» – это когда один, а «вы» – когда много, лэрд Бранксхольма принял молодого человека более чем уважительно.
– Вы бы хоть весточку выслали, Лиддесдейл, – было первое, с чем обратился хозяин к гостю после приветствий, – что едете. Было бы время подготовить вам приличный прием, но теперь уж не взыщите! Бет! – крикнул он в глубину башни. – Бет! Гости прибыли, пусть подают в холле!
И повел обоих Хепбернов вместе с их ближними в новый холл, отстроенный им в Бранксхольме, небольшой, по вкусу Босуэлла, но более чем роскошный, по мнению хозяина дома. Рейдеры Босуэлла спешивались во внутреннем дворе крепости, конюхи Скоттов принимали поводья коней, вели на отдых в конюшню, выносили на воздух охапки сена к коновязи для тех, кто будет ночевать под открытым небом.
В холле, на помосте для господ, на столе уже была растянута сбрызнутая для гладкости водой чистая скатерть, и леди Бранксхольм поднялась со своего места, дабы приветствовать гостей, как подобает. Жена Грешника Уота была весьма хороша собой, темноглазая брюнетка с милой улыбкой, побуждавшей хоть ненадолго забыть обо всех волчьих оскалах ее супруга. Леди, как и ее господин, была в парадной робе – темно-малиновой с серебром, несколько старомодной, но носимой с достоинством и вкусом – и, глядя на нее, Белокурый не мог отделаться от мысли о шпорах на пустом блюде… тем паче, что вереница слуг уже вносила в холл первые яства, рассеиваясь между столами. Такая дама вполне могла бы решиться на смелую шутку со своим грозным супругом…
– О да, – усмехнулась леди Элизабет, словно прочитав его мысли, и заговорщицки шепнула графу, – это чистая правда! То, что вы слыхали о моей кухне…
Белокурый рассмеялся, будучи взят врасплох:
– О нет, леди Бранксхольм, только не это! Мне решительно не по вкусу шпоры сэра Уолтера, сколь бы ни были они легендарны!
– Я был достаточно удачлив в этом месяце, Бет, не так ли? – с ухмылкой вмешался сам Уот Вне-Закона. – Мы можем себе позволить потчевать лэрда Лиддесдейла чем-нибудь, кроме семейной традиции.
Удачливость сэра Уолтера на сей раз простиралась как на дары леса – оленину, крольчатину, мелкую дичь – так и на дары Границы, как таковой: говяжье рагу, потаж с ягнятиной, туши овец, целиком зажаренные на вертелах в очагах Бранксхольма. Слуги леди Скотт были вышколены превосходно, поток блюд из кухни прибывал волнами, дабы усталые гости могли успеть и насытиться, и оценить все разнообразие богатого стола. Лесная птица величины недостаточной, чтобы выступать по отдельности, шла в начинку для пирогов, в паштеты, оленина подавалась в виде жаркого с подливой из моркови и лука, припущенных до мягкости в жире с добавлением белой муки, сдобренных горчицей, диким чесноком и майораном, а также перцем – что лучше всего говорило о подлинных богатствах Уота Вне-Закона. Солонка и перечница, возвышающиеся во главе господского стола, были тому первый пример – сложный серебряный прибор на четырех ножках в виде оленьих копыт, с несколькими чашами для специй, украшенными чеканными изображениями времен года, и по борту чаши для соли – даже чьим-то гербом. Белокурый, не приглядываясь, готов был держать заклад, что там – явно не фамильный герб Скоттов… вероятнейше, кого-то из зажиточных семей английского Вестморленда. Рот, горящий от перечного соуса, заливался крепким элем – Скотты варили его так, что неподготовленного выпивоху он валил с ног. Для почетных гостей на главный стол подавали вино, и виночерпий с дегустатором ведали церемонией наполнения чаш… За трапезой у Бранксхольма-Бокле не было кричащей роскоши богатой, но разрозненной сервировки – что, безусловно, можно поставить в заслугу его собственной прижимистости и хорошему вкусу его супруги – даже на главном столе встречалось больше стальной и оловянной посуды, нежели серебряной, но вкус, аромат и свежесть еды были превосходнейшими, несмотря на все его самоуничижение о якобы неподготовленном приеме. И Хепберны с удовольствием отдали дань исключительной кухне сэра Уолтера Скотта.
Когда первый голод был утолен, наступило время для беседы. Это Босуэлл понял по тому, как блеснули узкие, светлые глаза хозяина поверх обода кубка, как Бранксхольм опустил пузатый черненый бокал на столешницу, затянутую вышитым льном. Кто имел больший, значительный интерес в собеседнике, тому полагалось и спрашивать, однако Вне-Закона всегда держал себя, не чинясь. И заговорил первым:
– Позволю себе узнать, что все-таки привело вас в Долину, Лиддесдейл? Ну, помимо наследных прав, это понятно… ходили слухи, что вы немало наделали шуму в столице вместе со своими старшими родичами, и что король почтил вас невиданными дарами.
– В известной степени, – осторожно отвечал Босуэлл, – так оно и есть. Его Величество в самом деле был ко мне настолько милостив, что, кроме наследных владений и титулов, дал должность лейтенанта по Юго-востоку.
– Должность – это прекрасно, – обескуражил его Уолтер Скотт, – но приехали-то вы сюда зачем? Ведь, полагаю, деньги вам в Эдинбург поступали исправно? – и он взглянул на Болтона.
Тот кивнул и опорожнил бокал, привычным жестом подставляя его виночерпию.
– Вполне исправно, – очаровательно улыбнулся молодой граф. – Скажу вам больше, до недавнего времени я вообще не очень задумывался, откуда они берутся, эти деньги. Так что дядина идея со сбором арендной платы пришлась как нельзя кстати…
Он сказал это нарочно, конечно же. Глаза Уота помимо воли блеснули характерным огоньком – так выступает слюна в пасти волка, учуявшего кровь.
– А вы собирали аренду? – спросил он, помедлив.
От его тона лорд Болтон едва не подавился ворованным вином Скоттов.
Если граф выкинул приманку, чтобы сменить тему, то получилось у него это блестяще. Уолтер Скотт испытывал грандиозные муки, разрываясь между инстинктом рейдера и долгом гостеприимного хозяина. Он знал, что не может напасть на Хепбернов – и по чинам, и по численности их отряда, и потому, что принял под своим кровом, и вообще… потому что это было немыслимо ни с одной стороны, но, черт возьми, как лихо этот мальчишка сбил его с вопроса!
– Да, – простодушно отвечал Белокурый, – и это была отличная мысль, посмотреть в лицо всем этим людям на моей земле…
– И что же вы там увидели, в этих лицах? – улыбаясь, осведомился с трудом взявший себя в руки Уот Вне-Закона.
– Страх, сэр Уолтер. И то, что они жаждут больше всего, чего им не хватает особенно…
– Чего же?
– Закона и порядка.
Уолтер Скотт откинулся на спинку кресла, пальцы его барабанили по деревянному резному подлокотнику. А после он сказал то, что было, в общем-то, ожидаемо, но прозвучало от того не менее резко:
– Вы напрасно приехали в долину, мой юный друг. Ваше место – подле короля.
Лорд Болтон перестал жевать и поднял голову от тренчера с тушеной ягнятиной.
– Допустим, – согласился молодой граф. – Но объясните, дорогой хозяин, что именно так вам не глянулось в моей персоне, что вы отсылаете меня прозябать при дворе, где, уж поверьте мне, настоящему мужчине не место?
– Не глянулось? – хмыкнул Уот. – Боже упаси. Я, Лиддесдейл, почти на двадцать лет старше вас, и кое-что повидал в жизни. И был хранителем Долины в последние годы… здравый смысл, милорд, и ничто иное, вот и все мое богатство.
Помимо сотен голов краденого скота, про себя дополнил Босуэлл.
– А здравый смысл гласит, что в Долине не место юным мечтателям…
– Звучит похоже на угрозу, лэрд Бранксхольм.
– Вы просто мало знакомы со мной, лэрд Лиддесдейл, – без иронии отвечал прославленный Уот Вне-Закона. – Я никогда не угрожаю – нет нужды. Что ж, вы прибыли установить у нас закон и порядок… когда же ожидать первого рейда хранителя Марки?
– Чего? – не вполне уверенный, что услыхал правильно, уточнил Белокурый.
– Рейда по округе, мой юный друг, – улыбнулся Бранксхольм. – Или у вас есть иные средства для установления закона и порядка?
– Старые добрые тиски для больших пальцев рук, – предложил Патрик Болтон, – но это уже по итогам рейда, конечно… и далее – доверясь умению палача.
– А у нас есть палач? – Босуэлл переглянулся с дядей.
– У нас есть палач, – заржал Болтон, – но, как правило, до палача уже не доживают…
И почему молодой граф тогда счел это за шутку?
– Начните с сассенахов, – продолжал Уолтер Скотт таким завлекающим тоном, словно речь шла только о выборе цели, а не о правомочности средства. – Вам не по душе стеснять соседей, это порядочно, и я, как никто, понимаю вас, граф… но за паршивых англичан-то наш король уж точно обидится в последнюю очередь. Коли вы так опасаетесь его гнева…
– Ничуть, – отвечал Босуэлл. – У меня нет страха перед Его величеством, но я не хочу обмануть доверие короля. Как лейтенанту шотландской короны и хранителю Марки мне не к лицу заниматься разбоем и грабежом. И попустительствовать им – тоже.
– Я был хранителем Долины семь лет, – так же спокойно произнес Уолтер Скотт. – Семь тучных лет, как говорится в Писании. Во всяком случае, мы здесь не голодали. И я выходил на ту сторону границы за Картер Бар каждую ночь, когда бывала подходящая луна. И все эти семь лет паршивец Дакр молился о том, – его острые резцы открылись в милолетном оскале, – чтобы лунных ночей было как можно меньше. Но Скотты выходили и будут выходить под луной! Считать ли это попустительством грабежу и разбоем? Воля ваша, граф. В Долине всякий скажет вам, что мы только берем назад свое.
Лорд Болтон закивал согласно, вновь подставляя кубок виночерпию.
– И что король? – помедлив, спросил Белокурый.
– Это вас, Лиддесдейл, надо спросить: и что король? – ведь вы были при нем в то время… а у нас тут короля не видывали, – усмехнулся Бранксхольм. – И, по мне, так долго еще не увидят.
– Это до поры, – очень живо вспомнив в этот момент кузена, отвечал Босуэлл. – Наш король молод, но умен и памятлив, я бы не стал дразнить его без нужды.
– А мы – по нужде! – с совершенной искренностью возразил грозный рецдер. – Мы-то – по крепчайшей нужде, Лиддесдейл, потому-то королю и не к лицу быть на нас сердитым. Разве кто без крайней необходимости, только из любви к разбою, выходит ночью на ту сторону границы?! Уж точно не я!
Босуэлл глядел на Злобного Уота, и диву давался, пытаясь понять, верит ли Уолтер Скотт сам тому, что говорит. Если верит, то сладить с ним будет вдвое трудней. После юности, проведенной с Брихином, Белокурый искренним людям всегда предпочитал двуличных, ибо от первых никогда не знаешь, чего ждать, а вторые руководствуются обычно своей выгодой, которая предсказуема.
– Когда пойдете за Картер Бар, можете рассчитывать на меня целиком и полностью, – невозмутимо продолжал гнуть свое Бранксхольм, – я ваш, Лиддесдейл, мечом, людьми и умениями…
– Не уверен, – отвечал Босуэлл, глядя ему прямо в глаза, – что пойду к Картер Бар зачем-либо, кроме как вершить правосудие хранителя Марки в День перемирия…
Уот только пожал плечами:
– Воля ваша. Мягко стелете, да жестко придется спать.
– Кому?
– Вам, конечно же… Но это по первости, – улыбнулся сэр Уолтер самой обаятельной из своих ухмылок. – В вас, Лиддесдейл, течет добрая кровь Хепбернов – рейдеров и убийц – ты ж не в обиде на правду, старина Болтон?
– Говорил я матери, – подтвердил Патрик Болтон, – что ни к чему увозить мальчишку на север, сами справились бы с его воспитанием… так вот вам результат!
– По первости! – понимающе кивнул Бранксхольм и продолжил, по-прежнему обращаясь к молодому графу. – Кровь всегда покажет себя. Так что только дело времени, когда вы измажетесь впервой и станете своим в наших местах. Вы, милорд Хранитель, знаете, что в Долине вас уже прозвали Белокурым? Или Красавчиком?
– Странно было бы, если б чернявым, – хмыкнул Босуэлл. – Или уродом.
– Не скажите, – отвечал Бранксхольм с полной серьезностью. – Вот, скажем, Уилли Бернс Бурундучье Рыло или Оливер Данд Худая Жопа могли бы в полной мере оценить приязнь, с какой к вам отнеслись в Лиддесдейле, Патрик Хепберн, граф Босуэлл.
Граф Босуэлл приподнял бровь, переглянулся с дядей и захохотал:
– Прошу пощады, сэр Уолтер! Согласен! Готов признать, что мои прозвища можно объяснить только всенародной любовью…
Это было душевное застолье, полное грубых, но дружеских шуток, однако даже разделение хлеба и вина со Скоттом далеко не обещало безопасности общения с ним. И Болтон, и Босуэлл взвешивали каждое слово, которое обращали к именитому рейдеру, ибо цена случайно вылетевшей в разговоре бестактности была – жизнь. Твоя, твоих людей, твоих потомков. Да, это Граница, как говорил второй дядя, Уильям Ролландстон. Хорошенькая леди Бранксхольм распоряжалась столом, нимало не смущаясь отнюдь не куртуазными диалогами мужчин. Граф равнодушно и вежливо – на всякий случай – смотрел поверх головы леди, поссориться с Уотом по такому поводу совсем не входило в его планы. Сэр Уолтер отметил это и немало веселился про себя.
– Можете глазеть на мою жену сколько угодно, Лиддесдейл, – сказал он наконец, поймав супругу за талию и усадив к себе на колени. – Я не обижусь. Он – красивый парень, не правда ли, Бет? Немного самонадеянный, но мы это ему простим, милая… я тоже когда-то был молод. И я тоже когда-то пытался освободить короля и повалить Ангуса. Просто ему это удалось… – и Уолтер Скотт помолчал самую малость. – А мне – нет.
И из двоих его собеседников последнюю фразу в полной мере расслышал только молодой граф, но тогда не обратил на нее должного внимания.
– А что твой меньшой, Болтон? Чем занят? – обратился сэр Уолтер к смачно жующему оленину старшему Хепберну.
До Белокурого лишь при дядином ответе дошло, кого именно Вне-Закона имел в виду.
– Давно нет от него вестей, – сказал Болтон, тщательно очищая кость от остатков тушеного мяса. – Не пишет – видать, совсем погряз в благочестии у себя в Брихине.
– Да неужели? – хохотнул Скотт и пояснил Белокурому. – Я, видите ли, повстречал вашего дядю Джона уже после того, как парню выбрили макушку, однако шороху в рейде он наводил ничуть не меньше, чем старшие Хепберны.
Патрик представил Брихина, погрязшего в благочестии, и помимо воли усмешка зазмеилась у него на губах.
– Смекалкой и нравом он – настоящий рейдер, жаль, что семья решила по-иному… Кстати, Болтон, твой племянник чем-то похож на него, на Джона.
– Так оно и есть. Только его светлость похож на всех нас, – отвечал Патрик Болтон, с урчанием накалывая на кинжал новый кусок мяса, ложкой одновременно пытаясь зачерпнуть подливки из блюда, – в самом лучшем. От Адама – титул и романтические бредни в голове, от меня – крепкая рука и железное нутро, от Уилла – чувство долга перед своими, от Джона – мозги и этот спесивый вид настоящего лорда. И только красотой он пошел в маменьку, дай Бог здоровья нашей рыжей Агнесс за такого наследничка… качество, не обязательное для приграничника, однако посмотреть приятно!
Покои для ночлега Хепбернам отвели на двоих, комната была теплой, почти без сквозняков, камин растоплен на славу, и половину помещения занимала крепкая дубовая кровать, с резными столбиками для балдахина и полотняным пологом, вышитым умелыми руками леди Скотт и ее ближних девушек. Патрик шагнул в полутьму спальни, хмельной, сытый, предвкушающий наконец-то горизонтальное положение тела после целодневной тряски в седле, когда там, подле ложа, что-то зашевелилось. Но девичий голос прозвучал прежде, чем он или дядя успели обнажить клинок:
– Гостинец от сэра Уолтера, как он велел сказать… если пожелаете, ваша светлость.
Она присела в реверанс при звуке отворяемой двери, и теперь, выпрямившись, стрельнула в несколько оторопевшего от неожиданности графа лукавейшими очами. Девчонки Скотт славились не только красотой, но и той дерзостью, что сводит мужчин с ума.
– Светлость пожелает, – отвечал за Белокурого Болтон. – Вот же, я понимаю, прием с уважением… А мне он никогда не предлагал своих баб! Ладно, действуй, не торопясь, спущусь-ка я еще к этому черту да побеседую…
Граф сел на постель, скептически посмотрел на девчонку… потом вытянул ногу, положив ее на табурет:
– Ну, начнем наслаждаться. Сапоги сними, что ли, красотка, да крикни там, пусть горячей воды принесут. Помыться бы с дороги… и тебе тоже не помешает, кстати, как я погляжу.
– А вы всех своих женщин сперва моете, ваша светлость? – поинтересовалась бойкая девица, ухватившись за графский сапог, наклоняясь к молодому Босуэллу так, чтоб он в полной мере мог оценить роскошь ее декольте.
Граф на мгновенье задался вопросом, от природы ли ей достался столь щедрый дар, или она помогла природе обычными женскими ухищрениями… ну, это выяснится всего через несколько мгновений. Понятно, что Грешник Уот не только от гостеприимства подложил ему девчонку в постель, но разве это помешает получить удовольствие? И заодно – подать отличный повод для сплетен?
– Нет. Можешь считать это за знак моего особого благоволения, – усмехнулся он.
Служанка лихо справилась со вторым сапогом – разоблачать мужчину из кожуры рейдера ей было не внове – и подняла на графа серые бесстыжие глаза:
– Желаете еще что-нибудь снять, ваша светлость?
– Дублет, – велел Босуэлл. Спать нагишом, без джека, в Бранксхольме, под кровом Вне-Закона – нет, он пока не сошел с ума. Можно остаться на ночь без штанов, если уж приспичит, но без этой стальной оплетки торса? Пожалуй, собственным мытьем все-таки придется принебречь. – Как тебя звать?
– Мэри, мой лорд.
На лестнице лязгало и грохотало – тащили бадью и ведра с водой. Мэри. Их всех здесь зовут Мэри. А всех остальных называют Джен. Эта Мэри, не торопясь, по пуговке, расстегнула дублет на молодом человеке, потянула прочь узкие рукава, тихонько вздохнула, любуясь тонким шитьем его рубахи, и потупила взор:
– Прикажете раздеться, ваша светлость? Уж если ваша светлость желает, чтобы я мылась…
– Давай, – кивнул граф, улегшись на кровати. – Медленно, Мэри, медленно… и сорочку тоже снимай, голубка.
Глаза ее округлились, губы испустили удивленное «о!». Про молодого лэрда болтали разное, и хотя Мэри давненько не была девицей, но считала себя порядочной женщиной – еще никто и никогда не требовал от нее такой непристойности, как мытье и совокупление нагишом…
– Давай, – бросил Босуэлл, с наслаждением потягиваясь. – Я жду.
В лицо ей кинулась краска, но рука дернула за шнурок корсажа – и он заскользил в бесчисленных петельках. Взору графа открылся вырез нижнего платья – до середины соска груди… и зардевшаяся Мэри, не глядя на его светлость, повозившись с завязками, выступила из своих юбок, упавших на пол, из сорочки, скользнувшей с плеч. Она совсем потеряла былую дерзость и стояла перед ним смущенная и нагая.
Белокурый выдержал паузу, внимательно рассматривая ее с головы вплоть до босых ног: отличные природные данные, но помыть все-таки стоило бы.
– Сэру Уолтеру скажешь, гостинец что надо… – наконец произнес он. – Эй, вы, двое, что встали? Лейте воду в бадью, моя женщина мерзнет.
– Кроме того, что мы потешили тщеславие Злобного Уота, дядя, – сказал Белокурый, когда Бранксхольм-тауэр остался уже миль на пять-шесть позади, – какие выгоды мы, по-твоему, приобрели от этого визита?
– Трудно сказать, – хмыкнул Болтон. – Но заехать к нему стоило хоть бы затем, чтобы ты мог рассмотреть вблизи наглую рожу ближайшего соседа. Пока ты был занят, он мне еще битый час втолковывал, как превосходно знает дороги Вестморленда, как будто мне – мне! – надо это объяснять. Злобный Уот совершенно точно уверен, что ты готовишь рейд к сассенахам не позже начала осени, но, ввиду нашего фамильного коварства, не желаешь осведомить его заранее.
– Какого коварства?
– Фамильного. У нас есть такое. Я же разуверял его, сколько мог.
– Не больно-то он тебе поверил, как я погляжу – вон там сзади, его соглядатай, если я ничего не путаю, крадется по лощине…
– Крадется, конечно, но пройдет до границы земель Скоттов, к Тернбуллам уже не сунется.
Только в холмах Белокурому дышалось по-настоящему спокойно и мирно, несмотря на то, что именно в холмах с любой стороны можно было ждать нападения.
– Да только что-то цвета на нем не те…
– Цвета именно те самые, что и нужно – синие… это ведь Эллиот. Ох, и препоганый же они народец, скажу я тебе. Гонору раза в два больше, чем у самого Скотта, ума меньше – стало быть, хлопот прибавится вчетверо.
Однако, вопреки мрачным предсказаниям Болтона, до дома они добрались без приключений, со всей арендной платой, в целости и сохранности. Соглядатай бесследно исчез – и в самом деле, лишь только они повернули на юго-восток.
А граф Босуэлл вернулся к себе в Хермитейдж, ссыпал деньги в казну под надзор Джибберта Ноблса и сделал то, чего от него меньше всего ожидали в Долине – принялся жить самой обычной жизнью лорда-землевладельца. Распускаемые Грешником Уотом, упорно ходили слухи, что молодой лэрд – парень не промах, и вот-вот отправится пощекотать сассенахов. Патрик и в самом деле усердно практиковался – в схватке против Болтона, или Бинстона, или Оливера Бернса – в обращении с типично приграничными видами оружия, такими, как джеддарт и лейтская секира. За несколько дней он освоил короткий арбалет, называемый здесь «щеколдой», и хотя проигрывал Бернсу в меткости, но со временем обещал стать недурным стрелком. И ежедневно стоял против дяди с палашом, скучая в глубине души по таким же часам, проведенным с куда более остроумным в бою Брихином. Потворствуя любопытству, он научился играть в ба – в первой же игре графу, не стесняясь его титулов, в самом деле недурно разбили лицо, однако Босуэлл быстро втянулся, и проявил себя игроком резвым, хитрым и весьма жестким. После того, как Патрик сам троим сломал ногу, двум выдернул руку из плеча и особо бойкому нападающему противной команды проломил голову, в своре Хермитейджа на молодого лэрда начали поглядывать со вниманием. И больше старались при игре понапрасну Лиддесдейла не задирать. И только дядя, один из всех более-менее разглядевший природу юного родственника, понимал, что за всеми этими играми и непритязательными забавами в белокурой голове происходит какая-то работа, что душа нового лэрда полна сомнений, что сердце его в смятении и не знает верного пути. И матерый боец Болтон в те дни весьма часто поминал их с племянником общего небесного покровителя, убежденный, что только вмешательство свыше не даст парню наломать дров, ибо что толку сопротивляться предназначению? Унизившись даже спросить совета у младшего, Болтон выслал голубя к Брихину на север, но получил предсказуемый ответ. «Оставь все как есть», – писал железный Джон, – «оставь его в покое». И далее слово в слово цитировал приятеля своей юности Уота Вне-Закона: «Кровь – не водица, себя покажет». И в один из дней святой Патрик ответил молитвам Болтона самым приемлемым для Приграничья, хотя и негуманным для святого образом.
Лето клонилось к исходу, граф Босуэлл на второй неделе августа возвращался из Карлаверлока, от матери, сопровождаемый тремя десятками из сотни Бернса и Джоном Бинстоном в арьергарде; ему недавно сравнялось семнадцать, он был в отличном расположении духа, и меньше, чем через десять миль, его должен был встретить лорд Болтон. День стоял лениво-мирный и расслабляюще-теплый, как оно бывает в лучшую пору жатвы в Мидлотиане, в поле пересвистывались овсянки, и колос золотился до горизонта. И вот среди этого летнего великолепия, разрывая общую картину покоя и безмятежности, в точке, соединяющей небо и землю, показался всадник – черный, ибо цвета платья не рассмотреть вдали. Он мчался напрямик к Хепбернам, не таясь, и не беспокоясь, как примут, стало быть, свой, и, следя за ним, граф нутром почуял – дело дрянь. И не ошибся. Старший сын МакГиллана, молочный брат Белокурого, тоже Патрик – задыхающийся, взмокший от пота, чумазый от пыли, с горящими на грязном лице светлыми глазами, выплюнул одно только слово, прежде, чем перевел дух:
– Сассенахи!
Через Кершоп Берн со стороны Бьюкасла в Шотландию вошел отряд англичан примерно в три десятка клинков, по всей видимости, Тейлоры, с намерениями более, чем однозначными – под удар попали две фермы Робсонов на южном берегу Лиддела, одна была сожжена полностью, пятеро убито, весь скот уведен, вторая – разграблена до чистых стен, семья старого Роба Робсона успела бежать, в чем спали, ранним утром… Кроме того, сассенахов пропустили Армстронги со Спорных земель, и высока вероятность, что лорду-хранителю Средней Марки и Долины придется иметь дело и с ними тоже. Не меняясь в лице, молодой граф Босуэлл выслушивал новости, каждая подробность которых погружала его в трясину многовековой вражды и кровной мести, неумолимо приближая к собственной судьбе.
Патрик Болтон встретил своего графа раньше, чем договаривались, во главе полусотни рейдеров в полном облачении для драки – стальные боннеты, джеки, «щеколды», короткоствольные пистоли у самых метких. На древках джеддартов метались под ветром узкие ленты вымпелов с белой лошадью. Вопрос немедленного возмездия со стороны Хранителя Марки сам по себе не обсуждался – вопрос был в том, кто поведет карательную партию. Болтон издалека заметил, насколько мрачен племянник, и потому, подъехав ближе, после полного отчета о событиях, сказал, понизив голос:
– Вообще, тебе с нами не обязательно, если не хочешь мараться… погибло с десяток наших, люди злы, и хотят крови.
Босуэлл кивнул, потом отвечал:
– Давай-ка мне галлоуэя какого повыше… – и спешился, бросив поводья Раннего Снега в руки удивленного Пэдди МакГиллана.
Ему подвели гнедую лошадку, мохноногую, шуструю, словно крыса, выносливую, как вол.
– След еще теплый – спустим ищеек, можем успеть.
Свора Хермитейджа славилась не только людьми, но и собаками. Голодные псы рвались с поводков, большие розовые языки вываливались из пастей, захлебывающихся от лая.
– Так спускай, не о чем болтать, – огрызнулся граф. – По коням, ребята, что встали? Время дорого!
– Скоттов поднимать, лорд-хранитель? – на всякий случай уточнил у него дядя.
– Ни к чему. Сами справимся. Нам бы до ночи пройти побольше…
– Нам бы до ночи найти укромное место, чтобы кони успели передохнуть, пойдем по луне, – возразил Патрик Болтон.
– Ночью?
– Ясное дело, ночью. Днем-то и дурак сумеет!
Вот тогда-то молодой Босуэлл в полной мере оценил, отчего так леденяще для англичан звучал боевой вой Скоттов – «снова будет луна!». Но только теперь его имя прогремело, как боевой клич, на пустоши:
– Босуэлл! Иду навстречу!
Собаки славно взяли след, и галлоуэи Хепбернов были достаточно резвы, но пока что хранитель дышал преследуемым в затылок, не настигая – те полдня, а то и больше, пока вести о беде дошли до Болтона, пока он собрал людей, пока выяснил обстоятельства, пока ожидал графа, все еще оставались решающими. Только следы угнанных коров, еле видные на засохшей грязи, топот копыт, редкие окрики Болтона и Клема Крозиера, который замыкал отряд. Патрик легко договорился со своей новой случайной лошадкой, пони слушался легкого движения колен, и, пока продолжалась бешеная скачка – покачиваясь в седле, он строил планы на свой первый поход в качестве Хранителя Марки, чья власть вручена и неоспоримо подтверждена Его величеством. Настичь воров, вернуть захваченный скот, назначить виру за кровь, под стражей пригнать в Хермитейдж и держать их в какой-нибудь уютной темнице вплоть до Дня перемирия – а там пускай английский хранитель Западной марки, откуда наведались эти твари, лорд Дакр, возмещает нанесенный ущерб и вешает их, взятых с поличным. Перед сумерками устроили первый короткий привал, кони немного передохнули, люди вытащили из-под седел маленькие жестяные противни – печь овсяные лепешки на костре. Грубая серая мука у каждого висела в мешочке, близ луки седла. Некоторые смогли поспать – уснули, где легли, бросив пледы на сухой вереск. Едва взошла луна, Болтон поднял отряд в галоп, и Патрик, как когда-то с Ролландстоном, подивился дядиной сноровке и кошачьему зрению – он вел своих по чутью, без малейшего луча света, сквозь болота и буераки выбирая безопасный путь, ничуть не теряя в скорости. Здесь уже Хранителю Марки думать было некогда, он старался не сбиться с хода – ночью, во главе отряда, на непривычной лошади. Лютая скачка продолжалась до рассвета, когда Болтон нашел укромное место в лощине, объявил привал. Он шел уже по английской земле, и так уверенно, что Белокурый прозакладывал бы правую руку – дядя бывал в этих краях неоднократно, и тоже, вероятно, не с самыми чистыми устремлениями. Огонь уже не разводили, рейдеры грелись виски и дожевывали вчерашние овсяные лепешки. Босуэлл был из первых в этот раз, кто уснул там, где упал – и даже не проверил, выставлены ли караульные. Когда он проснулся от тихого оклика дяди, в небе снова плыла огромная, повисшая над горизонтом, сытная, кровавая луна – счастливая звезда стольких поколений «болотных бойцов».
– А что Армстронги? – при виде этого светила спросил он у Болтона первое, что пришло в голову после сна.
– Вероятно, ударят нам в лоб, – невозмутимо отвечал тот, – когда мы станем возвращаться с добычей.
Позевывая и поеживаясь, Патрик кинул себя в седло, как куль с зерном, галлоуэй со всем терпением принял тяжелое тело долговязого наездника и только обреченно всхрапнул. Скулили и подвизгивали злые от голода ищейки на сворке у псаря. И гонка продолжилась.
Дальнейшее он помнил слабо. То ли благие намерения подрастряслись, то ли пойманные с поличным воры вовсе не считали себя таковыми, и не стремились пасть в ноги Хранителю Марки и Долины, каясь в своих преступлениях… словом, удар был коротким, жестоким, скорым. Настигнув Тейлоров, они врубились в них, как топор в липовую балку, отсекая ворованный скот от вожаков грабителей. Потом пошла резня, чистая и яркая в своей беспощадности, когда добивали раненых и не щадили упавших – с обеих сторон. Патрик порадовался тому, что не давал себе лениться ни дня с того часа, как прибыл в Хермитейдж, иначе бы в свалке ему теперь пришлось туго. Сейчас же сознание затмилось азартом охоты, в дело вступил инстинкт, ибо прав был, ох, как прав матерый волк Вне-Закона – кровь себя покажет всегда… и прольет другую, свежую кровь, и полночь озарится новым пожаром кровной вражды, вечной войны Приграничья.
Прежде, чем Босуэлл успел устать в свалке, в плен брать было уже некого. Прежде, чем он успел охватить взором картину поля боя – что было довольно затруднительно во мраке, при мелькающей в облаках луне, и понять понесенные Хепбернами потери, часть бойцов под вопли «Иду навстречу!» и под командой Полуухого Крозиера рванулась вперед, туда, где затаилась ферма самих Тейлоров. Потому что мало вернуть свое, когда чужое так близко. Задымили факелы, брошенные в спелую рожь, ищейки Хепбернов приседали, скуля, пятясь от огня – поле занялось. На одном его конце бинстонские под окрики молодого Джона гуртовали скот, на другом – перелезли через ограду, вышибли двери в дом, короткая схватка с полуодетыми, бездоспешными мужчинами, отчаянные крики женщин, визг свиней, выгоняемых из хлева, мычание коров, блеяние овец…
Босуэлл пнул галлоуэя пятками в бока, лошадка взяла в галоп, огибая горящее поле. Стало светлей, чем при полной луне… на меже близ леса боролись двое, и тот, кто был крупней, явно побеждал. Снова остро закричала женщина. Белокурый спешился, метнулся на крик, не разбирая дороги – и Клем Крозиер с воем попытался сбросить с себя незнакомца, прежде чем понял, что то – его собственный лэрд. Полуухого пошатывало. Он замер, тяжело дыша, на минуту выпустив добычу, глаза его были мутны, до графа отчетливо долетал густой и смрадный запах перегоревшего виски, пота, свежей крови. Жертва Крозиера, на которой не было ничего, кроме рваной сорочки, белевшей во тьме, тут же кинулась к Босуэллу, обняла его колени в древнем жесте мольбы, равном на всех языках. Девчонка прижималась к его ногам так сильно, что он ощущал, как бьется в ней сердце – где-то в горле, между истерическими рыданиями.
– Оставь ее, Клем. Я запрещаю.
– Коли так, возьмите ее первым, лэрд. Я подожду, рад буду посмотреть, как она воет под вами, эта английская сучка…
Из разорванной сорочки упрямо выскальзывала юная грудь девушки, как ни старалась она прикрыться под горящим пьяным взглядом Крозиера – нежные две полусферы, совершеннейшее творение Господа, с крошечными, стоящими от ночного холода сосками. И она была весьма хороша собой – шелковистые волосы, темные глаза – если б не выражение смертного ужаса, коверкающее черты, и не огонь ночного пожара, отражающийся в зрачках. И она была легко доступна – и девственница, скорей всего, совсем ведь молоденькая, почти ребенок – надо просто завалить ее на спину, раздвинуть ей ноги под одобрительные возгласы Полуухого, ну, может быть, пару раз дать по лицу… Так здесь и зарабатывают славу крепкого парня с железными яйцами, настоящего командира. Одного ее брата зарубили на ее глазах, второго искалечили, отец связан и брошен в навоз в хлеву, мать наверняка изнасилована, а эта дурочка не успела убежать в лес… Клем еще и подержать ее согласится с удовольствием, пока лэрд не насладится в полной мере, чтобы только увеличить ее боль и унижение. А что такого, военный трофей. А после трофей пойдет под следующего и следующего, пока насмерть не разорвут ей весь низ бравые северяне…
Сказать, что у лэрда Лиддесдейла не стояло, значило сильно упростить ситуацию. Вообще-то лэрда подташнивало. Патрику не приходилось брать женщину силой, и он не намерен был получать этот опыт сейчас. Он в принципе не понимал вкуса в насилии, его опыт в делах амурных предполагал исключительно даму, отдающуюся с восторгом – иного у него пока и не бывало.
И два взгляда скрестились на нем – пьяный, ждущий, уверенный в согласии господина взгляд Полуухого, и острый, как нож, полный ужаса, слез и надежды – ибо она поняла, что шотландцы заспорили меж собой – взор полуголой девчонки.
– Ради Иисуса, мой добрый сэр, сжальтесь, ради Спасителя и его милосердной матери Марии… – начала было она дрожащим голосом, обнимая сапоги лэрда, всем телом содрогаясь от рыданий.
– Заткнись, тварь! – заорал на нее Крозиер, ухватил за волосы, дернул на себя. – Южанка поганая, шлюха, дрянь!
Англичане вырезали всю семью Крозиера лет десять тому назад, после чего он пришел к Болтону и обязался служить преданнейшим псом, если тот позволит ему пытать сассенахов в свое удовольствие. И Болтон позволял – иногда.
Девчонка закричала так, словно пришел ее последний час, и вцепилась в Патрика, как репей, намертво, так что Крозиер, пытаясь оторвать ее от лэрда, едва не повалил и самого графа – однако это продолжалось всего мгновение. Не то, чтобы у Клема Крозиера треснули кости, но он с недоумением ощутил сильную боль в запястьях, а после эта боль заставила разжаться пальцы, отвела его руки от англичанки…
– Давай быстро отсюда, дурочка, да спрячься получше… – на чистейшем английском сказал граф девушке, даже не глядя на нее, смотрел он на своего капитана. Она прыснула у него из-под ног, как кролик, не веря своим ушам.
Глаза Белокурого, обычно синие, были черны, как два колодца, в которых топят убийц по «правосудию джеддарта»… и именно это правосудие прочел в них слегка протрезвевший Полуухий. Но трезвость принесла с собой и злость – стало быть, этот щенок не только покушается на его законное право воина, но и благоволит сассенахам! Клем Крозиер был из тех, кто скептически принял появление нового хозяина в Хермитейдже, а сейчас виски и досада совместно ударили в голову.
– Ты, молокосос, еще и девок из-под меня вынимать станешь! – заорал он, надвигаясь на Босуэлла.
Охотничий нож блеснул в руке капитана…
Но кинуться на Белокурого Клем не успел. Возникший откуда-то со стороны леса Патрик Болтон, во мраке полностью неотличимый мастью и повадками от черного медведя кельтских легенд, молча и бесшумно заломил Крозиеру руки за спину, а после без разговоров двинул в ухо. Башку менее каменную такой удар мог бы и проломить.
– Пора уходить, – сказал он, – пока от Карлайла не подняли гарнизон по тревоге. Клем, урод безмозглый, ты на кого руку поднял? Я с тобой после поговорю, тварюга пьяная…
В обратный путь отряд вел Джон Бинстон со своими ребятами, и они же гнали скот, Робсонов и бывший английский. Основные силы Хепбернов шли сзади на случай погони, угроза была невелика, но и пренебрегать ею не следовало. Болтон косился на своего графа, который был бледен от злости, смотрел прямо перед собой, а в глазах Патрика до сих пор плавала чернота. Граф помимо воли оказался втянут в то, чего так надеялся избежать – в резню под видом восстановления справедливости, и его чрезвычайно бесило, что его собственная натура так подло предала его, что дела складываются пока что согласно предсказаниям дядьев и Злобного Уота. Болтон пару раз хмыкнул, крякнул, не дождался ответа и решился заговорить:
– Что ты взъелся? Ну, побаловал бы ее Клем своим рогом… от бабы не убудет.
– Она девчонка совсем…
– А какая разница? – искренне удивился Болтон. – Надо ж когда-то пробовать мужика. А лучше, чем Клем, никто не продырявит, после него – хоть полк солдат заходи, просторно… – и дядя хохотнул.
Белокурый молчал – его покоробило дядино веселье. Случайно спасенная им девчонка была куда моложе его сестрицы Джен Хоум. Они миновали галопом еще несколько миль, прежде чем он отвечал Болтону:
– Ежели пойдешь в рейд со мною еще раз, дорогой дядя – насиловать не позволю никому. Сам охолощу, не поленюсь. И Клем Крозиер мне больше не капитан, пусть-ка побалуется на вольном выпасе, пока ему член не подрежут мужья да братья…
– Ну, и глупо, – отвечал Болтон, весьма разочарованный реакцией племянника, но отметивший про себя с удовольствием сослагательное «если пойдешь». – Полуухий весьма толковый боец, а мозги бы я ему вправил. Хотя… ты – лэрд, твоя и воля.
– Я – лэрд, – без улыбки согласился Белокурый. – И еще я королевский лейтенант и хранитель Марки. И за твои художества нынешней ночью, дядя, должен сдать тебя лорду Дакру без всякого промедления, дабы покуковал ты свое в крепости Карлайла до самой виселицы.
Тут уже Болтон обиделся и молчал до самого привала перед рассветом.
Белокурый проснулся и сел возле почти потухшего костровища, спускались сумерки – время двигаться в путь. Какая-то мысль неотступно терзала сознание, но он не мог уловить – что именно… повернулся к дяде, который, сидя возле него в карауле, правил нож на кожаном ремне:
– Крозиер где? Давай-ка его сюда…
– Он ушел ночью. И не то худо, что он ушел, а то, что ушел озлобленный.
– Почему ты его отпустил?
– Приказа не было удерживать, – прямо глядя в глаза племяннику, отвечал Болтон. – Беситься хватит, граф. Если уж ты на Клема гневен, так и нас всех под плети клади, потому что Крозиер не делал ничего особенного в ту ночь…
Молодой граф Босуэлл, сощуренными кошачьими очами уставясь в затухающие угли костра, добрые четверть часа шипел такие гэльские словосочетания, что даже у бывалого, восхищенного его широкими познаниями Болтона долго звенело в ушах.
Патрик пошел в этот рейд, полный дурных предчувствий, а чутье не обманывало его почти никогда. И милей вглубь Спорных земель, на обратном пути к Хермитейджу, лорд-хранитель Марки в самом деле попал под засаду Армстронгов.
Это был уже совсем другой бой, потому что его люди и кони шли в галопе большую часть ночи после схватки, а Армстронги поджидали их свеженькие, готовые для драки. Пятерых Бинстонов вышибли из седел болтами прежде, чем Болтон и Босуэлл поняли, что происходит, а после, отправив Джона Бинстона пробиваться вперед вместе с добычей, граф и его дядя взяли на себя каждый по флангу и нажали на Армстронгов с той холодной лютостью, которая прославила Хепбернов еще при Оттербурне двести лет назад. Армстронги, по всей видимости, рассчитывали на неопытность Босуэлла и легкую победу в засаде, однако им очень скоро дали понять, что дело так просто не выгорит. Вокруг Патрика кипела свирепая драка, кому-то рядом прошило печень болтом из «щеколды», пешему бойцу слева полчерепа снесли лейтской секирой, и брызги крови и мозга покрыли сапоги Белокурого, но ему некогда было размышлять – хотелось выжить, и умное тело само спасало бессмертную душу, сея вокруг смерть и увечья, слетающие с острия матово взблескивающего в сумерках палаша. Занимался рассвет в холмах, когда Хепбернам, изрядно потрепанным, удалось унести ноги из той лощины, оставив по себе память в виде двух десятков врагов, убитых в бою, затоптанных конями, умирающих от ран. То была сомнительная победа, но победа – ибо ушли живыми. Своих навьючили на пустых галлоуэев, тела – через седло, кто мог сидеть, тех привязали к конским спинам. Джек графа Босуэлла был проколот в трех местах, но до тела дошли только царапины. И еще он прихрамывал – джеддартом задели бедро, но в седле это держаться не мешало. Дети Белой лошади миновали Спорные земли, и вошли в Долину, и скот, перегоняемый Бинстоном, несся впереди них вместе со слухами о первом рейде нового Хранителя Марки.
Уолтер Скотт Вне-Закона разорялся, как нищий на ярмарке, что Хепберны не взяли его в компанию и в долю.
Однако события развивались стремительней, чем Патрик готов был их принимать – о да, даже несмотря на все рассказы дядьев и свидетельства Грешника Уота. Потому что именно Уотом припахивало то, что случилось потом, как Симом Армстронгом, лэрдом Мангертоном, и Джонни Армстронгом, лэрдом Гилноки, изрядно пованивало произошедшее в Спорных землях – ведь их «конченые» собратья никогда бы не сунулись поперек дороги самому лэрду Лиддесдейлу, не будь им дано дозволение свыше. К Хермитейдж-Каслу заходили со стороны Холма Дамы, а потому издалека овчарни за Замковым протоком видны не были. Но виден был серый след дыма, уже улетевший в небо, как бывает над давно курящимся пепелищем. И когда отряд вышел к замку с северной стороны, стало понятно, в чем дело: овечьих загонов, что прежде стояли за пару-тройку миль от протока, больше не существовало, как и стада примерно в сорок голов… Патрик, лорд Болтон и мастер Хейлс, возвел глаза к небу, что делал считанные разы за всю жизнь: именной святой со всей мощью ответил на его молитвы, и теперь третьему графу Босуэллу ни в коем разе не уйти от уготованной ему судьбы – приграничного волка, лэрда Лиддесдейла, Хранителя Марки, вожака и господина Долины.
Замок Хермитейдж, Лиддесдейл, Приграничье, Шотландия
Они бродили по сгоревшему дерну, меж тлеющих кусков балок, граф раздраженно пнул затухшую головню и выругался – он едва не пропорол и без того раненую ногу, наткнувшись на что-то острое. Из черной земли, аккуратно обложенный плоскими камнями для верности, торчал охотничий нож.
– Как это понимать? – спросил он у дяди, и в голосе его заворочалась, как кабан в чаще, фамильная ярость Хепбернов, в эту минуту он здорово напомнил Болтону покойного лорда-адмирала, первого графа. – Кроме того, что следует порезать всех этих сукиных детей, коли найду?!
Болтон усмехнулся в бороду, но отвечал серьезно:
– Эллиоты. Скорей всего, Эллиоты из Парка. Похоже на повадку их младшего…
Наглость была, конечно, несусветная. Эллиоты не присягнули ему, как Хранителю и лэрду Долины, они не подписали бонд, не пытались выразить лояльность любым иным способом, хотя времени для этого у них было предостаточно. И теперь бессовестным образом покусились на его собственность, выждав его отсутствия. Но сделали это уже после того, как он повстречался с их негласным вдохновителем, Злобным Уотом. Патрику не хотелось думать, что эта каверза устроена с подачи Уолтера Скотта, но других версий не оставалось. Согласно условиям бонда, он мог затребовать от Уота, чтобы тот объявил преследование и награду за головы Эллиотов из Парка, но веры, что Уот поступит по обещанию, у него не было никакой. Злобный Уот скорей прослывет изменником – во что он ставит волю короля, он уже объяснял – чем выдаст своих подручных. Так что тут был единственный способ – именно резать, если найдешь…
– Как это было и что было сделано? – отрешившись от своих мыслей, вопросил он Оливера Бернса, который стоял, опираясь на остатки несгоревшей загороди, и хмуро следил, как граф, хромая, расхаживает взад и вперед по руинам овечьего загона. Потеря сорока голов скота для графа Босуэлла значила не столь много, как для того отношения, какое сложится к нему в Долине, спусти он это с рук.
– Это было во вторую ночь, как вы ушли, лэрд, – отвечал Бернс. – Клинков девять и десять спустилось от холма Дамы, туда, где часовня, пытались пробиться в конюшню в старом доме, к галлоуэям, само собой. Ну, порезались – отошли. Я их два раза отгонял обратно в холмы, ан лезут и лезут. А на третий раз-то – долгий свист, как у них это заведено, и отошли совсем, ровно и не было. Видать, не пони им-то запонадобились… А тут и Алекс мчится, и сам вижу – дымит за Замковым ручьем… две овчарни подожгли, с одной мы их спугнули, со второй овец успели увести. Совсем мертвых трое, лэрд, а разно покалеченных восемь и десять. Моя вина, лэрд, недоглядел. Пошел было за ними, которые с овцами – так с холмов опять черти метнулись вниз на конюшню… галлоуэев мы отбили, а овец они увели.
– Твоя вина – тебе работа, Вихор. Сам станешь ловить этих паршивцев… но отвечай, как на исповеди, кто это был? Успел увидеть?
– Эллиоты, мой лэрд. Как пить дать, они. Вон, и метку с ножом оставили…
– Которые Эллиоты?
– Я бы сказал, те, что из Парка, коли позволите, лэрд, однако ночью рожи их главаря не видал, врать не стану.
Граф Босуэлл поступил строго и просто – направил вестовых в Бранксхольм, напоминая Скотту о необходимости принять меры согласно обещанию под бондом, также в Редхью к Робину Эллиоту, главе рода – с требованием выдать виновных либо дать заложников, пока подозреваемые не прибудут на суд Хранителя, и к Симу Армстронгу, лорду Мангертону, с приказом объяснить произошедшее на Спорных землях.
– Писанина! – хмыкнул лорд Болтон, наблюдая, как Джибби Ноблс скоро-скоро рисует своими скрюченными пальцами тонкие, изящные буквы. – Писанина никогда никого до добра не доводила, особенно тут, в Приграничье!
Житейский опыт подсказывал Болтону, что способ разрешения один – врубаться и крошить, но племянник упорно желал следовать букве закона. Одновременно Бернс-Вихор был выслан на поиски пропавшего стада, сорок голов небогатые Эллиоты колоть не станут, а вот отвести куда продать на скотный рынок – пожалуйста.
Ответы Белокурый получил довольно быстро и все – предсказуемые. Прибыл Уолтер Скотт, не поленился, поцокал языком на развалины овчарни, отпустил сочувственное «вот же сукины дети, да я бы их!..», распил с графом флягу виски, поразводил руками и был таков. Вкратце его визит сводился к тому, что он, мол, про бонд помнит и всей душою ратует, однако же, вот кабы точно знать, что то – Эллиоты, а не кто другой, тогда уж он, конечно же, да, а так – за что ж честных-то парней мордовать?
– Скользкая тварь! – процедил ему вслед Белокурый, стоя на караульной галерее Хермитейджа.
– А ты на что рассчитывал? – удивился Болтон. – Что Грешник Уот признает проделку своих копьеносцев?
Патрик метнул на дядю такой взгляд, что тот вздохнул и примолк. Сим Армстронг отвечал лорду-хранителю, что вольница Спорных земель ему не родня, ибо люди конченые. Имя их клеймлено, и все клятвы порушены, и потому он, Сим Армстронг, лорд Маргентон, своей вины здесь не видит и виру за кровь погибших от засады Хепбернов на себя не берет. Старый Робин Эллиот, по прозвищу Воронья Скала, лорд Редхью и глава рода, отвечал, что, доколе люди его не взяты с поличным, то и невиновны, а чей нож обронен на пепелище, ему неведомо. Услыхав эти слова, лэрд Лиддесдейл скрипнул зубами… за сопливого мальчишку держат его, скоты! Оливер Бернс вернулся ни с чем, но в день его возвращения в Хермитейдж-Касл прислали шкуру плешивой белой овцы. На самой крупной проплешине, на чистой коже была грубо выжжена голова лошади. Подарок пришел из пилтауэра Парк, и Малыш Джок Эллиот интересовался, не этой ли породы овец ищет господин граф…
Господин граф несколько минут любовался на старую овчину, не говоря ни слова, только желваки ходили по скулам.
– Патрик, – мирно предложил дядя, уставший от его угрызений совести. – Поднимем-ка сотню Бинстона да сходим погулять, а? По мне, так уже с позавчера пора!
Глаза Босуэлла сощурились, он окинул взором родича с головы до ног:
– Что, опять на справедливый грабеж потянуло, а, лорд Болтон? А другие средства тебе не знакомы?
– Да нет тут других средств, сколько раз тебе говорить, язык стер до типуна уже… зачем ты вообще сюда приехал, лэрд Лиддесдейл, если честный разбой тебе не по вкусу?
– Вообще, дядя, я приехал навести у вас тут порядок, в этом чертовом болоте воров и убийц.
– Ах, вот как! – не впечатлился Болтон. – Ну, допустим. Король дал тебе войско?
– Нет.
– Король дал тебе денег?
– Нет…
– Ну, и как ты собираешься приводить к покорности рейдеров, ваша светлость? – осведомился Болтон.
Молодой граф еще раз длительно посмотрел на дядю и применил излюбленный аргумент:
– Вообще-то… я – королевский лейтенант.
– Этим можешь и подтереться, – заключил Болтон. – У меня для тебя плохие новости, племянничек: тут король никому не указ, понятно? Тут всему голова вожак рода, и на гербовой печати не въедешь в Приграничье. Ты тут все должен заработать сам, всю свою власть, ты ее должен им в глотки затолкать, чтобы никто вякнуть не смел… понятно?
– Так тебя ж они слушаются?
– Кто, наши-то? Слушаются. Ты хочешь, чтоб они и дальше слушались только меня? Моя воля тебе тоже не в помощь, хотя, понятно, помогу, чем смогу. Запомни – как сам себя покажешь… А хуже всех здесь – Эллиоты.
И Болтон поморщился.
С холма спускались трое верховых, Эллиоты явились на встречу втроем, как Болтон и предсказывал – Малыш Джок Эллиот, Уилл Хер Собачий и Леди Эллиот.
– Леди? – переспросил Патрик, вглядываясь и не замечая юбки на третьем из всадников. – Она что, жена Джока?
Кто-то за спиной Белокурого прыснул.
– Леди ему не жена. Леди-Эллиот зовут их младшего, Роберта.
Белокурый недоуменно взглянул на дядю.
– Содомит, – пояснил Болтон коротко. – Но, по мне, он поопасней будет, чем те два старших кобеля.
Эллиоты не спеша приближались, Хепберн видел, как внимательно озирают окрестности Уильям и Роберт, подозревая возможность западни. Патрика прикрывали с флангов дядя Болтон и кузен Бинстон.
– Спиной не поворачивайся, когда станем разъезжаться, – заранее предупредил графа лорд Болтон. – Велика вероятность получить пулю, арбалетный болт или метательный нож…
– Так что, Раннему Снегу пятиться, что ли? – хмыкнул Босуэлл.
– Зачем? Надо сохранить поле за собой.
Встреча эта происходила спустя три недели после кражи скота из овчарен Хермитейджа, за это время семьи успели обменяться рядом любезностей, не переходя пока непосредственно к кровной вражде. Скажем, посланца Эллиотов, привезшего шкуру паршивой овцы, Белокурый посадил на хлеб и воду в одной из уютных нор замка, в темнице, и великодушно о нем забыл, вместо того, чтобы отрубить руку, как вору, или прибить за ухо к позорному столбу в Каслтоне в базарный день. В ответ Джок Эллиот вместе со своими ребятками отбил у графа с десяток галлоуэев, перегоняемых с летних пастбищ – пятерых пастухов ранил, трех уложил на месте, виру за кровь дать отказался. В свою очередь, Босуэлл, взяв с поличным на рейде за Кершоп Берн дюжину Эллиотов из отряда в полсотни клинков, уже на той стороне, не дожидаясь Дня перемирия, выслал их в объятия английского хранителя Западной марки барона Дакра. Когда же и это не впечатлило Малыша Джока, следующих пятерых Эллиотов, взятых на контрабанде свинца и пуль, он аккуратно повесил на видном месте перед тюрьмой в Джедбурге с полной конфискацией движимого имущества в свою пользу, как и полагалось по статуту о Границе… Было ли это в полной мере «правосудие джеддарта», Патрик, признаться, себя уже не спрашивал – он вошел в азарт. Он и Малыш Джок Эллиот – оба были повязаны грубой цепью взаимных обид, и каждое побрякивание звена этой порочной цепи пробуждало только лишь гул крови и звон в ушах, отнюдь не колокола милосердия. Почуяв, наконец, что дело добром не кончится, в Хермитейдж-Касл прибыл с визитом сам Робин Воронья Скала Эллиот, лорд Редхью. Хитрый старый лис, страдающий от избытка телес, полнокровия и подагры настолько, что без подмоги не мог сесть в седло, сломил свою былую спесь и битых два часа улещивал молодого и непреклонного хозяина Караульни. Белокурый Босуэлл принял его с почетом, однако условия выдвинул четкие и жестокие: штраф по шиллингу за каждое украденное животное старше года, явка с повинной всех трех главарей Эллиотов из Парка на его, Хранителя, милость, вира за кровь убитых Хепбернов, подпись Вороньей Скалы под бондом – а в противном случае он станет считать всех, носящих фамилию Эллиот, изменниками королю и королевству, и Пятью Ранами Христовыми клянется поступать с ними соответственно. Воронья Скала кряхтел, хмыкал и скрипел, пока наконец не решился возразить:
– Оно все так, лэрд Лиддесдейл, однако и ребятки мои не столь уж виноваты. Огульно хаять не буду, однако ж, за старостью моей и немощью, сами понимаете, находятся люди, кои мутят им души диавольским соблазном…
– Имена, лорд Робин? – произнес Белокурый со всей любезностью, на какую только был способен. – Как добрый католик, почту за честь посильным вразумлением вернуть на путь истинный не только ваших кинсменов, но и подлинного виновника.
Не в состоянии прямо указать на Злобного Уота, лорд Робин застонал и закряхтел пуще прежнего:
– Что вам имена, мой лэрд, коли их так и так к ответу не призовешь, не в обиду будь вам сказано. Что бы вам, того вместо, не встретиться сам-третей с Джоком Малышом, да не поговорить, да не обсудить, в чем там вам Джок дорожку перешел по недомыслию своему молодеческому?
Малыш Джок Эллиот был старше Белокурого чуть меньше, чем вдвое, однако с высоты лет, прожитых Вороньей Скалой, конечно же, оставался для него парнишкой.
– Придет с повинной – обсудим, – отвечал господин граф.
– Так дело у вас не выгорит, – отечески пожурил его Воронья Скала. – Коли не сказали вам, так настоящий Эллиот никогда не повинится в покраже, не будучи приперт к стенке. Вот вы, ваша светлость, и призовите его покамест побеседовать, а уж получится ли усовестить в разговоре – все одно, кровопролития меньше, то и радость моему дряхлому сердцу…
Босуэлл проводил старика с почетом, усмехаясь про себя, как умело Воронья Скала использует мнимую немощность для ухода от неприятных вопросов. Однако уже со двора, прощаясь, пустил парфянскую стрелу в дряблую спину лорда Редхью:
– А бонд-то, лорд Робин? Все посулы ваши хороши, однако извольте-ка поклясться, что поддержите меня, как королевского лейтенанта и хранителя…
Старик закудахтал, от тучности еле оборачиваясь в седле к хозяину дома:
– Коли вы, господин граф, Малыша Джока окоротите, так я вам десяток бондов подпишу, потому – ежели человек в моем доме навести порядок может, так он и со всей Маркой справится! Доброго здоровьичка, лэрд Лиддесдейл!
Воронья Скала дал Белокурому слово главы рода, что братья Эллиоты из Парка не вынут клинки непосредственно на сходке с лэрдом Лиддесдейлом, но Болтон не слишком-то полагался на его обещания. Верней сказать, чертям из Парк-тауэр и сам Редхью был не указ, жили они своим разумением. Потому-то под добротным – и немарким, что греха таить, он взял пример с Уота Вне-Закона – дублетом графа был надет новый простеганный джек с костяными пластинами. Белокурый, весь в черном, на белом боевом жеребце, в суровых цветах плаща «олд-хепберн», сейчас имел вид святого Георгия, вышедшего на змея – но и святой, и змеи были несколько в местном колорите.
Трое братьев-рейдеров из Парк-тауэр были весьма похожи между собой и очень при том различны. Малыш Джок, старший, разменявший четвертый десяток вождь Эллиотов Парка и заводила всякого безобразия, и в самом деле был самым мелким в росте, коротконогим и коренастым, с круглой глумливой рожей, сальной до блеска, украшенной кустистой коричневой бородой. Боннет лихо сидел на его крупной голове, лихо торчал на боннете пучок орлиных перьев, хотя и боннет был не первой свежести, и орел – весьма хил и потрепан. Джок восседал на своем скакуне, таком же невысоком и шустром, как хозяин, подбоченясь, на полкорпуса впереди братьев, однако его выдавали руки – пальцы слишком часто теребили узду для столь невозмутимого вида. «С силой и правом!» – кричала фамильная брошь, которой на плече Малыша была перехвачен темно-синий плащ Эллиотов. Про силу никто не отрицал, но вот насчет права… право у них одно – изображенный на эмблеме Эллиотов меч. Или вертикально поставленный на рукоять нож – как тот, что торчал из пепла сожженной овчарни.
Уилл Эллиот, обладатель эпического прозвища, был выше старшего брата и с лица попригожее, хотя до красавца и ему было далековато. Сухое и длинное поджарое тело, бычья шея, мутный взгляд закоренелого выпивохи, фамильная рыжевато-коричневая масть. Когда он улыбался, в лице определенно появлялось нечто собачье, а что до остальных подробностей телосложения, размышления о них явно выходили за рамки сегодняшней встречи. Вот про подобные клички и говорил Патрику Уот Вне-Закона, когда убеждал, что графа очень душевно приняли в долине… Наглейшим образом, напоказ, держал Уилл поперек холки галлоуэя широкий меч в потертых ножнах, закрывая брата с правой руки. Несмотря на добротный костюм, на благородный цвет плаща, вида Уилл был довольно плебейского, как если бы очутился в седле прямиком со скотного двора. Не исключено, впрочем, что так оно и было.
Роберт Эллиот, единственный из троих, был хорош собой – несколько девической по свежести красотой, однако ничего женоподобного, несмотря на кличку, не сквозило в его повадке и облике. Чистое, безусое и безбородое лицо с правильными чертами, сощуренные голубые глаза, каштановые кудри, перехваченные сзади возле шеи шнурком. Леди-Эллиот отпустил поводья галлоуэя, как будто предоставив лошадку ее собственному разумению, и вместо меча держал в руке кулек, свернутый из листа лопуха, словно мальчишка, обчистивший монастырский сад. Оттуда он доставал одну за другой спелые до черноты вишни, а косточки сплевывал под копыта коней старших братьев. Когда вишневый сок выступал алым в уголке губ, он слизывал его острым, как у кошки, розовым языком. Казалось, младший из братьев явился не на встречу с врагом, а выехал на увеселительную прогулку, так расслаблен и беззаботен был его вид, словно все эти сложные разговоры, все угрозы нисколько его не интересовали и никак не касались. Робби Эллиот помимо воли поглядывал на Патрика с глубокой симпатией, Босуэлл не раз ловил на себе манящий и насмешливый взгляд противника. Но именно о нем говорил Болтон, когда предостерегал Белокурого от метательного ножа, пущенного в спину.
Лихая троица.
И – нет, господин граф был вовсе не так уверен в себе, как это было написано на его непреклонном, холодном челе подлинного хозяина Долины.
Малыш Джок сразу понял, что разговора не будет. Что не склеится вся эта болтовня, на которую уговорился Воронья Скала, с суровым красавцем, успокаивающим своего злобного белого жеребца на расстоянии всего дюжины футов от бедовых братьев. Про молодчика, внезапно объявившегося в Долине в чине лейтенанта шотландской короны, говорили разное, но никто, ни даже Роберт, недолго отиравшийся на торжестве в Хермитейдже, не приготовил Джока к этой дерзости, силе, презрению к устоявшимся в Лиддесдейле порядкам, которые сквозили в каждом жесте, в каждой фразе нового хранителя Марки. Ибо он пришел не уговаривать Джока и не совестить его – он пришел судить, карать или миловать, по собственному выбору. И не было ни приличных встрече приветствий, ни вопросов о делах или о здравии семьи, ни пожеланий доброго дня. Босуэлл просто и ровно заговорил. У него был ясный голос, звучный, сильный и низкий для такого молодого парня.
– Скажи мне, Джок, что ты за человек? Я хочу знать, – Ранний Снег громко, с неодобрением, фыркнул на пони Эллиотов и склонил большую голову. Белоснежная, начесанная до блеска грива потекла вниз тяжелой волной. Рука графа в черной перчатке снова легла на шею коня, поглаживая, и при этом движении на пальце алчно и горячо загорелся рубин Босуэллов. С тяжелой золотой цепи на груди Белокурого глядела на Джока бешеная лошадь, грызущая разорванные удила. Это были и все украшения строгого костюма лорда-хранителя, но именно они оставляли впечатление мощи, силы, несметного богатства, неоспоримой власти. – Скажи мне о себе, Джок. Разума или слуха нет у тебя? Я звал в Хермитейдж всех – пришел ли ты? Почтил ли меня в день моего торжества? Разделил со мной трапезу? Оказал мне уважение, положенное, как твоему лэрду? Нет, ты не пришел ко мне, Джок. Был ли я к тебе за это немилостив? Лэрду прилично терпение, и я был терпелив, вместо того, чтобы сразу призвать к ответу. Я дал время, Джок, но как ты его истратил? Ты вошел в мои земли, когда меня не было, ты разорил их, ударил мне в спину. Это прилично соседу, Джок? Или это прилично доброму подданному короля? Ни то, ни другое. Скажи мне, Джок Эллиот из Парка, кто ты таков – ведь настоящий мужчина так не поступает. Что у тебя есть против меня? Разве я жег твои поля? Присвоил твой скот? Убивал твоих братьев? Осквернил твоих женщин? Была ли на мне вина перед тобой, которую ты взыскивал? Или Господь, к прискорбию моему, сотворил тебя свиньей бессмысленной и бесчестной? Говори же, рассей мои сомнения.
Последние слова были сказаны все тем же спокойным, деловым, холодным тоном – вчистую брихинским, Болтон аж покосился на племянника – настолько ровно, что Малыш Джок даже не понял сразу, что его оскорбили. У лэрда Лиддесдейла голос был прямо, как у святого отца на проповеди, чисто текучая вода, ты словно засыпал, когда слушал его… Галлоуэй, почуяв брошенные поводья, переступил под ним, всхрапнул, и Джок очнулся. И он прочистил горло, а затем произнес ответную речь – она вышла, конечно, не такой гладкой, как он об этом мечтал дорогой, да и цитат из Писания припомнить ему не удалось, но все одно – достойная получилась тирада.
– Коли ты не столь любезен, Босуэлл, чтоб пожелать здравия мне и моим братьям – по первой-то нашей встрече, так я сам тебе его пожелаю. Здравие тебе в Долине ой как пригодится, особливо если станешь заноситься по-прежнему. Ты пришел к нам от короля хозяином, а хозяев на Лидделе отродясь не было и не будет, это тебе всякий скажет. Делать тебе здесь нечего – земли твои на востоке, вот там у ротозеев и требуй повиновения и почета, а вольный рейдер завсегда сам себе голова. Что ж до худых овец твоих, коих ты, словно нищий – сухую горбушку, по всей Марке сыскиваешь, то касательства к их судьбе не имел и вины за собой не знаю, но после нашего свидания уж почту за честь всему твоему исправному добру найти достойного господина. Ведь нет достоинства в том, кто напраслину на соседей кладет. А что ты меня свиньей называешь, так вот тебе мой меч – померимся, и дело с концом, если ты не вовсе просто баба болтливая!
Белокурый, не меняясь в лице, ответно потянул из ножен палаш, Джок Эллиот подобрал поводья пони, приближаясь к лэрду, Уилл Эллиот встрепенулся.
– Протестую, – вмешался Болтон, поспешно закрывая собою и своим конем Лиддесдейла. – Мы выходили не на бой, а на разговор, Джок.
Он видел наблюдателей Эллиотов по гребню холма, его собственные вестовые лежали в полумиле за спиной графа, за камнями на пустоши, и сотня Бинстона была оставлена наготове, но никто не поручится, что у Джока Эллиота за холмом не стоит наготове две.
– Я тоже, – внезапно подал голос Леди-Эллиот. – Лэрд Лиддесдейл, если ему угодно, прольет свою кровь в любой другой день по собственному выбору, не сегодня. Мы не пойдем против слова, данного Редхью за весь наш род, брат Джок!
С недоумением на него воззрились не только Джок и Уилл, но и Патрик Болтон. Не потому, что Роберт заговорил – как раз-то переговоры вел обычно младший Эллиот, и только нынешним утром Джок заткнул ему рот, велев помалкивать, пока он станет окорачивать этого юнца с востока – но обычно Роберт не отличался особой щепетильностью в вопросах чести.
– А иначе ведь скажут, что ты боялся Хепберна, коли зарезал его, против обещанного, – мило улыбнулся Роб старшему брату. – Оно ведь нам не надо, не так ли, лэрд Парк? От нас отвернутся наши родичи, а это дороже жизни Босуэлла, которую ты можешь взять и в другой день.
Брат Джок побагровел лицом – Роб знал, что сказать, ибо сам именно так уложил на встрече одного из не очень подозрительных и поверивших слову Джока Тёрнбуллов.
– Добро, – признал Малыш с крайним отвращением в голосе. – Я не стану драться с тобой сейчас, Лиддесдейл, я повязан обещанием старого Редхью, хотя понапрасну не держал он языка за зубами… но в иное время я выпущу тебе кишки, не смотря, королевский любимчик ты или кто.
– Королевский лейтенант, – спокойно поправил его Патрик. А потом снял что-то с луки седла, и с его короткого замаха котомка полетела под копыта коню старшего Эллиота, галлоуэй всхрапнул и попятился, Джок и Уилл молниеносно обнажили клинки, однако вещь осталась лежать на земле безопасно и недвижно. – Прими от меня на память, Джок Эллиот, коли больше не увидимся. Долгой она будет или короткой – это уж от тебя зависит… но мне чужого не надобно.
Уилл свесился с седла, осторожно подцепил острием меча странный дар. То был спорран, пошитый из шкуры белой плешивой овцы, так, чтобы выжженая Эллиотами голова коня оказалась на самом видном месте, а из споррана торчала рукоять ножа.
– Но не ходи с кошелем этим да с краденым скотом в аббатство Мелроуз, – усмехнувшись, продолжил Белокурый, – братия с тобой больше дел иметь не станет, или им придется отвечать перед церковным судом за укрывательство воров…
Безучастно проследивший всю сцену, Леди-Эллиот перестал сплевывать вишневые косточки, заглянул в кошель, широко усмехнулся. Босуэлл мог бы поклясться, что на поясе у младшего Эллиота висит охотничий клинок, парный к тому, который он теперь вернул Джоку, который был напоказ оставлен на пепелище.
– Ты и тут успел! – подивился вслух Малыш Джок. – Что ж, за предупреждение спасибо, коли что лишнего твоего найду на дороге, так поеду в Драйбург продавать.
– Обижаешь! – усмехнулся Босуэлл. – У нас в роду столько прелатов, что в каждом приходе Приграничья о тебе предупредить можно под страхом церковного отлучения… ты, небось, еще и в освященной земле желаешь быть похороненным, коли случится нужда-печаль, а, Джок?
– Ах, ты, лютый сатана! – всерьез возмутился Малыш Джок, впервые за время разговора задетый за живое. – Ты чем мне грозить вздумал? Это уж вовсе против правил и не по совести!
Собственно, Долина чуть не всем своим населением, независимо от фамилий, находилась под церковным отлучением, потому как Гэвин Данбар и не думал отзывать единожды вылитые на рейдеров проклятия, но хоронить за оградой – этого никто и представить себе не мог, несмотря на любые анафемы. Белокурому не составило бы труда получить от нового канцлера королевства адресное проклятие подобного рода.
– Правила, – негромко и веско произнес молодой Босуэлл, – здесь устанавливаю я. И всякий, кто идет против моей воли – идет против воли короля. Желаешь убедиться, Джок – не стану удерживать. А про совесть не тебе бы рот разевать. Я все сказал. Если тебе нечего добавить, тогда прощай.
Оставить поле за собой – граф очень хорошо помнил наставление Болтона.
Малыш Джок несколько мгновений играл с ним в переглядки, затем длинно сплюнул в сторону Босуэлла, развернул галлоуэя и дал лошадке шпоры. Никто из братьев больше не сказал ни слова, только Леди-Эллиот бросил на противника беглый веселый взор через плечо. На лице Роберта по-прежнему было такое выражение, словно вся эта свара бесконечно его забавляет.
– Эй, Джок! – заорал вслед Эллиотам Белокурый. – И сэру Уолтеру передай привет да два слова – подписи его боле нет ни цены, ни веры! Ни веры, ни цены, Джок!
– Не ссорься с Уотом! – процедил Болтон сквозь зубы. – Только не с ним…
– А ты думаешь, эти черти со своей «силой и правом» здесь не с его ведома и согласия?
Братья Эллиоты, удаляясь во весь опор, уже становились более деталью хмурого приграничного горизонта, нежели живыми людьми. Небо заволокло матовой пеленой серых туч, накрапывал мелкий дождь.
– Хотелось бы верить, что нет, – вздохнул дядя.
– Да ты, я смотрю, всегда веришь в лучшее, – скривился граф.
Потянулись осенние дни в странной, вялой вражде. Эллиоты не пытались вести прямую войну с Хранителем Марки, но мелкие, досадные происшествия – то пропажа нескольких овец, то пастух, утопленный в Лидделе, то арбалетный болт, вылетевший из засады, чудом просвистевший мимо боннета Белокурого – все это не давало забыть о трех братьях, как о занозе в пятке: что ни шаг – она тут как тут. Можно было не сомневаться, что следы любой неприятности в окрестностях Хермитейдж-Касла, по расследованию, неминуемо привели бы к Парк-тауэр. Гонка же за Эллиотами, словно ловля мошкары над трясиной, пользы не приносила, с некоторых пор кинсмены Малыша Джока сделались весьма осторожны, а визит напрямую в Парк Белокурый почему-то оттягивал. Злобный Уот, несмотря на полученный косвенный вызов, осторожно помалкивал… по бонду и по правде, он подлежал теперь такому же наказанию, как сами его подручные, но прежде, чем свести счеты с Уотом, Босуэллу следовало набить руку на ком помельче. Патрик Болтон, наблюдая сомнения племянника, бесился от безделья и пьянства, наконец, выпросил себе рейд за Кершоп Берн, под крепчайшее обещание не ломать дров, и ушел в погоню за контрабандистами. Рейд, однако, вышел несчастливым – и перевозчики свинца благополучно утекли к сассенахам, и обратно, заново повстречав на Спорных землях Джона и Вилла Армстронгов, Хепберны вернулись с большими потерями, и зримым образом самой крупной из них стало окоченевшее длинное тело Оливера Бернса, перекинутое через спину галлоуэя…
Это событие всерьез опечалило Болтона – Бернс был при нем в самых опасных переделках все последние годы, и в этой тоже, прикрывая лэрду Болттонскому спину, он пал, но не отступил. Так из всех бывалых капитанов под началом у Босуэлла осталась только родня – кузен, Джон Бинстон, да дядя. Бинстону он доверял по-прежнему весьма умеренно, а одного надежного Болтона было очень мало в условиях грядущей кровной войны. Белокурый оплатил мессу за упокой души покойного Бернса-Вихра и послал денег его вдове, проживавшей в Каслтоне, а больше, к раздраженному недоумению Болтона, ничего не случилось. Графом овладела странная апатия – он знал, что обязан предпринять нечто, лучше бы устрашающее, но не делал вовсе ничего. Возможно, отчасти в этом был виноват нудный приграничный дождь, на неделю пришедший в холмы, затопляющий поля до сущей непролазности. И граф взял привычку уходить в заброшенную старую церковь неподалеку от Хермитейджа, сидел там на ступенях у входа или заходил под частью обрушенную кровлю, бродил по стершимся могильным плитам Сулисов и Дугласов, думал. Если бы Болтону удалось запастись терпением, так свойственным натуре епископа Брихина, возможно, он догадался бы, что Белокурый всего лишь выбирает, в какую сторону нанести первый удар.
Пилтауэр Парк стоял на болоте, как оно и полагается, посреди трясины, возвышаясь над камышами, омутами и осокой, словно обломок ведьмина клыка. Эллиоты из Парка были второй ветвью семьи, младшей относительно Редхью, но очень многочисленной, горластой и зловредной. Троих ее главарей священник из церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Джедбурге называл прямо – «чума египетская», но братья не обижались, всегда прикармливали его от щедрот удачного рейда, и двое даже частенько – раз в год – благочестиво ходили к исповеди. Третий был в церкви, как про него злословили, только один-единственный раз – на собственном крещении, что, впрочем, не удивительно, учитывая его привычки. Парк, окруженный приземистым, но толстым барнекином, был выстроен больше полувека назад, и за прошедшие десятилетия его облик не был ни сильно подновлен, ни переменен в сторону большей безопасности или удобства. Казалось, его обитатели вполне полагались только на собственные силы и злобу – больше даже, чем на кованую решетку ворот. Вход в жилую часть, как во всякой старой башне, в Парк-тауэр был устроен во втором этаже по наружной лестнице, внутри же, выше холла, по лестнице винтовой наверх, располагались сперва покои Малыша Джока, где обитали его жена, дети и собаки, над ними, под самой крышей, жили прочие двое братьев, женатый Уильям с выводком – к стыду своему – девчонок и холостой Роберт. Прочие же кинсмены, кого не устраивало спать на полу возле каминной трубы в комнатах Уилла или Роба, обживали окрестности башни, возводя вблизи барнекина глинобитные лачуги. Нынче у Эллиотов было особенно шумно: Малыш Джок пропивал последние денежки от продажи овец Босуэлла, которых по старинному договору Роб Эллиот и в самом деле перегнал брату-ключарю аббатства Мелроуз. А поскольку всегда особенно приятно поговорить о тех, кого обмишурил, то и персона графа разжигала за столом в холле особые прения – сама персона, фигура, манера держать себя и манера речи, а также его близость к Его величеству.
– Хоум трубит всем, что Босуэлл позволял себя трахать королю, чтоб только получить обратно отцово наследство и нашу Долину… – со вкусом повествовал Малыш Джок, дохлебывая эль из пузатой глиняной кружки. Баранья кость, очищенная от малейших остатков мяса, полетела на пол, в соломенную, днями не меняемую застилку. – Хоум ему сродни, знает, небось, в чем соль…
– А сэр Уолтер, напротив, говорит, что Босуэлл – настоящий мужик, красотка Мэри, на что прожженная, по нем неделю вздыхала, – возразил ему Хер Собачий.
– Ну, так, может, он – вроде нашего… Роб! Эй, Роб, проверишь попку его милости?
– Как вам будет угодно, братья, – равнодушно отвечал тот.
Мужчины в зале заржали. Роберт Эллиот одинаково ловко управлялся и с девками, и с парнями, но предпочитал последних. Его пристрастия были широко известны среди своих, но обсуждались обычно только за глаза и с опаской, потому, во-первых, что он был младший брат лэрда Парка, а во-вторых, сам – один из самых опасных бойцов Лиддесдейла. С Робом, коли попробовать его оскорбить, шутки коротки, несмотря на его юный возраст и милый вид.
А Джок, которого задело за живое то, что он был вынужден уступить и поле, и последнее слово графу, продолжал негодовать:
– И ведь каков говнюк, братья! Каков червяк, монаший выкормыш! Он мне стал анафемой грозить! Мне! Анафемой! Будто я ту их анафему первый раз в жизни услыхал бы… Редхью совсем из ума выжил, пообещав Хепбернам бабскую трепотню… да ты еще вот влез не вовремя со своим «не согласен»! Кто тебя спрашивал, Роберт, а?
– Посмотрел бы я со всем удовольствием, как бы вы сшиблись, – отвечал Роберт брату с еле уловимым презрением в голосе. – У него ж рука много длинней твоей, да и конь – боевой, против пони-то. Пластанул бы тебя «с крыши» – мое почтение, собирай кости на потаж, могучий лэрд Парк.
– А, – отмахнулся тот, – коли трусоват, так и не лезь в большие разговоры!
Роберт на это только улыбнулся.
– Сроду не припомню, чтобы Роб когда-нибудь трусил, – буркнул Уильям, – а ты, Джок, раз хотел надрать Босуэллу задницу, нечего было конягу разворачивать! А то уж увел нас, а теперь рот разеваешь да кулаками машешь, чисто дурачок деревенский – на воронье пугало!
– Заткнись! – удивился Малыш Джок. – Соплив еще этаким манером со мной разговаривать! Ничего, на той неделе подойдут Эллиоты из Брэдли, с Гованом-Обжорой в головах, прижмем Красавчика Босуэлла так, что удерет к своей кормилице под юбку, если не обосрется на месте со страху… Караульня хоть и сильна, а в округе, все одно, много удобных лощин имеется.
– А этот белокурый граф – и впрямь красавчик… – задумчиво согласился Робби Эллиот.
– Роб, когда мы с ним разберемся, я подарю тебе то, что от него останется, – рассеянно отозвался Малыш Джок, которому было сей момент не до душевных томлений младшего брата. – И делай с ним, что хочешь.
Мужчины, сидящие за трапезой, дружно грохнули от хохота. Леди-Эллиот промолчал, только сощурил холодные голубые глаза. За столом эль лился рекой, вот уже в ход пошли волынки и хоровое пение, и только час спустя Джок заметил, что младшего брата давненько нет в зале.
Правду сказать, дела складывались для молодого Босуэлла не самым благоприятным образом: рейдеров графа легко могли взять в клещи, договорясь между собой, оба мятежных рода – Эллиоты с севера и Армстронги со Спорных земель юга. Драться одновременно с обоими не хотелось даже Болтону, а начинать свару с кем-то одним – так надо с умом выбрать, потому что второй враг тут же выйдет занятому Босуэллу в незащищенную спину. Конечно, Хермитейдж-Касл штурмовать весьма затруднительно, но отлеживаться в берлоге не входило в планы Белокурого. А потом, ведь, кроме-то штурма – есть еще засады в лощинах, есть сшибки в холмах, есть подложные письма друзей, арендаторов и подписантов бонда, которым требуется помощь, и королевский лейтенант будет обязан покинуть свое убежище, чтобы устремиться навстречу неведомой опасности. Смерть не страшна, но глупой смерти Патрику не хотелось. Так Армстронги или все-таки Эллиоты? Юг или север? Но дилемму Хепберна милостивое провидение решило само и вдобавок – самым неожиданным образом.
Один из караульных Колодезной башни Хермитейджа стоял перед лэрдом, переминаясь с ноги на ногу и шмыгая носом – парень не старше самого хозяина, принятый в свору совсем недавно, после летней присяги.
– Лэрд, тут явилась колючая девчонка, она из Парка, в услужении там… Говорит, у нее вести об Эллиотах.
– Ну, веди ее сюда, – велел Патрик, подивясь про себя, что это вдруг вести об Эллиотах стали передаваться через служанок. И когда несколько минут спустя женские юбки прошуршали по винтовой лестнице, задели притолоку, граф жестом отпустил караульного обратно на пост.
– Письмо от леди Эллиот, милорд…
Стоял серый, дождливый осенний день, в полумраке комнаты только несколько свечей на столе и затухающий жар камина давали хоть какую-то возможность видеть, узкие окна сочились сумерками. Патрик пригляделся к посланнице: девица высокая, стройная, чуть угловатая, однако одета хорошо, а зашнурована так, что груди вовсе не видно, словно у подростка… мордашка очень симпатичная, ясные голубые глаза, блестящий каштановый локон вьется из-под чепца. Вот только руки крупноваты, как то бывает у вилланов. Когда он подошел к девушке, та не отстранилась, присела почтительно, но очами стрельнула на него снизу вверх более чем лукаво. Кого-то она мучительно напоминала Патрику, где-то он видел похожую рожицу, но никак не мог припомнить, где именно, и легкое это беспокойство памяти объяснил тем, что тут, на границе, все друг другу родня. Вот и эта – из Эллиотов, но какая-нибудь троюродная.
Письмо от леди Эллиот… от которой? Да, впрочем, он вообще сомневался, что хоть одна из женщин Эллиотов умеет написать свое имя. Этот вопрос надлежало прояснить.
Патрик взял девчонку за подбородок, и когда та поднялась, лица их оказались почти вровень:
– И что же нужно от меня твоей госпоже, красотка?
Девчонка молчала, чуть улыбаясь, тогда он легко коснулся губами ее свежего рта:
– И теперь не скажешь?
На галантный поцелуй та ответила с неожиданной щедростью, обвив руками шею Белокурого, прижимаясь к нему всем гибким телом… и именно в этот момент в голове Хепберна, чуть озадаченного пылкостью ее лобзаний, мелькнула догадка, разом все объяснившая: он опустил руку по юбкам вниз, нашел то, что искал, и в то же мгновенье отшвырнул от себя любвеобильную гостью.
Белокурый был настолько взбешен, что от ярости на некоторое время потерял способность и говорить, и действовать. Девица, нимало не смущенная грубым обращением, заливалась хохотом на другом конце комнаты, и звонкий смех ее звучал маняще и почти совсем по-девичьи.
Почти.
Хепберн перевел дыхание, холодно произнес:
– А под юбками, надо полагать, нож?
– Не, под юбками – член, – отвечал с нахальной усмешкой Робби, Леди-Эллиот. – И тебе бы понравилось, подержись ты за него чуть подольше. Мизерикорд – за корсажем.
Он выудил из-за шнуровки платья тонкий, хищный кинжал, кинул его на стол.
Звякнула и тускло блеснула сталь.
– С чем пожаловал? – спросил Белокурый, и только по глазам, узким и темным от гнева, было видно, какими трудами он зажимает свою ярость в железный латный кулак.
– Есть о чем поговорить… наедине.
– А ты не подумал, что тебе теперь из Хермитейджа уже не выйти?
– Может, и не выйти, да только овчинка стоит выделки, – нимало не смущаясь, отвечал Роберт. – Но, сдается, нет тебе проку в моей смерти. Братья явятся.
– И с ними поговорю.
– Суров не по летам. Поговорить-то поговоришь, а что толку? Давно ли ты тут, граф? Сколько у тебя здесь людей, своих и пришлых? Мы можем выставить до тысячи в поле просто по свисту, а то и поболее, если поклонимся в ноги Бранксхольму да кликнем родню с юга… Сколько ты продержишься в осаде? И надо ли оно тебе вообще? Нет, Белокурый, я пришел не с войной, а без войны.
Это было интересное предложение.
– А отчего бы нам и не повоевать? – поинтересовался Патрик.
– Оттого, что людей у нас в этом случае сильно поубавится, с обеих сторон, причем. И ты еще забыл про Армстронгов, а они-то про тебя не забыли, и тоже в обиде, что ты перекрыл им доступ на прежние пастбища.
Армстронги. Головная боль похуже Эллиотов, как говорил дядюшка-медведь.
– Допустим, я о них не забыл, но тебе что за печаль? Ты пришел с предложением, Роберт? Выкладывай.
– Я могу привести к тебе Эллиотов, – без обиняков сказал Робби, – или, по крайней мере, уговорить их выступить не против тебя, а против Полурылка Армстронга. Если вместе мы наберем тысячи две, то крепко прижмем его на Спорной земле. У нас с Чокнутым Джоном старый счет, который мы всегда готовы подновить. Но я хочу знать, что в случае свары ты не ударишь нам в тыл.
– Это идея твоя или Малыша? – осведомился Белокурый.
Леди-Эллиот фыркнул:
– Ты думаешь, я к тебе пришел по его наущению? Джок никогда не видит дальше собственного носа. Сейчас он горит желанием расквитаться с тобой просто за то, что ты – Босуэлл, и хочешь быть здесь лэрдом.
– А Уилл?
– Уиллу, – тонко улыбнулся Роб, – все равно, с кем рубиться, лишь бы рубиться. Они оба – храбрые парни и отличные воины, но по мне, чем драться с тобой, лучше договориться.
– А с чего ты взял, Робби, что я стану тебе верить?
– С того, что, кабы я пришел от моих братьев, ты был бы уже мертв, – логично отвечал Роберт. – И то, что твои кишки, Белокурый, еще внутри тебя, а не на полу – вполне достаточная рекомендация.
– Допустим. Но ты не любишь братьев, Роб, – заметил Патрик, – ты их даже не слишком-то ценишь, придя договариваться со мной без их ведома. Ладно, мне только на руку. Но тебе-то самому это зачем?
Роберт помолчал минутку, потом вдруг ответил:
– Я хочу тебя, Босуэлл. Возможно, я даже влюблен. Я буду драться вместе с тобой, даже если никто из наших тебя не поддержит. Я не пойду с тобой против них, не надейся, но я и не пойду с ними против тебя. Хочешь – принимай мой клинок, хочешь – откажись, но учти, рука Леди-Эллиот ничуть не слабей, чем лапы моих старших братьев. Я тебе пригожусь, Белокурый.
– Не знаю, что мне мешает убить тебя, парень, – пробормотал Патрик, ошеломленный таким признанием. Он заметил, как Робби поглядывает на него при встрече, но не придавал этому особого значения и никак не ожидал, что Леди-Эллиот так легко сдаст все свои карты. Патрику до сей поры не приходилось иметь дела с содомитами, и он сию минуту не мог решить – считать ли ему себя кровно оскорбленным или просто посмеяться над подобной претензией Эллиота.
– Не, можешь попробовать, конечно, – флегматично согласился Робби, – но, может, у меня еще один ножичек – в чулке… и потом – за что убивать-то, за слова? Я ж не поимел тебя против воли. Ну, поцеловал – да… подумаешь, велика обида!
От напоминания о поцелуе Белокурого слегка подмутило. Стоящий напротив Хепберна Леди-Эллиот выглядел, как девица, и голос у него был вчистую девичий, мелодичный, и рожица лукавая и кокетливая, и при том Патрик знал, что на совести этого внешне безобидного, обаятельного парня, разве что двумя годами старше Белокурого, уже человек двадцать христианских душ.
– Ты и чулки носишь? – спросил Патрик, находясь еще в несколько пограничном состоянии ума: его не покидало ощущение нереальности происходящего.
– Так баба я или кто? – отвечал Леди-Эллиот. – Ношу, конечно!
И задрал подол до подвязки. Голенастая и волосатая, но ровная нога в чулке, вышитой лентой перехваченном выше колена – этого зрелища Белокурый уже не выдержал, фыркнул, и оба заржали в голос.
– Послушай, Робби, – сказал, вволю отсмеявшись, Хепберн. – Предложение лестное, что и говорить, но ничего не выйдет. Тебе наша сделка без надобности – мне по вкусу девчонки, и вряд ли они мне когда-нибудь прискучат.
– Слухи, стало быть, врут?
– Слухи всегда врут, Роберт…
– А ты пробовал с мужчиной? – осведомился Роберт, и глаза его остро блеснули.
– Нет, – хмуро буркнул Патрик, вновь ощущая растущее раздражение от этой беседы. – И не собираюсь.
– Это по-другому, чем с бабами. Я пробовал по-разному, – осторожно отвечал Леди-Эллиот. – Пока сам не проверишь, не узнаешь, что тебе нравится.
– Послушай, Роберт, – повторил Патрик, хмурясь все больше, – ты и так выставил меня идиотом…
– Я? – удивился Робби. – Нечего лапать каждую встречную девку!
– Я ценю то, что ты меня не зарезал, но проваливай подобру-поздорову. Нет нужды злить меня лишний раз. Что до твоего предложения, так я подумаю и дам знать. Худой мир с вами, конечно, лучше доброй ссоры, но еще два-три твоих намека, и я не посмотрю, что ты там носишь в чулках. Я слушал тебя достаточно, я должен подумать.
Роберт усмехнулся, кивнул, но суровый тон Белокурого произвел на него мало впечатления:
– Так помни – я согласен быть у тебя капитаном, если позовешь, – и с этими словами исчез. Только юбки прошуршали, будто и впрямь комнату покинула женщина.
Босуэлл остался один, раздраженный и озадаченный.
На столе тускло поблескивал кинжал Эллиота.
Когда Болтон вернулся из разведывательного рейда на юг, Патрик вкратце изложил ему предложение Роберта, опустив обстоятельства, в которых оно было сделано. Медведь-дядюшка хмыкнул в ответ:
– Дело стоящее, если поверить ему на слово, – сказал он. – Эллиоты и впрямь помогли бы нам справиться с Чокнутым Джонни Армстронгом, но что потом? Что они захотят взамен? И почему мы должны ему доверять?
– Не знаю, – неохотно признался Патрик. – Нет у меня доводов ни за, ни против. С другой стороны, он пришел один, доверился мне, хотя я не обещал ему безопасности…
– Леди-Эллиот доверился? Да ну, брось, Патрик. Помнишь, я говорил тебе, что этот маленький паршивец будет поопасней обоих своих братьев? У него же язык без костей, мать его случайно парнем родила, уболтает кого угодно, точь-в-точь настоящая девка… да и ножей у него в его тряпках понатыкано видимо-невидимо, а метает он их – за пятнадцать шагов в прямо в глаз.
– Он готов пойти ко мне в капитаны, – неохотно добавил Белокурый.
– Вот как? – Болтон призадумался. – Это серьезно. Зачем?
Патрик пожал плечами.
– Если он впрямь согласен драться за тебя – что было бы странно – тогда это ценный подарок, но если – чтобы отдать тебя братьям…
Болтону, при всем его жизненном опыте, не приходило в голову самое простое объяснение, которое Патрику так бесхитростно изложил Леди-Эллиот, а Патрик не хотел наводить дядю на эту мысль. Не то обстоятельство, чтобы укрепить его авторитет в своре Хермитейджа, ох, не то…
– А еще можно с левшами договориться…
Патрик отметил про себя дядино «еще» – стало быть, Болтон все-таки подумывает о союзе с Эллиотами. Переспросил:
– С кем?
– Ну, с Керрами, с Эндрю Фернихёрстом. Угрюмые ребята, но в бою незаменимы. Пробовал я как-то их башню штурмовать, чтобы размяться… ох, и наваляли они мне на этой пресловутой винтовой лестнице с левой-то руки! У них в шайке и впрямь левши через одного, а остальные – так те двурукие, с какого бока не зайди к ним, все несладко. Очень, знаешь ли, полезный навык, племянничек…
Армстронгами в ту пору заправляли двое кузенов – Вилл Подморгни, прозванный так за нервный тик, ничуть не красивший его длинной рожи, и Джон Полурылок, чью физиономию по диагонали рассекал багровый, криво сросшийся шрам от зверского удара палашом, лишившего Полурылка половины носа. Удар, помимо эстетических, имел для Джона Армстронга еще и те умственные последствия, что после его стали прозывать Чокнутым Джоном – за непредсказуемость поведения. И если с Эллиотами еще можно было договориться через языкастого Роберта, то Армстронги, соответственно фамилии, признавали только палаш и плеть. Вырезать и перевешать… но не вступать в переговоры – таковы были предпочтения лорда Болтона. Однако Босуэлл проводил Приграничье только первую свою осень и еще не привык убивать людей направо и налево. Хранитель Марки дважды посылал гонца в Спорные земли, требуя виры за кровь своих людей и явки с повинной убийц, в качестве вестовых используя пленных кинсменов Полурылка, привезенных Болтоном из разведки, а на третий раз в сторону Блеквуд-тауэр полетело уже уведомление о наложении наказания… ответа он, конечно же, не дождался. Оно и неудивительно, толковал ему дядя, если больше шестидесяти рейдеров банды Полурылка – люди конченые, вне закона. Однако апатией Белокурый более не страдал, Робби Эллиот развязал ему руки: освободившийся от угрозы с севера, Босуэлл кинул клич в Долине и, отобрав лучших бойцов, ждал теперь только годных командующих…
– К тебе Берк Маршалл в капитаны просится, племянничек, – дядя, расположившись в дверном проеме господских покоев Южной башни, закрыл собою весь скудный свет, идущий с лестницы, освещенной чадящими факелами.
Патрик неохотно оторвался от Светония – несколько томов библиотеки старого Джона Хепберна кочевали с ним по любому бездорожью:
– Ну, и это хорошо? Или плохо?
Болтон трубно прочистил горло, молвил задумчиво:
– Это как сказать. Скотина он, конечно, редкая, этот Берк, и братья его не лучше, но дело свое знают. И места те тоже – раньше в подручных у Вилла Подморгни обретались.
– А почему ушли?
– Да повздорили, как водится. Подробностей не знаю. В общем, ты – лэрд, тебе и решать.
– Ну, давай возьмем, дядя. На пробу. В смысле, если не понравятся, мы их прирежем.
У Белокурого так бывало – и скажет в шутку, а выйдет всерьез.
До начала рейда Патрик собрал своих капитанов, пояснил предварительно, что ждет от них с точки зрения порядка. Матерые волки даже не пытались скрыть ухмылку, выслушивая его прекраснодушные приказы – женщин не насиловать, стариков и детей не резать. Тактика выжженной земли отменялась, даром, что Армстронги отменно наскучили всему Лиддесдейлу. Ухмылки, правда, сменились общей настороженностью, когда молодой Босуэлл пообещал вешать каждого убийцу и насильника, независимо от принадлежности к семье, а хоть бы и Хепберн. На первый раз или по незнанию приказа прощения также не полагалось, и об этом капитанам было велено известить бойцов. Разошлись, то есть, в смешанных чувствах. Леди-Эллиот, тот прямо говорил своим, что у юного Босуэлла слишком нежное сердце, слишком.
– Не выйдет! – объявил Патрику Болтон. – Я уж не знаю, чему учил тебя старый Джон, но по его книгам тут не проживешь, племянник. Резали – и будут резать, таков обычай кровной войны. А бабы – это уж известное дело… И всех не перевешаешь, только умы смущать такими приказами. На кой черт тебе это нужно?
– На кой? Вот скажи, дядя, если я стану вырезать и жечь всех до полного умертвия, как скоро меня залюбят так же, как Полурылка Армстронга? Ну, вот чтоб любой из вилланов готов был меня с потрохами сдать первому встречному, чтоб хоть в постели закололи, но избавили? А? Молчишь? То-то и оно. Я тебе расскажу – очень скоро это произойдет. И ни в малейшей степени не хочется, знаешь ли, мне впоследствии пойти дорожкой братьев Армстронгов… Да, меня должны бояться. И будут бояться. Но и доверять мне – тоже будут…
Но Болтон все равно счел это рассуждение Белокурого блажью.
Выступили на первой неделе октября, когда морозец уже прихватил болота, сдобрил краски побуревшей травы намеком на снег, и тонкие льдинки похрустывали под копытами лошадок, на застывшей за ночь конской сбруе под перчаткою графа, и даже на усах Йана МакГиллана – горец так давно защищал своего господина днем и ночью, что порой Патрик вовсе переставал его замечать, как часть собственного тела. На привалах неприхотливые галлоуэи разрывали пожухлую траву, добираясь до вкусных корней, а люди жгли костры, приплясывали возле них, греясь, и запах торфяного дымка растворялся в прозрачном, ясном небе. Шли, по обычаю, ночью – осенняя луна светла и сладка, а днем отдыхали в укромных местах. Днем четыре капитана Белокурого, Болтон, Бинстон, Эллиот и Маршалл, расходились в разные стороны от привала, искали следов, собирали слухи о трудноуловимых врагах. В частности, графа очень интересовал Блеквуд – план башни и способы туда проникнуть – и по этим вопросам он получил от Берка Маршалла исчерпывающие сведения. Берк и его братья – Джоб и Джеймс – для искушенного наблюдателя представляли любопытный типаж человека на самом примитивном уровне своего развития. То были существа циклопического телосложения, однако с двумя глазами. Между глазами помещалось немного мозга, пригодного только на то, чтобы копить злобу и искать ссоры, однако на наблюдательности это никоим образом не сказывалось, а старший, Берк, был даже способен внятно излагать свои мысли, когда таковые пробегали в его каменной голове тролля. Босуэлл, по необходимости согласившись использовать их сатанинскую силу и ярость, держал себя с ними несколько брезгливо и надменно, не сразу заметив, что Берк Маршалл, в сущности, отвечает Дивному графу тем же.
К Блеквуду подошли ранним утром – после ночного перегона, и даже болотные твари спали, когда люди Босуэлла на брюхе волоклись за гибким Робом Эллиотом через жидкую грязь трясины, окружавшую воровское гнездо Армстронгов. Удивительную беззаботность проявили обитатели Блеквуда – нетрудно было догадаться, что, раздраженный неповиновением, рано или поздно Хранитель Марки явится сам требовать ответа за разбой, однако Блеквуд-тауэр мирно дремал в липкой белой хмари, поднимающейся над окрестными топями. Ни патрулей не встретили они по пути, ни засады… только острый крик птицы иногда бередил настороженный слух разведчиков. Роб вызвался влезть на барнекин, снять часового над воротами и распахнуть створки для конных рейдеров Белокурого. Он спешился и заставил сделать то же самое два десятка своих кинсменов, лег на мерзлую землю, и медленно, припадая к кочкам, еле заметный во влажном тумане, ужом пополз к Блеквуду. Резкий вопль выпи, похожий на крик умирающего, разорвал тишину, однако настоящая жертва Леди-Эллиот рухнула вниз, под ворота, со стены беззвучно. После, так же неслышно, Роберт скользнул по стене наверх… а за ним – и прочие Эллиоты, которых пришло в этот рейд около полусотни. Черные от болотной жижи, они прилеплялись к серым камням, как ящерицы, один за другим перебираясь во внутренний двор спящей башни. И первый крик раздался только когда завязалась схватка внутри, у ворот в барнекин, ибо тогда и стало понятно, почему так долго молчал хищный Блеквуд – братья Армстронги устроили смертоносную западню внутри…
Час спустя Роберт Эллиот, сдержав слово, отворил ворота для конницы Хепбернов. К этому мгновению из его людей была вырезана почти половина. Джон Бинстон с фамильным воем «Иду навстречу!» рубился бок о бок с ним почти что с первой минуты и, сам в лохмотьях окровавленного джека, под изрядно разбитым баклером, потерял убитыми и раненными те же два десятка, однако ему, остервенелому от упрямства Армстронгов и от потерь, все-таки удалось отжать противника от кованой решетки и проникнуть в башню. Босуэлла Болтон едва удержал от того, чтобы, вместе с командой рейдеров, лезть по штурмовым лестницам на крышу Блеквуд-тауэр, через старую кровлю вламываясь внутрь – способ привычный и самый действенный, и правильно сделал: Армстронгам посчастливилось сбить нападающих, и лестницы, рухнув, увлекли за собой в трясину вокруг Блеквуда дюжину человек. Но Берк Маршалл, вошедший в первый этаж на плечах бинстонских Хепбернов, уже велел тащить вязанки свежих прутьев – и Леди-Эллиот свистом отозвал своих, метнувшихся в глубину пилтауэра: задымило, заволокло весь внутренний объем башни вонючим смрадом… так началась «ловля рыбки в тине», как это называлось в Приграничье, выкуривание защитников из верхних жилых покоев. Белокурый, теряя терпение, дал шпоры Раннему Снегу, пронесся в гущу боя, сметая с дороги раненных, до смерти топча простертых на земле, а, неосторожно спешившись, едва не принял в грудь длинное лезвие палаша – оно пропороло дублет, джек, рубаху, пройдя по боку резкой, досадной болью – и лошадиная, рассеченная старым шрамом рожа ухмыльнулась ему… Полурылок Джон Армстронг собственной персоной, в полном смысле по колено в крови своих ближних, был страшен не только лютой злобой и ухватками матерого убийцы, но и тем ожесточением в бою, которое придает только близкая, осознаваемая и неминуемая смерть. Джон Армстронг уже умер внутри себя, уже сам был – та смерть, и нес ее безотказно, стоя на руинах своего дома, на телах своего беззаконного племени. Краем глаза Патрик успел заметить, что в двух шагах от него схватились лорд Болтон и Вилл Подморгни…
В ранних осенних сумерках все было кончено. Три рода, Хепберны, Эллиоты, Маршаллы, делили добычу. В холле Блеквуда, прямо посреди зала, горел, раскаляя камни пола, гигантский костер, обогревая ликование победителей, а оба хозяина, и Чокнутый Джон, и Вилл Подморгни, мертвые, валялись во внутреннем дворе Блеквуда, едва прикрытые рваными, мокрыми, потерявшими цвет от крови плащами – под охраной людей Болтона и под строжайшим запретом расчленять или иным образом глумиться над телами. Павших уже сложили по разным сторонам двора, раненных отдали под надзор лекаря. Лэрд Лиддесдейл, отдыхал в тех господских покоях, где сохранилась в целости крыша, и не слишком воняло дымом. Рейдеры внизу жарили мясо в камине, бочки эля разливали свое содержимое необъятной рекой, кричали закалываемые овцы… и не только овцы.
Босуэлл не сразу это расслышал и отделил на слух от звериного смертного крика.
Кричала женщина.
Он выждал минуту, чтобы увериться, что не ошибся, но крик повторился, вонзаясь в виски, заставляя его самого кривиться, словно от боли. И надо было сделать что угодно, чтобы прекратить этот звук. Патрика слегка лихорадило – и от скользящего ранения в бок, и от угара боя, который еще не выветрился из головы. Из той самой головы, в которую сейчас вертелом раз за разом входил надсадный женский вопль. И это было в прямом смысле слова убийственное сочетание для графа. Он увернулся от рук МакГиллана, штопавшего ему разодранный бок, натянул рубаху, встал и двинулся к двери, на ходу прихватив палаш, однако на пороге перед ним уже стоял Болтон. Тот чутьем понял, что происходит:
– Не ходи туда, сынок!
Белокурый посмотрел на дядюшку так, словно с ним вдруг заговорила стенка:
– Что это еще значит – не ходи? Там мои люди, они заняты явно не тем, чем надо… с дороги!
– Сынок, ты ранен, отдохни, утром разберешься.
– К утру ее убьют.
– Очень может быть. Но это Приграничье, это война… и какая разница – ну, убьют. Она и так уже не выживет…
– С дороги, я сказал!
– Патрик, остановись! Ну их! Так уж принято, после наведешь свои порядки!
Но Белокурый стряхнул дядину руку с плеча, заорал:
– Уж ты-то лучше меня знаешь, что после здесь может не наступить никогда! Был приказ! Мой приказ, черти б вас взяли совсем!
И по выражению глаз его Болтон понял, что Патрик сейчас в том состоянии духа, в котором отец его, граф Адам, человек, в сущности, очень мягкий, пробивал межкомнатную деревянную перегородку ударом кулака. Первый раз мальчик так сильно напомнил ему погибшего брата. В общем, это судьба, и Хепберн Болтонский, кельт с головы до ног, в нее верил.
И потому молча отступил в сторону.
Туда, где она лежала – окровавленный, кричащий кусок мяса, который прикончат ради забавы, когда наскучит пытать – Патрик старался не смотреть. Во-первых, потому что это оскорбляло эстетическое чувство Босуэлла, во-вторых, потому что ни жалости, ни бешенства ему сейчас обнаруживать никак не следовало. Но когда он, как камень из пращи, врезался в толпу, окружившую и подзадоривавшую насильников, состоявшую почти сплошь из Маршаллов, когда без лишних слов двинул в рыло и оттащил от жертвы Джоба Маршалла – все-таки где-то на краю зрения зацепили сознание полусумасшедшие от боли, страха, унижения, отчаяния женские глаза. Глаза умиравшего животного. Чудовищная, тягостная смерть.
Наивный Джоб, надо сказать, не понял, что произошло. И хлесткий, потемневший от предельного бешенства взор Белокурого его тоже не насторожил. А потому Джоб решил перевести дело в шутку:
– Босуэлл, ты чо? Не, ну ты чо?! Если тебе самому не терпится, так мы пропустим!
И ближние его радостно заржали.
Тем временем Хепберны мягко расклинили толпу Маршаллов вокруг молодого графа. Патрик не видел их, но чувствовал за спиной присутствие своры Хермитейджа. Недоуменное, но присутствие, а другого ему и не было нужно сейчас. Джоба сразу он ответом не удостоил:
– Йан, Хэмиш, взять его. Робби, Том, вожжи покрепче, живо, – и уже обращаясь к насильнику. – Что, Джоб, готов для «короткой исповеди»?
– В смысле? – в тяжеловесном сознании Джоба зашевелились какие-то сомнения.
– В смысле, ты – покойник, Джоб, – и Патрик кивнул своим, – давайте, ребята, нечего ворон считать!
Хэмиш и Том двинулись на онемевшего Джоба, но им навстречу вышло не менее полудюжины Маршаллов. Младший из братьев Маршалл, Джеймс, стушевался в толпе, и Болтон понял – вот, сейчас действительно начнется. И, действительно, мгновение спустя раздался низкий грубый голос:
– За что ты поднял руку на моего брата, Хепберн?
И из недр своей банды возник Берк Маршалл собственной персоной. Вот и встретились лицом к лицу. Весь поход Берк совался впереди предводителя, пытался оттереть Патрика в сторону всеми правдами-неправдами, на людях объясняя своеволие большей опытностью, за спиной – сквернословя про королевского любимчика. Босуэлл закрывал на это глаза только потому, что Болтон утверждал, что «да, Маршаллы – они, говнюки, такие», но сейчас-то уже не было шанса разойтись мирно.
– За что, я спрашиваю? – громче повторил Берк.
– Он пренебрег моим приказом. Он будет повешен.
– А кто ты таков, Хепберн, чтобы отдавать нам приказы? Чтобы вешать моих людей? Ты не имеешь права…
– Как раз имею. Кроме того, что Хепберн, я – Босуэлл. И это моя земля. И я – Хранитель Марки, Берк, я имею здесь право на все.
– Нет, пацан, это ты так считаешь. Нашим лэрдом не станешь просто потому, что ты тут родился. Или потому, что подмахнул кому надо, там, при дворе. Поэтому засунь-ка свои приказы…
Белокурый чуть приподнял левую бровь:
– Да ну? Версия интересная. Трепаться хватит, вынимай палаш, поглядим, у кого длиннее.
– Стану я еще драться с тобой, щенок! Только добрый клинок марать!
– Станешь. И сперва я убью тебя – за то, что усомнился в моем праве, а после повешу твоего брата – за неподчинение и в назидание прочим. Уж прости, Берк, – ухмыльнулся Белокурый и с особым наслаждением прибавил любимую фразу грозного лорда Финнарта. – Ничего личного.
– За бабу? – удивился Берк. – За дешевую подстилку?! Ты не рехнулся ли, малыш?
– За слово Босуэлла. Ты не поверишь, мне плевать, к чему бы оно не относилось… Берк, вели своим расступиться, пока не поздно, выдай мне Джоба – уйдешь невредим.
– Да ты впрямь чокнутый, Босуэлл! – расхохотался Берк. – Коли тебе нужен Джоб, ступай да возьми его!
Маршаллы подтянулись ближе к своим главарям. Босуэлл в одиночку сделал им шаг навстречу.
– Пат-рик-не-на-до! – одними губами произнес лорд Болтон, чутьем понимая: все бесполезно, это конец. Но вышел вслед за племянником, крепко уперся стопами в землю и положил большие ладони на рукоять палаша – по правую руку от Босуэлла.
Из полутьмы к костровому кругу молча выдвинулся рослый Джон Бинстон и встал у Патрика за спиной – кузен открыто сделал свой выбор и добровольно, безмолвно, как телохранитель, принял на себя защиту главы семьи. Тихо, точно кот, из темного угла скользнул узколицый Роберт Эллиот и занял место по левую руку молодого графа.
Свора Хермитейджа встрепенулась, Бинстонские на шаг перетекли ближе к костровищу. Эллиоты возроптали, но не шелохнулись. Если они пойдут за Патриком, то надежда еще есть, конечно, но…
– Так, – ухмыльнулся Маршалл, – отлично, отлично. Старик, пацан и пидорас – это все, кем ты можешь похвалиться?
В сущности, это была очень глупая смерть для третьего Босуэлла – не войти в соглашение с подельниками по вопросу, насиловать чужих баб или нет. Как будто баба – не обычный военный трофей! Чтобы отвлечься и освободить голову перед боем, Болтон принялся вспоминать последовательно точную численность гарнизонов Хермитейджа, Крайтона и Хейлса. В подсчете он сбился, и это разозлило его еще больше. А четвертым графом Босуэллом станет, по-видимому, бедняга Уилл Ролландстон, потому что они с третьим сейчас полягут рядышком вот ни за полпенни.
– Палаш, – негромко повторил Патрик, – вынимай палаш, Берк, хватит трепаться. Мне не терпится увидеть, какого цвета у тебя потроха…
И сам лениво, не торопясь, потащил клинок из ножен, разминая правую руку, медленно, сочно провернул восьмерку перед собой, а в левой руке его словно из воздуха возникла дага. И вновь с ледяным спокойствием посмотрел на Берка Маршалла.
Тут только Берк понял, что молодой Босуэлл не шутит ни в малой степени. Что это не гонор, не бахвальство, не опьянение прошедшим боем, не внезапный припадок, а совершенно спокойное и неколебимое намерение убить. Их обоих, его и брата. И осознание это, вдруг зашедшее в темный мозг Берка, во-первых, совсем не вязалось с видом мальчишки, стоящего напротив в самой классической позиции, а во-вторых, вовсе не способствовало душевному равновесию. Берк обозлился. С ревом кинулся он вперед, выводя палаш в замах – Болтон и Эллиот с двух сторон почти одновременно метнулись наперехват.
– Всем стоять! Разойдись! – заорал Белокурый. – Он мой!
И началось.
Мгновенно рейдеры освободили свободную площадку для драки. Вчерашние союзники, сейчас противоборствующие стороны поддерживали каждая своего бойца одобрительным ревом и выкликами, а свистом и хохотом сопровождали промахи соперника. Хепберн Болтонский сжимал челюсти до скрежета зубовного, и белели костяшки пальцев, сведенных на рукояти меча, когда в опасной близости от племянника в очередной раз свистел маршалловский палаш, но терпел, терпел, молчал, не двигался с места. Чутьем он понимал, конечно, что после первой же фразы в адрес Джоба отступать уже некуда, что только так третий Босуэлл и сможет завоевать себе место в Приграничье, но очень уж он привязался к племяннику за эти месяцы, и боялся представить теперь, что случится, если… Мать, старая графиня, черная вдова Хепберн, этого точно не переживет. Ведь мальчик так долго был надеждой рода.
Меж тем, надежда рода, отражая удары Берка Маршалла, еще успевал обдумывать, что нужно сделать, чтобы выжить в этой драке. Бок не сильно беспокоил его, но рану не стоило списывать со счетов. Противник – боец опытный, и легкой победы его стиль игры никак не обещал. Но Босуэлла вела ярость, холодная, легкая, пьянящая, как хорошее вино. От пузырьков этой ярости, забродившей в крови, ему дышалось легче, и легче он шел навстречу опасности, без страха, без торопливости. Ярость и ненависть были его вдохновением.
А Маршалл был неприятно удивлен тем, какой опасный противник ему достался в лице Белокурого. Патрик был не слишком опытен в практике, зато превосходно подкован в теории, гибок, увертлив, смел и скор в выборе приемов, и, прежде чем Берк успел как следует разогреться, графская дага дважды попробовала его крови. Ничего особенного, обычные порезы, но они прошли через защиту Берка, и он даже не заметил, как. И на каждый из этих ударов свора Хермитейджа разражалась насмешливым улюлюканьем, и из луженых глоток рвалось под своды зала: «Хепберн! Босуэлл! Иду навстречу!». И Патрик впивал этот рев, питал им свою ярость, несся на его волне… Белокурый уже знал, что делать. Берк был старше и тяжелей на руку, зато Патрик – легче в маневре. Спасение в том, чтоб загнать Маршалла в свой темп и вымотать его – да, несмотря на то, что Патрику самому уже было трудно дышать. Начал болеть бок. Едва он замешкался – и тут же маршалловский палаш проехался по предплечью сухим ожогом. Новая рана не столько обессилила, сколько заставила Белокурого поторопиться. С Берком пора было кончать, Босуэлл, дважды раненый, долго не простоял бы. Защиту Маршалл держал отменно, несмотря на дагу, которую все ж таки периодически пропускал до тела. Значит, надо было его спровоцировать, надо было рискнуть – и Босуэлл рискнул.
Он подставился.
При виде этой ошибки Болтон застонал, Маршаллы торжествующе заорали.
Стремительно пошел Берк на свою малоопытную жертву. Он уже предвкушал звук, с которым железо входит в человеческую плоть, и предсмертный стон, и свое грядущее торжество, но в доли мгновения, которые оставались до соприкосновения меча с грудью Белокурого, ощутил вдруг, как палаш уходит в пустоту. Весь свой вес Берк перенес в острие смертоносного удара, а потому заставить его утратить равновесие было несложно. Он его и утратил – и вместе с ним жизнь.
Он был грузен, почти огромен, этот Берк Маршалл, и Босуэллу стоило немалого труда удерживать его насаженным на лезвии палаша и еще добивать ударами даги – долгие минуты, пока тот не перестал сопротивляться. Только тут, глядя на тушу, распростертую у его ног, Патрик перевел дух. Джон Бинстон лупил кулаком по баклеру от восторга, Робби Эллиот свистел и улюлюкал, дядя Болтон, не стыдясь, вытирал мелкие капли пота со лба и, кажется, слезы с глаз.
– Босуэлл! – грохотало из сотни глоток под сводами башни. – Босуэлл! Иду навстречу!
Он был доволен собой, как школьник, одолевший трудный латинский пассаж. И глубоко благодарен своему учителю фехтования, старому немцу Хаальсу, который вечно твердил: «в бою главное – выжить, неважно как, поэтому бей, бей опять, не останавливайся после точного удара, бей снова, пока у него кишки не вывалятся, но и после этого снова бей!». Так оно сейчас и выглядело: Берк подыхал с развороченным нутром, на левой руке его стоял сапог Босуэлла, а правая была прибита к полу острием меча. Темные от смертной муки глаза Берка остановились на победителе:
– Дьявол! Белокурый дьявол! – наконец выдохнул он.
А дальше не было ни одного разборчивого слова – видимо, он таки отдал Богу то, что называл душой.
Но тотчас воспарить в триумфе у Хепбернов не получилось. Маршаллы, опешившие было от смерти главаря, пришли в себя на призывный вой Джоба и Джеймса, и рванулись вперед, как груда камней с обрыва. Они и не собирались отступать без мести. Патрик еще не успел пережить лихорадку одного боя, как мигом оказался в гуще следующего. Прямо на него мчался, вопя, младший из Маршаллов, а Белокурый не успевал и даги выставить навстречу. Бросающего, тем паче – самого броска, он не видел, но в пяти шагах от графа Джеймс рухнул замертво от метательного ножа, торчащего в левой глазнице. Вслед за тем длинный резкий свист Робби Эллиота стал сигналом к атаке, и его люди азартно кинулись на Маршаллов. Внезапно Патрик обнаружил себя снова отмахивающимся от десятка рук, тыкающих в него разнообразным железом. Но уже мгновение спустя волна откатилась, и вокруг него собралась свора Хермитейджа, тесным кольцом окружившая своего лэрда. Вдобавок поднажали Бинстонские и рубились уже впереди, догоняя быстроногих Эллиотов. Патрику уже не было нужды вести бой самому, он мог только рассеянно озираться в поисках противника, но кругом были только свои. Вдруг ему на плечи сзади легли ладони Йана МакГиллана:
– Ваша милость… пойдемте? Вы уж все, что нужно, сделали…
И тут только великий боец, грозный граф Босуэлл ощутил, что у него подгибаются ноги и дрожат колени – от слабости.
Маршаллы бежали, но именно это и не устроило Белокурого, когда он чуть пришел в себя, хлебнул дядиной отравы из фляги, и вновь отдался в руки Йана на перелицовку и штопку ран. Бежали, самовольно ушли, хотя приказа к отходу им не было. Маршаллов следовало либо поглотить, либо уничтожить. Лучше бы поглотить, конечно. Но если они добровольно не явятся за его милостью, то останутся живым свидетельством неповиновения, сомнения в непреложности его власти…
– Эллиот! – после того, как Роб пришел под штандарт Белой лошади, Патрик ни разу не назвал его «леди», ни в лицо, ни за глаза, и за это, больше, чем за все остальное, больше даже, чем за его ангельскую красу, был благодарен ему Роберт, сильно уставший от пещерных шуточек своих тупоголовых братьев.
– Да, мой лэрд…
– Сделаешь? Пошли гонца сказать им – я не буду мстить, если вернутся. Если же нет, то им не жить.
– Я понял, лэрд. Насколько не жить?
Долгую минуту смотрел молодой Босуэлл выше головы своего капитана и молчал, потом произнес:
– Если нагонишь в дороге – известно насколько, а если уже на подворье… всех старше двенадцати лет. Но не старше семидесяти.
– Я понял, лэрд, – эхом отозвался Робби и исчез.
Ну вот, он сказал эти слова. От двенадцати до семидесяти. Это не по колено в крови, мои дорогие, это плыть и захлебнуться, как в Тайне, так, чтобы и русалки не нашли, глубоко. И неважно, что все будет сделано руками Эллиота. Это такое крещение в Лиддесдейле – не выкупавшись, не войдешь. И он вошел, и с теми пацанами старше двенадцати лет погиб и двенадцатилетний парнишка из сада старого приора в Сент-Эндрюсе, сирота, плакавший от одиночества в часовне возле гроба своего прадеда… Тем же вечером Патрик первый раз за все время своего пребывания в Приграничье напился так, что проблевал полночи. Но это не помогло ни забыться, ни забыть. Эллиота он ни о чем не расспрашивал – Маршаллы не вернулись.
После дела Армстронгов и Маршаллов о Патрике пошла первая слава в Приграничье, своеобразная, но красочная. Говорили, что молодой Босуэлл бешеный совершенно, ни своих, ни чужих людей не щадит, в расход пускает по первой прихоти. Говорили, что Берка Маршалла он уложил за два удара с левой руки, будучи уже тяжело изранен в предыдущей схватке. Говорили также, что, вырезав мужчин Армстронгов, он галантно избавил от насилия всех женщин их дома вплоть до последней судомойки. Это не могло не красить его репутации, особенно с учетом того, что сам Белокурый и понятия не имел, выжила ли та несчастная девочка, которая послужила причиной смерти и Берка, и Джоба – он забыл о ней тут же. Босуэлл очень удачно выбрал жертв для первого подвига в своей карьере – даже в Лиддесдейле Маршаллов не любили и боялись, и скучать о братьях никто не стал. В те поры в Долине сложили балладу о восьмидесяти стихах, о том, как истекающий кровью Белокурый бился с Берком за честь своего слова – и победил. Патрик с глубоким интересом выслушал ее как-то от захожего певца. Конечно, по сюжету, девица Армстронг полюбила своего избавителя без памяти, и они с Белокурым жили в сердечном согласии счастливо, но недолго, так как за любовь к кровнику ее утопили в Лидделе двоюродные конченые Армстронги. Но это только потому, что ни одна песня о любви в Приграничье не заканчивается счастливым финалом. С балладой или без нее, а до ближних и дальних соседей внезапно дошло, что в Караульне Лиддела появился настоящий хозяин, лэрд, под чьей рукой смиряется даже свора Хермитейджа.
Он быстро оставил покаянное пьянство, не терзался, не купил мессу о погибших, не ходил к исповеди – да и к кому было ходить к исповеди тут, в Хермитейдже, где замковый капеллан отдал Богу исстрадавшуюся душу еще во времена железного Джона? И уж точно, он не стал бы исповедоваться самому Брихину, который, Патрик смутно чуял, просто поздравил бы его со вхождением в должность, с подлинным воплощением. Там, в Сент-Эндрюсе, четырнадцатилетним, ему случалось направлять на казнь преступников – не часто, не редко, как повернется жизнь, и это было просто частью той самой жизни, и осуществлялось замковым экзекутором либо городским палачом, и ему доводилось присутствовать на людях в момент вешания, членения, вырывания кишок – для надлежащего укрепления благородного духа, как с усмешкой говаривал епископ Брихин, и чтобы видеть итог дела рук своих. Епископ настаивал на лицезрении казней затем, чтобы у графа Босуэлла впредь не возникало соблазна дать волю злобе или предвзятому мнению – чтобы знал, как пахнет моча, брызжущая у повешенных, какого цвета человеческие потроха и сколько стоит ошибка судьи… Но графу Босуэллу прежде не приходилось отдавать приказ к резне возмездия, за неподчинение и в назидание прочим, прежде не приходилось убивать самому, а не только – подписью и печатью, очень издалека, находясь в почетной ложе приора Сент-Эндрюса. Убийство с помощью закона и порядка, собственно, убийством не является вовсе. Убийство в бою – естественное право и необходимость. Но вот эта резня… при всех душевных метаниях Белокурого, удивительно было, как развязало ему руки истребление Маршаллов. Как если бы в самом деле какая-то часть его, омертвев, утратила способность сострадать. Он ощутил власть, он ощутил свежую кровь – едва ли не на своих губах – и подобострастное внимание к нему соседей в Долине. С необычайной помпой прибыл к Белокурому лорд Робин Эллиот, Воронья Скала, старый толстый пройдоха, и подписал бонд, и многократно превозносил хитрость и силу, смелость и сообразительность, а в первую очередь – твердость духа лэрда Лиддесдейла. С таким-то хозяином, ясное дело, Долина наконец обретет покой и довольство! Двусмысленным визитом почтил Босуэлла сам Уот Вне-Закона, пропировал сутки, получил ответным жестом двух служанок в постель, и не было понятно по репликам его и взглядам, то ли Уот восхищен дерзостью молодого графа, то ли раздражен его непреклонной волей. После пролития Босуэллом первой крови Уолтер Скотт тут же принялся вести себя с ним обаятельно, но по-свойски, так, словно, вступив в blood feud с семьями Армстронг и Маршалл, граф совершил нечто должное, почетное, всеми уважаемое и безусловно приличное должности Хранителя. Словно десятки трупов в первый же карательный рейд возвысили неоперившегося юнца до побратимства с ним, самим Грешником Уотом. Холодный и скупой на слова, Босуэллу прислал уверения в глубоком почтении, с прямым намеком на избыток девиц на выданье в семье Керр, бывший Хранитель Марки сэр Эндрю Керр Фернихёрст… «однако тем вы наверняка содеяли себе изрядное число неприятелей», писал он о разорении Блеквуда. И это кружило голову, ох, как кружило – и неприятели, и почтение, а особенно раздражение Грешника Уота. Белокурому было всего семнадцать, когда о нем заговорили, как о достойном преемнике славы Сулисов и Дугласов в Хермитейдже, и был ли это тот случай, когда место само кует себе господина? Никому неведомо. Патрик все же поклялся себе пойти под покаяние при первом же визите в земли, более христианские, нежели Караульня Лиддела, или, положим, просто посетить святые места Мидлотиана… аббатство в Джедбурге, или съездить в Келсо… где-нибудь через пару-тройку дней, когда завершится очередной шквал октябрьского ливня.
А мирные дни тем временем проходили за родственным чревоугодием и выпивкой с Болтоном, охотой и – разговорами. Охота выдавалась нечасто, ибо погода не радовала, и тезки днями напролет просиживали в Южной башне, в покоях лэрда, где Йан МакГиллан, склоняясь над массивным дубовым столом, потемневшим за десятки лет и десятки хозяев, раз за разом наполнял тускло сияющие в свете свечей тяжелые серебряные кубки… В пасти пылающего камина на мельчайшие красноватые брызги распадались головни и куски торфа, струи ледяного дождя хлестали в плотно затворенные ставни. Любимая гончая Болтона, вывалив узкий розовый язык, носом толкала графа под локоть, требуя подачки, и, не глядя на собаку, Босуэлл отправлял телячьи кости под стол. Лорд Болтон, хмелея, все более веселясь, оглаживал бороду, щурил насмешливо темные глаза, отпускал племяннику то тумак кулаком в плечо, то одобрительное похлопывание по спине – как собутыльнику, не как собственному лэрду. Болтонские байки о днях минувших от рассказов железного Джона отличались куда меньшей серьезностью и обилием любопытных деталей. Патрик сроду не слыхивал столько телесных подробностей из жизни достойных предков. До сего момента они в большой степени представлялись ему фигурами летописи и геральдическими святынями.
– Дед наш был молоток, хотя и папенька не промах. А прадед, ну, это мне он прадед, а тебе так прапрадед будет – первый лорд Хейлс который и шериф Бервикшира, тот, понимаешь, хозяйничал в Данбаре, как раз когда в замке жила вдовая королева Джоан Бофор, ну и ходили слухи, что они не Библию читали вместе-то… Бойкий был, не то слово… в тыща четыреста пятьдесят третьем уже в Парламенте заседал. Несколько раз мир с южанами заключал на границе и честью-имуществом клялся за его достоверность. Имущества там, правда, было еще не Бог весть сколько. А дед наш, Адам – он был ему старший сын. Уж не знаю, как дед пробился в королевские конюшие – даже лордом не был, так, мастер Хейлс, вечный наследник, навроде меня. Видать, за мощность легких, не иначе… Орал так – от его голоса боевые жеребцы приседали, как кутята, лепехи откладывали. Лютый, что волк голодный, и характера мерзкого. Я сам-то его не видал, он до моего рождения помер, а это мне матушка рассказывала, хотя и ее в добром-то нраве никак не обвинишь. Но кой-что, видать, было у него, как у всех Хепбернов, за который предмет девкам любо подержаться – когда Джеймса Второго, как дурака, пушкой пришибло насмерть, королева-регентша Мария Гелдернская, бургундская штучка, быстро сообразила, с кем прилечь. Суровый был мужчина, вместе с отцом они вдвоем держали замок Бервик против Ричарда Йорка, герцога Глостера, который еще потом королем английским стал. Хепберны последние были хранители и капитаны Бервика, до того, как он сассенахам отошел. Но помер Адам рано, вроде и полувека не протянул, а это в нашем роду редкость. Вон братец-то его младший, старый Джон, приор Сент-Эндрюса, сколько небо коптил… или так не говорят про священников, а? В общем, коли старого Джона не забыл, можешь представить, что за стервец был твой прямой прадед Адам по натуре. Сам темный, глаза светлые… у первого графа Босуэлла, его сына, моего отца и деда твоего, та же масть была и нрав тот же лютый.
И этот припев «спал с королевой» постоянно присутствовал почти во всякой истории о вожаках фамилии Хепберн.
– А правда, что дед… – Патрик помедлил, выбирая слова.
– Про то, как убили Джеймса Третьего? – спокойно перехватил разговор Болтон. – Того мне не ведомо. Сам понимаешь, я и помыслить не мог его о чем-то таком спросить. Но поговаривали разное, особенно после того, как новый король ему кинул это лорд-адмиральство… Что до того, как я об этом думаю… он-то? Он мог. Тебе маленький Джон про нашего отца рассказывал что-нибудь?
Патрик, уставясь в огонь камина, находился сейчас довольно далеко от Хермитейджа. Одно имя старого Джона Хепберна разом отправило его на шесть лет назад, в зеленый двор древнего замка Сент-Эндрюс, где граф-мальчишка и ехидный епископ обменивались ядовитыми любезностями и ударами палаша под говор волн северного моря. Он почти ощутил боль в подвернутой щиколотке. Шрам на скуле, летящие тени яблоневой листвы на суровом лице растянувшегося в траве молодого, но железного Джона, на лице, так успешно приученном казаться забралом шлема. «Ваш отец встал тогда между нами… поэтому я остался в живых».
– Скажем так, кое-что, – отвечал Босуэлл Болтону. – Мало рассказывал.
Лорд Болтон хмыкнул весьма многозначительно:
– Не удивлен. Отца, было, хлебом не корми, дай над Джонни поизмываться. Раз Адам не утерпел, встрял в эту трепку, сам за него получил отменно, но иначе зашиб бы младшего отец насмерть. Главное, ведь не за что было… кроме его лица и норова. Джон – последыш, родился аккурат когда отец вернулся из французского посольства… и что ему по дороге домой в голову вступило, уж мне неизвестно, а только, видно, он не то о нашей матери надумал. А Джон рос – да и сейчас такой – ни разу ни Хепберн. Гордон он, рыжий, сероглазый Гордон, в дядьку, третьего графа Хантли. Ты видал старика?
– Не приходилось.
– Ну, нынешний-то, внучок его, Джордж, четвертый Хантли, на него не похож вовсе, так что и не сравнишь. Короче говоря, я про что… первому графу Босуэллу родного сына зашибить за бредовую свою мысль было – плевое дело, а ты говоришь – король! Он сделал ставку на принца, а чтоб кости легли, надо было только стаканчик тряхнуть, верно ведь? Горцы стояли за короля, равнины и граница – за принца. А псов злее Хепбернов ты на границе еще поди-поищи. Кто говорит, монах после боя проник к плененному королю, кто говорит – неизвестный рыцарь… новый-то король остаток дней власяницу носил, за вероятное свое пособничество в отцеубийстве, так на Флодден в ней и пошел, в ней и лег. Наш папенька, правду сказать, на себе вериг не таскал и в покаянии ином также замечен не был. Оттого ли, что виновен или безвинен – кто теперь разберет, кроме чертей в преисподней?
И Болтон, любимчик покойного лорда-адмирала, употребил для описания его посмертной судьбы ровно то же выражение, что и ненавидимый младший сын Брихин.
– Но почета ему отвалили по самое горло, с лихвой, – продолжал Болтон свои россказни. – В Англию ездил за королевской невестой, сам женился на ней по доверенности, брак подтверждал…
– Это как? – очень удивился Босуэлл. – Подтверждал королевский брак за короля?!
– Ну да. После мессы, после пира, сопроводили его в присутствии прочих благородных господ в спальню Маргариты, она уже в подушках сидит, в чепце, в кружевах, как положено, этакая роза Тюдоров. А граф поцеловал ей руку, как государыне, а затем поставил ногу на край постели… вот уж белье ей заляпал, надо полагать, – Болтон хохотнул, – это и было знаком совершившегося брака. Как если бы король ее познал уже…
– А что такое потом-то вышло промеж них с Маргаритой? Ее аж перекосило, когда она имя Босуэлла услыхала в Стерлинге этой весной… – лицо старой королевы очень ярко предстало в памяти Белокурого.
– Ну, – дядя помотал косматой головой. – Про это я не знаю ничего вообще. Ей двенадцать всего было… вряд ли. Одно знаю, королева Маргарита Тюдор первого графа Босуэлла до конца дней его ненавидела.
– Да, это я заметил…
– Есть мнение, что это ее идея была – вернуть Адаму отцово наследие и все титулы только после того, как он на Агнесс Стюарт женится… и подтвердит брак. Но не так, чтоб на постели постоять, а по мужской части.
– Это еще почему?
Болтон был пьян, и красноватые огоньки, отсвет камина, бежали в его глазах, иначе не сорвалось бы с языка:
– Так нужно было срочно сбыть с рук последнюю страсть короля… ясное дело! А Адам, как дурень последний, влюбился в нее.
Но, как бы ни был пьян, тут же понял, что сказал лишнее, потому что в комнате стало совсем темно. Босуэлл, встав из-за стола, теперь возвышался над дядей весьма угрожающе, и только смотрел на него, только смотрел. Болтону сразу сделалось и трезво в голове, и очень неуютно в покоях лэрда. Хоть и был племянник моложе в два раза и легче в теле, а роста-то они были одного, и от высоченного Босуэлла в этот миг пахнуло такой ледяной угрозой… Лучше бы граф орал, что ли, как это вообще принято у Хепбернов, тоскливо подумал Болтон. Вот это молчание было пострашнее прямого крика и рукоприкладства. Так прошло несколько мгновений.
– Дядя, вы моей личной печатью за малолетство-то поиграли вдоволь, – наконец сказал молодой граф с улыбкой, которая не сулила собеседнику ничего доброго и меняла красивое лицо Босуэлла вплоть до неприятности, – я ведь не спрашиваю, откуда что взялось и у тебя, и у Ролландстона, не так ли? Могу спросить. У меня, дядя, натура дедова, на родственные чувства слабовата…
Вот кто, спрашивается, тянул его за болтливый язык по пьяни? И свечку не держал ведь, а только повторил желчный навет своей матери, и разве есть ему дело, по правде, лежала ли с покойным королем лучезарная Агнесс, рыжая сучка, теперь, когда брата семнадцать лет нет в живых, когда брат, живой, закрывал на это глаза? От любви или от свойственной всем Хепбернам прагматичности, кто разберет. А вот теперь зато поставил под угрозу и свою дальнейшую судьбу, а не только пребывание в Караульне. Ведь нависающий над ним Босуэлл, пусть умом и опытом – мальчишка, а по совести и по присяге – полновластный лэрд и господин его, Патрика Хепберна, мастера Хейлса. Живо тут окажешься до конца дней своих в Болтоне: вечно болящие, дунь и свалятся, Джен и Патрик-младший, и эта, желтая от сезонных лихорадок, как ее… Кэтрин, вторая его бесплодная супруга – припомнил он с тоской. Шерифство в Хаддингтоне, мелкие дрязги фермеров – это после Хермитейджа-то… И хорошо, если окажешься в Болтоне, а не где еще! Поместье было ему пожаловано как раз опекунским советом, и Босуэлл в самом деле мог отозвать его обратно, ибо дарственные грамоты так и не были подписаны графом.
– Виноват, – процедил Болтон сквозь зубы, уважая племянника за жестокость удара, деньгами-то посильнее будет, чем кулаком, – ваша светлость… во хмелю…
– Так поди проспись, мастер Хейлс, – холодно отвечал граф, жестом отпуская родственника.
Не сказать, чтобы лорд Болтон сделал это совсем без умысла. Уж что-что, а какая-нибудь идея у старшего дяди всегда присутствовала в голове. Была ли это целесообразность, справедливое возмездие преступнику или обычная месть ему, графу, за пережитое унижение… Белокурому пришло то на ум много позже, а не когда он встречал из рейда своего дядю-капитана, вернувшегося не в одиночку. Поперек крупа галлоуэя, шедшего следом за жеребцом Патрика Болтона, было грубо приторочено человеческое тело, с мешком на голове и веревкой на запястьях. Живой, определил Белокурый, когда мешок сдернули, и показалось бессознательное, темное от прилива крови лицо – черты довольно грубые, хотя и со следами благородной породы.
– Удачно? – спросил Босуэлл Болтона, рассматривая улов.
– Как видишь, – отвечал тот, кивнув на пленника. – Догнал их миль за двадцать уже от фермы… хорошо, что успел. А это сам Эдди Додд Бастард собственной персоной…
Старший дядя уходил в погоню за сассенахскими контрабандистами, а вернулся с болтающимся поперек седла одним из знаменитых убийц Западной английской Марки. Белокурый не мог взять его уже две недели, раздраженный тем, что англичанину давали приют и сами шотландцы, те из них, кто собирался натравить его на соседей… Патрик потянулся, зевнул… мозглый, сонный осенний день, в который за лучшее почтешь валяться на медвежьей шкуре возле камина, дремать в тепле со старой латинской книжкой у изголовья. И спросил равнодушно:
– Почему ты не вздернул его?
Как правая рука и доверенное лицо Хранителя Марки, дядя имел на это полное право, взяв Бастарда с поличным.
– Вздерну… – Болтон пожал плечами, – потом, может быть. Сперва у меня есть на него планы.
– Выкуп?
– Нет. Палач.
Повисло молчание.
Молодой граф смотрел на дядю, не вполне понимая. Ему не доводилось ни присутствовать при пытке – близко, возле палача – ни, тем более, прикладывать руку самому… Первый раз он споткнулся в Хермитейдже об это слово, обычно-то противник нес ущерб в рейде, на месте, и никто не утомлялся для дальнейшего развлечения волочь с собой пленных англичан. И сейчас он не видел в этом резона, и потому спросил:
– Зачем?
– Южанам для острастки и по справедливости. Он зарубил всю семью с нижнего луга, Никсонов, запалил дом. Мать, отца, пятерых ребят. Тринадцатилетнюю Бетси изнасиловал, потом отрезал груди, – хладнокровно перечислял Болтон, чутко следя, как племянник меняется в лице, – а свежие раны прижигал раскаленным железом… кожу на спине пустил на ремни…
Граф Босуэлл сухим глотком согнал тошнотный комок в горле. От его расслабленного равнодушия и следа не осталось. Желудок бунтовал, мозг, правда, тоже… Он побледнел, только глаза ярко выделялись на лице, которое теперь утратило взрослую неприступность хозяина дома, главы рода, и казалось почти детским.
– Зачем?! – медленно спросил опять Белокурый, но дядя понял его.
«Ого… – отметил про себя Болтон. – А ведь он, и правда – совсем мальчишка, ему в самом деле только семнадцать, и у него не было такой юности, как моя, старый Джон берег его, и даже в город из замка погулять на шелковой ленточке отпускал, как леди – драгоценного кречета. А наш-то младший… что он ему рассказывал между теологией и латынью?»… Но именно с целью обучения племянника последнему закону возмездия он привез в Хермитейдж пойманного ублюдка. А немного еще – затем, чтобы Патрик не кичился своей взрослой властью, полагая, что всего один придворный заговор уже сделал его душевно неуязвимым.
– Спроси его об этом сам. Это сассенахи, вот и все. Среди наших тоже есть подонки, те же Армстронги или Керры, но южаки – наша погибель. Я не говорю, что ты должен участвовать, Патрик, но знать это ты должен… может, и пригодится. Некоторые предпочитают такое всем иным удовольствиям, но Адаму, к примеру, не нравилось.
Белокурый молчал, по-прежнему уставясь на пленного. Бастард Додд пошевелился и дернул разбитой головой, начиная приходить в себя. Мелкий липкий дождь падал на его опухшее от побоев лицо. Усилием воли Патрик подавил в себе позыв отшатнуться от убийцы с омерзением – все большим не столько от того, что тот, в путах, словно свинья, обречен на бойню, не от жестокости его преступлений, отвратительной самой по себе, но от почти телесного ощущения пыточных инструментов, готовящихся вонзиться в одутловатую тушу. Час спустя ублюдок, задыхаясь, уже станет молить о смерти. И ведь Болтон, прожженный хитрец, подловил его – граф не мог теперь, на глазах у всех, просто заколоть Бастарда, после его объявленных вин, не мог и оставить в живых до суда на Дне перемирия, потому что при первых же словах Болтона поднялся одобрительный гул среди рейдеров – наперебой требовали казни Додда… ему осталось только сделать вид, что дядя не сказал ничего особенного, что дело идет своим чередом.
– Эй, там! – заорал Болтон в сторону конюшен. – Кривого Катберта ко мне, живо, да пару-тройку дюжих ребят! Тащите его в холодную…
Спешился, положил руку на плечо Босуэллу, ощутил, как графа передернуло от этого дружеского жеста, внутренне усмехнулся – не без злорадства, что уж.
– И следи за своим лицом, парень, – негромко посоветовал он племяннику, когда они отправились вниз, в темницу. – Обычно-то тебе это удается, но вот сейчас ни к чему оставлять книгу открытой…
За почти четыре месяца в Хермитейдже Белокурый первый раз спускался так глубоко, в самое брюхо Караульни, в подпол Северной Башни, в тот личный, неугасимый ад, который и обеспечил замку большую часть его черной славы. Неудивительно, что про Уильяма де Сулиса, первого знаменитого хозяина, ходили такие легенды – чтобы выстроить эти стены подвалов и темниц, до десяти футов в толщину, откуда ни звука не просочится в спокойный, жилой мир, надо было в самом деле обладать сердцем чернейшим, лютым. Здесь можно замучить легион пленников, а в холле наверху за воплем волынок никто и случайно не различит вопля страдания. Ступени лестницы – широкие, покатые, стертые, просели под ногами десятков людей, сошедших сюда, чтобы никогда больше не увидеть дневного света. Босуэлл, отрешенно следуя за дядей, вдруг поймал себя на том, что краем уха пытается поймать в звуке их собственных шагов грохот железных, подкованных дьяволом башмаков сулисовского гоблина, Красного Колпака… и криво усмехнулся. До коего дня, помилуй Бог, станут жить в его памяти сказки и бредни Йана МакГиллана, выслушанные когда-то в глубоком детстве, возле камина в большом холле замка Сент-Эндрюс, в блаженную пору безгрешности?
Они спускались узкой штольней лестницы прямо на пятно багрового цвета – на огонь уже разогретой жаровни, догадался Патрик. Там поджидали их брошенный в угол камеры Додд, трое молчаливых конюхов и кривой Катберт. Патрик знал о нем мало, и только теперь понял, отчего этот высокий человек с длинным бледным лицом, с худыми жилистыми руками, испещренными следами шрамов, всегда ел только в кухне, спал в отдельной клетушке, мало шутил, а говорил еще меньше. До сей поры он считал Катберта замковым костоправом – ибо не было вывихнутого плеча, которое тот своими чуткими пальцами не умел бы поставить на место, и если левый глаз его косил, придавая лицу нечто бесоватое, то правый горел ироничной искрой, сверля пациента за двоих. Что ж, тот, кто знает переплетения жил и форму хрящей так хорошо, что может снимать боль, превосходно сумеет также сделать эту боль поистине нестерпимой…
Ушат помойной воды обрушился на Бастарда Додда, он заворочался, застонал и сделал попытку сесть. Один глаз его заплыл кровью, второй, прищурясь, уставился на огромную черную фигуру старшего Хепберна, возвышающуюся над ним.
– Ты! – сказал Додд с глубокой, спокойной ненавистью узнавания и сплюнул тому под ноги. – Ты, Болтон…
– Я, – согласился лорд Болтон не менее спокойно. – Добро пожаловать в Хермитейдж-Касл. Эдди Додд, именуемый Додд-Ублюдок, ты взят за убийства и грабеж на землях Средней Марки королевства Шотландия. Ты умрешь завтра… или сегодня, если граф Босуэлл, Хранитель Марки, помилует тебя быстрой смертью.
Граф Босуэлл стоял в самом темном углу, привалившись спиной к стене, и ничем не обнаруживал своего присутствия. И по спине его от старых камней или от слов дяди бежал холодок.
– Если можешь – молись, – продолжал Болтон, – я дам тебе время умиротворить душу, однако у нас нет капеллана для исповеди. Я все сказал. Желаешь покаяться за содеянное – говори.
– Да пошел ты, – отвечал Додд с редким самообладанием. – Не мне каяться перед шотландскими свиньями. Я резал вас всласть десять лет, и буду резать еще – потому что ребята меня не бросят, по камушку растащат этот ваш сарай. И клал я на твоего графа…
Катберт молча перехватил Додда за горло – тот захрипел и закашлялся, а потом и заорал, потому что палач молниеносно снял ножом с его языка полоску кожи, и кровь побежала из искривленного болью рта.
– Напрасно, – заметил Болтон, – напрасно ты отказался от милости нашего господина. Парни, вяжите-ка его к «исповеднику»!
«Исповедник» был обычным креслом из крепкого дуба, тяжело срубленным, обитым железом, открывавшим для палача свободный доступ ко всем членам привязанного к нему обреченного. Кроме того, под седалищем можно было развести огонь для поджаривания…
– И – тиски для больших пальцев! – продолжил старший Хепберн.
Похоже, ему даже не было нужды в услугах кривого палача, сказал себе Белокурый, и без Катберта знает, куда нажать. Он не вмешивался и по-прежнему молчал, дав дяде полную волю в черной работе. А тот действовал хладнокровно, без удовольствия, но и без брезгливости, словно нет ничего, более обычного, чем каленое железо, шипящее глубоко в человеческом теле.
– Огня! – приказал Болтон, и Катберт вновь вложил ему в руку раскаленный прут.
Крики, которые неслись с «исповедника», терзали слух, но не вызывали жалости. И не были Белокурому в новинку – он слыхал подобное на публичных казнях в Сент-Эндрюсе, хотя тогда уже, двенадцатилетним, по возможности предпочитал, чтобы его особу представляли либо епископ Брихин, либо чиновники приората. Но теперь это происходило близко, возле самых глаз, возле ноздрей, куда бросался смрад паленого, острый запах мочи, сладковатый – пролитой крови. И то, что происходило, пока что было обычной местью, око за око, и мало имело общего с правосудием. «Спроси его об этом сам». Белокурый остановил Болтона еле слышным приказанием…
– Зачем ты убил девочку столь зверообразно?
Явление Патрика из-за спины Болтона произвело на Додда самое странное впечатление – он перестал орать и осклабился разорванным ртом. Босуэлл, одетый в черное, не произнесший ни звука до сей поры, обладал внешностью, которая разом обеляла в человеческом сознании всё – вроде того, что не может юноша с лицом архангела, светлыми райскими кудрями, ясным взглядом споспешествовать дурному, злобному, губительному. И это было ошибкой, потому что последнее, что зачастую видели эти люди – облик прекрасной, но неумолимой смерти. И еще Додда сбил с толку этот чистый английский выговор.
– Ты кто? – спросил он Босуэлла, еле ворочая разрезанным языком, речь его была едва внятна. – Ты – дьявол, что ли, что тебе это надобно знать? Она согласилась лечь со мной, эта маленькая шлюшка, чтоб мы не трогали мать и младенца, а потом, как увидала, что мои парни вспороли брюхо и старой ведьме, и щенку, тоже стала орать и царапаться. Очень уж потешно она вопила, когда я ее таранил, а потом – под моим ножом… – и он захихикал, отплевываясь кровью.
– Ты в самом деле хотел услышать от него этот ответ? – уточнил Болтон у племянника, глаза которого в полутьме камеры блестели лихорадочно, почти болезненно. – Пожалуй, отрежем ему язык, все равно он больше не понадобится… или ваша светлость желает спросить еще что-нибудь?
Босуэлл молча покачал головой. Слова Додда что-то всколыхнули в нем, как если бы он прозрел, и уж точно перестал считать пленника за человека, за Божью душу, достойную справедливого суда. А если нет души, оставалась только бешеная, больная плоть животного, исцелить которую невозможно.
– Оскопите его, – произнес граф и улыбнулся. – И скормите его потроха собакам…
Тут уж поневоле изумился Болтон – он не ждал столь быстрой метаморфозы. Было в минутном преображении Патрика что-то от деда, первого Босуэлла, что-то такое мелькнуло во взгляде, в жесте, что не умом, но сызмала битым хребтом внезапно опознал Болтон. И первый раз подумал, что мальчик на деле не так уж мил, как кажется.
– Нет, Катберт, не сейчас… – остановил палача Белокурый, – вначале – все, что укажет лорд Болтон, он в деле смыслит больше моего… но пусть Бастард ждет этого все два дня. Пусть он мечтает об этом. И даже три дня, пожалуй, если протянет.
Это кровь, подумал с уважением Патрик Болтон. Джон Брихин лучше всех из родни знал своего воспитанника, когда убеждал старшего брата не спешить, дать время, пустить все своим чередом. Эдди Додд, извиваясь от новой нестерпимой боли, вопил на «исповеднике», осыпая Болтона и Босуэлла градом изощренных проклятий.
Патрик Болтон поморщился:
– А язык все-таки отрежь ему, Катберт… раздражает.
А потом была пытка водой, каленое железо, те самые ремни из спины, и кол – на него спустя несколько часов взгромоздили то, что еще оставалось от Эдди Додда, Бастарда. Лорд Болтон умело руководил процессом, поворачиваясь к племяннику при каждом новом примененном приеме:
– Смотри. Ты, конечно, подлежишь только суду пэров королевства и обезглавливанию, но… всякое может статься. Вот от такого сознаешься через пять минут в чем угодно… а после теряешь рассудок, если еще удержал его при себе до той поры.
Это было необходимое напутствие. И Белокурый смотрел, смотрел, смотрел. Он перестал уже воспринимать звуки, наполнявшие камеру, как исторгнутые из человеческого рта, ибо, безусловно, кусок истерзанной плоти, корчащейся на жаровне, человеком более не являлся ни с какой точки зрения. Катберт, подлинный знаток во всем, что касалось боли и смерти, несколько раз подводил пленника к той грани, за которой было близко желанное освобождение, но всякий раз возвращал обратно, приводя в чувство или давая передохнуть. Удивительная штука, как сильно в нас стремление жить, отстраненно думал Патрик, и если бы можно было умом прекратить это сопротивление тела, перестать страдать по своей воле, отпустить душу… «Смотри!» – твердил Болтон, отдирая кусок кожи клещами. – «Это только кажется, что уже ничего не чувствуешь, просто одуреваешь от боли так, что можешь сдохнуть – и не заметишь… Пригодится, если не на себе, так на ком еще». Самообладание Босуэлла сдало, только когда Катберт стал деловито вскрывать Додду брюхо, вытаскивая внутренности. Хорошо, что некому было это видеть, кроме Болтона и палача – молодой граф побелел, как полотно, на ногах удержался, но еле добрался до коридора… там его и вывернуло, в углу, до кишок, на трезвую голову, то есть, еще хуже, чем после резни Маршаллов.
– Да кончите его уже скорее! – прохрипел он, когда Болтон вышел из камеры проведать племянника, в дверь долетал звериный вой и отчетливый запах паленого мяса. – Хватит, развлеклись…
– Повесим на стене, – хладнокровно отвечал Патрик-старший, – чтобы люди видели твое правосудие.
– Мое?! – граф захохотал, вытирая лицо, таким странным смехом, что Болтон понял, у того обычная истерика. – Мое правосудие, дядя? Это вот ты сейчас моими руками его по свежему каленым прижигал?!
– После присяги, – еще более спокойно отвечал лорд Болтон, – все в Долине делается твоим именем, Патрик. Неважно, кто из твоих людей приложит руку… и к этому тебе тоже нужно привыкнуть, ваша светлость.
И снял флягу с пояса:
– Глотни-ка и перестань ржать… ну, пей, кому говорю!
Босуэлл приложился к виски, затих, помотал головой, чувствуя, как мутнеет сознание… и вернулся в камеру вслед за Болтоном.
Останки Додда, подвешенные на крючьях на западной стене Караульни, смердели довольно долго и служили пищей воронам, пока их не сбросили в помойную яму под Холмом Дамы. А в Хермитейдж тянулись уже люди с жалобами – на соседей, на сассенахов, на жалкий свой жребий. То, о чем он думал в Эдинбурге, собираясь сюда – закон и порядок, и забота лэрда о своих присных. Черная кожаная книга Джибберта Ноблса разваливалась от количества слезниц… каждую пятницу, как заведено было еще во времена его приорства в Сент-Эндрюсе, Патрик Хепберн Босуэлл, лэрд Лиддесдейл, вершил справедливый суд.
– Корову, мой лэрд, он у меня увел…
– Присяжные есть? Кто поручится за тебя?
– Мельник Робин Рой да старый Сим Эллиот.
– Добро. Они люди честные, я слыхал. Если к следующему воскресному дню не выплатит тебе Джон за корову по честной цене, получит десять плетей. Что дальше, мастер Ноблс?
– Старая Энни Кроу, милорд. Она совсем плоха умом, ее уже трижды находили в лесу далеко от дома, ее участок в полном запустении.
– Есть у нее родные?
– Женатый внучатый племянник, милорд, Эндрю Робсон.
– Эндрю Робсон, ты здесь? Подойди-ка. Ты получаешь землю и дом помянутой вдовы Кроу, ввиду ее недостачи по памяти и уму, в полное владение, и за то обязан перед Богом и людьми содержать ее в тепле, сытости и заботе до самой ее смерти. Ты дашь ей место у очага в ее доме, еду, какую ешь сам, и две перемены платья в год, а сверх того – что скажет твоя совесть. Если вдову Кроу еще раз найдут в зимнем лесу в беспамятстве, получишь пятнадцать плетей. Ноблс?
– Утопление младенца, милорд. Девица Тейт утверждает, что была в браке по обычаю с Джоком Рутерфордом, однако у нее нет свидетелей. Зато есть свидетели того, как она отнесла новорожденного к реке, опасаясь гнева родных.
– Джок Рутерфорд, был ли ты женат на Эуфимии Тейт? Давал ли ты клятву ей – у церковных врат или на паперти, в саду, на королевской дороге, на мельнице, под ясенем, в поле или в ином месте – что намерен взять ее женой хотя бы и по обряду? Отвечай истинно, ибо я не люблю обмана.
– Нет, ваша милость.
– Он лжет, ваша милость, лжет, и душа его черна, как те котлы в аду, где его сварят за наше невинное дитя!
– Молчи, женщина… ты получишь пятнадцать плетей и отправишься в монастырь кларетинок под то покаяние, какое даст тебе мать-аббатиса. Семья Тейт заплатит штраф в пользу приходских бедных Хауика ввиду того, что они предпочли погубить ребенка вместо того, чтобы иными средствами искать вспомоществования. Джок Рутерфорд, ты в течение года не имеешь права взять себе жену под страхом тюремного заключения и проведешь этот срок в посте и покаянии.