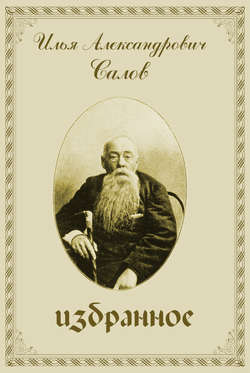Читать книгу Грачевский крокодил - Илья Салов - Страница 5
V
ОглавлениеДо приезда в Грачевку племянницы Мелитины Петровны жизнь в Грачевке текла самым мирным образом. Анфиса Ивановна вставала рано, умывалась и начинала утреннюю молитву. Молилась она долго, стоя почти все время на коленях. Затем вместе с экономкой Дарьей Федоровной садилась пить чай, во время которого приходил иногда управляющий Зотыч, при появлении которого Анфиса Ивановна всегда чувствовала некоторый трепет, так как приход управляющего почти всегда сопровождался какой-нибудь неприятностью.
– Ты что? – спросит, бывало, Анфиса Ивановна.
– Да что? Дьявол-то этот опять прислал,
– Какой дьявол?
– Да мировой-то!
– Опять?.
– Опять.
– Зачем?
– Самих вас в камеру требует и требует, чтобы вы расписались на повестке.
И Зотыч подавал повестку.
– Что же мне делать теперь?
– Говорю, пожалуйтесь на него предводителю. Надо же его унять; ведь эдак он, дьявол, нас до смерти затаскает!..
– Да зачем я ему спонадобилась?
– Да по тришкинскому делу…
– Какое такое тришкинское дело?
– О самоуправстве. Тришка был должен вам за корову сорок рублей и два года не платил. Я по вашему приказанию свез у него с загона горох, обмолотил его и продал. Сорок рублей получил, а остальное ему отдал.
– Значит, квит! – возражает Анфиса Ивановна.
– Когда вот отсидите в остроге, тогда и будет квит!
– Да ведь Тришка был должен?
– Должен.
– Два года не платил?
– Два года.
– Ты ничего лишнего не взял?
– Ничего.
– Так за что же в острог?
– Не имели, вишь, права приказывать управляющему…
– Я, кажется, никогда тебе и не приказывала…
– Нет уж, это дудки, приказывали.
– Что-то я не помню! – финтит старуха.
– Нет, у меня свидетели есть. Коли такое дело, так я свидетелев представлю… Что же, мне из-за вашей глупости в острог идти, что ли!.. Нет, покорно благодарю.
– Да за что же в острог-то?
– А за то, что вы не имели никакого права приказывать мне продать чужой горох… Это самоуправство…
– Да ведь ты продавал!
– А приказ был ваш.
– Стало быть, мне в острог?
– Похоже на то!
– Так это, выходит, процесс! –перебивает его Анфиса Ивановна.
И, побледнев как полотно, она запрокидывается на спинку кресла. Слово процесс пугает ее даже более острога. Она лишалась аппетита и ложилась в постель. Но сцены, подобные описанной, случались весьма редко, а потому настолько же редко возмущался и вседневный порядок жизни.
Напившись чаю, Анфиса Ивановна отправлялась в сад и беседовала с садовником, отставным драгуном Брагиным, у которого тоже была слабость целый день копаться в саду, мотыжить, подчищать и подпушивать. С ним заводила она разговор про разные баталии, старый драгун оживлялся и, опираясь на лопату, начинал рассказывать про битвы, в которых он участвовал, Анфиса Ивановна слушала со вниманием, не сводя глаз с Брагина, качала головой, хмурила брови, а когда дело становилось чересчур уже жарким, она бледнела и начинала поспешно креститься.
Наговорившись вдоволь с Брагиным, Анфиса Ивановна возвращалась домой, садилась в угольной комнате к окошечку и, призвав Домну, начинала с ней беседовать. В беседах этих большею частию вспоминалось прежнее житье-бытье и иногда речь заходила о капитане, но тяжелые воспоминания дней этих (капитан, говорят, ее очень бил) как-то невольно обрывали нить разговора, и Анфиса Ивановна замечала:
– Ну, не будем вспоминать про него. Дай бог ему царство небесное, и пусть господь простит ему все то, что он мне натворил!
Bо время разговоров этих Анфиса Ивановна вязала обыкновенно носки. Вязание носков было ее любимым занятием, и так как у нее не было родных, которых она могла бы снабжать ими, то она дарила носки предводителю, исправнику, становому и другим. Но при этом соблюдались ранги. Так, предводителю вязались тонкие носки, исправнику потолще, а становому вовсе толстые. Анфиса Ивановна даже подарила однажды дюжину носков архиерею, но связала их не из ниток, а из шелку, за что архиерей по просьбе Анфисы Ивановны посвятил в стихарь рычевского причетника.
К двенадцати часам Потапыч накрывал стол, раза два или три обойдя все комнаты и обтерев пыль. Стол для обеда он ставил круглый и, прежде чем поставить его, всегда смотрел на ввинченный в потолок крючок для люстры, чтобы стол приходился посредине комнаты. В половине первого подавался суп, и Потапыч шел к Анфисе Ивановне и проговаривал: «кушать пожалуйте!» Во время обеда слуга всегда стоял позади Анфисы Ивановны, приложив тарелку к правой стороне груди. Потапыч в это время принимал всегда торжественный вид, поднимал голову и смотрел прямо в макушку Анфисы Ивановны. Но, несмотря, однако, на этот торжественный вид, он все-таки не бросал своей привычки ходить без галстука, в суконных мягких туфлях и вступать с Анфисой Ивановной в разговоры.
– Ну чего смотрите! чего трете! – проговаривал он оскорбленным голосом, заметив, что Анфиса Ивановна разглядывала и вытирала тарелку.
– У меня такая привычка, – оправдывалась Анфиса Ивановна. –
– Пора бы бросить ее!.. Что вы, англичанка, что ли, какая, что тарелки-то чистые вытираете.
Если же Анфисе Ивановне случалось каким бы то ни было образом разбить стакан или рюмку, то Потапыч положительно выходил из себя.
– Что у вас, рук, что ли, нет! Ну что вы посуду-то колотите! Маленькие, что ли! – И, глядя на собранные осколки, он начинал причитывать: – Эх ты, моя «Сонька», «Сонька»! Сколько лет я тебя берег и холил, всегда тебя в уголочек буфета рядом с «Анфиской» ставил, а теперь кончилось твое житье!
– Ну, будет тебе, Потапыч! – перебивала его Анфиса Ивановна. – Полно тебе плакать-то! все там будем.
И, бывало, вздохнет.
После обеда Анфиса Ивановна отправлялась в свою уютную чистенькую комнатку и, опустившись в кресло, предавалась дремоте, после чего приказывала обыкновенно заложить лошадей и отправлялась или кататься, или в село Рычи к отцу Ивану. Но поездки эти удавались ей не всегда, и очень часто Домна, ходившая к кучеру с приказанием заложить лошадей, возвращалась и объявляла, что кучер закладывать лошадей не хочет.
– Это почему?
– Некогда, говорит.
– Что же он делает?
– Табак с золой перетирает. Нюхать, говорит, мне нечего, а я, говорит, без табаку минуты быть не могу.
– Да что он, с ума сошел, что ли? – сердилась Анфиса Ивановна. – Ступай и скажи ему, чтобы сию минуту закладывал; что до его табаку мне дела нет; что, дескать, барыня гневается и требует, чтобы лошади были заложены немедленно.
– Ну что? – спрашивала Анфиса Ивановна возвратившуюся Домну.
– Не едет.
– Что же он говорит?
– Не поеду, говорит, без табаку; хоть сейчас расчет давай!
– Так я же его сейчас и разочту! – вскрикивала Анфиса Ивановна и, обратясь к Домне, прибавляла ласково: – Домашенька, сходи, душенька, к Зотычу и скажи ему, чтоб он принес конторскую книгу.
Домна уходила, а Анфиса Ивановна принималась ходить по комнате и посматривать на каретник в надежде, что кучер опомнится и поспешит исполнить ее приказание, но каретник попрежнему не растворялся. Являлся Зотыч с книгою и прислонялся к притолоке: «Ну вот я, чего тебе еще книга спонадобилась!»
– Захар Зотыч! – начинала Анфиса Ивановна: – кучер выходит у меня из повиновения, и потому сейчас же разочти и чтоб его сегодня же здесь не было. Слышишь?
– Слышу.
– Так вот разочти.
– Денег пожалуйте, – ворчит Зотыч.
– Разве в конторе нет?
– Откуда же они будут в конторе-то?
– Сосчитай, сколько ему приходится.
Зотыч развертывал книгу и находил ту страницу, на которой записан кучер Абакум Трофимыч. Он указывал пальцем на, мол, смотри.
– Он сколько получает в месяц?
Зотыч молча указывает.
– А давно он живет?
Зотыч передвигал палец и указывал, сколько лет живет кучер. Оказывалось, что живет он тридцать восемь, лет.
– Сколько же ему приходится? – спрашивала Анфиса Ивановна уже немного потише, и Зотыч снова передвигал палец и указывал на итог.
– Да ты что мне все пальцем-то тычешь?! – вскрикивала Анфиса Ивановна. – Что, у тебя язык, что ли, отвалился, что не можешь мне ответить? Ну, сколько же приходится?
– За вычетом полученных в разное время, кучеру приходится дополучить двести тридцать шесть рублей сорок копеек, – отвечал Зотыч и смотрел на Анфису Ивановну, как будто желая сказать: что, ловко?
– Так в конторе денег нет?
– Нет.
– Ну хорошо, ступай! Я денег найду и тогда пришлю за тобой.
«Ладно», – думает Зотыч, и уходит, и видит, как в сенях кучер Абакум Трофимыч, сидя на каком-то обрубке и ущемив коленками какую-то ступу, преспокойно растирает себе табак и даже не взглянул на проходившего мимо с книгою подмышкой управляющего.
– Но в большинстве случаев кучер беспрекословно закладывал лошадей и отправлялся с барыней по указанным направлениям. Абакум всегда усаживался на козлах как можно покойнее, клал свои локти на колени и почти вовсе не правил лошадьми, отчего очень часто случалось, что, проезжая околицы, тарантас задними колёсами зацеплял за вереи [5] и выворачивал их вон.
– Ты вовсе не смотришь, куда едешь! – вскрикивала, бывало, Анфиса Ивановна.
– Как же я назад-то смотреть могу, – возражал Абакум. – Чудное дело! Точно у меня глаза-то в затылок вставлены.
И начнет, бывало, свой нос, словно трубку, набивать табаком. Очень часто табак этот ветром относило прямо в глаза Анфисе Ивановне, и она говорила:
– Послушай, ты как-нибудь поосторожней нюхай, а то твой табак мне прямо в глаза летит!
– Это ничего! – отвечал кучер: – табак даже нарочно в глаза пускают. От этого зрение прочищается.
После ужина Анфиса Ивановна поспешно отправлялась в спальню, где Домна успела уже приготовить для барыни постель. Помолившись и перекрестив постель, дверь и окна, чтобы никто не влез, Анфиса Ивановна укладывалась и, свернувшись в клубочек, засыпала, а с нею вместе засыпала и вся усадьба. И тогда-то среди этой воцарившейся безмолвной тишины, охватившей всю усадьбу, среди этой темной молчаливой ночи, бережно окутавшей густым покрывалом все окружающее, выходил из своей конуры страдавший бессонницей ночной сторож Карп, шагал, переваливаясь, по разным направлениям усадьбы и неустанно колотил колотушкой вплоть до самого рассвета.
5
Верея – один из столбов, на которые навешиваются створки ворот.