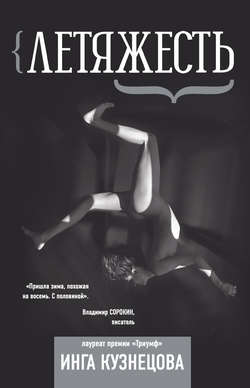Читать книгу Летяжесть - Инга Кузнецова - Страница 20
Сны-синицы
Оглавление* * *
Нелепый день. Мне смысл его не виден.
Он ни единым знаком мне не выдан.
Шпионы спят, набравши в рот воды.
Пришла зима, похожая на осень,
и вещи – точно брошенные оземь
озябшие плоды.
Пришла зима, похожая на осень.
Колёса надеваются на оси,
как встарь, но только катятся – куда?
Открой же эту книгу посредине:
там я стою челюскинцем на льдине,
кругом – вода.
Там я стою челюскинцем на льдине
с улыбкою раззявы и разини
и лестницей верёвочной в руках.
Она упала из незримой точки,
и я не знаю, кто там – вертолётчик
иль ангел – ждёт рывка.
И я не знаю, кто там – вертолётчик
иль ветер – крутит облачные клочья.
Крошится льдина, точно скорлупа.
И ледоход на появленье птицы
похож, на гибель сна под колесницей.
А я стою, медлительна, глупа,
и лестницу из пальцев выпускаю…
Университет
Вот сеятель-дворник, сыплющий из рукава
песок, превращающий Москву в Сахару.
Сахара к чаю нет. Раскалывается голова.
В прошлом веке сахар кололи щипцами, держали пару
лошадей. Я не запомню несколько странных и иных слов
о том, как Жак и Ресю благополучно вышли из дома.
Я засыпаю среди сахарных и городских голов,
подталкивая ногой два холодных щедринских тома.
Мне снится и сеятель-дворник, делающий пески
в Москве, и статуя, превращающаяся в красильщика фасада
при движеньи. Экзамен сдан, и уже не надо
ни «прогуливаться вдоль решётки», ни «замедлять шаг», ни «сжимать виски».
Разбуди меня среди ночи – и я честно расскажу тебе всю
лексику за семестр: я не ела шесть дней, Анна идёт к вокзалу,
она уезжает в Париж. Мама же ей сказала:
держись прямо, поддерживай себя сама и ищи Ресю.
Жак и Ресю (и, может быть, Анна) жили в Париже, о боже мой,
но перед тем и после – всегда – в маленьких городах и сёлах.
«Экскурсия показалась им интересной и весёлой.
Усталые, но довольные, они возвратились домой».
* * *
сны-синицы во мне теснятся
вот проклюнутся и приснятся
тихо выпадут из груди
превращаясь в кольцо обнимки
провалюсь их опередив
день как вспышка от фотоснимка
разорвавшийся апельсин
я на опеле мчусь по льдине
ты на трещине ты один
* * *
Я обернусь, и что-то за спиной
смутит меня невинностью порядка.
Как бы не так, здесь умысел двойной,
здесь в воздухе невидимая складка.
Опять шмыгнёт, дыханье затаит
вчерашний ёж со странными ушами,
и легче мне, что страх имеет вид.
Пусть поживёт за нашими вещами.
В прозрачных стенах движутся зверьки,
как будто рыб подводные теченья.
Здесь мысль и плоть тождественно легки,
пространство здесь утратило значенье.
И если утром встанешь, чтоб смахнуть
пыль со стола, сомнёшь в воображеньи
тот странный мир, по полировке путь,
оставленный тебе как приглашенье.
* * *
Я знаю: истина проворно
бежит иголкою в стогу,
и грубой сетью стихотворной
её схватить я не смогу.
Но там, где исчезает тело,
где закругляется земля,
она лежит, как парабеллум,
забытый в ящике стола.
* * *
Я прошу твоей нежности, у ног твоих сворачиваюсь клубком,
превращаясь в зародыш и уже с трудом поворачивая языком.
Я мельчайший детёныш в подмышке твоей, не раскрой же крыла,
чтобы я, пока не согрелась, упасть из него не могла.
Я дремучая рыба, не успевшая обзавестись хребтом,
бесхребетная бессребреница с полураспоротым животом.
Не удерживаюсь, переваливаюсь по ту сторону твоего хребта,
за которой – вселенская тьма, космическая пустота.
Не покинь меня, вынь меня из толпы, извлеки на свет,
прочитай по мне, что с нами станет за миллионы лет,
проведи по мне. Я – это сборище дупел и выпуклых мест-
ностей, новостей, для слепого самый лучший текст.
Приложи ко мне раковину ушную, послушай шум
всех морей и материков, приходящих ко мне на ум,
всех тропических стран, всех безумных базаров, клокочущих слов,
всех цикад и циновок треск, звон браслетов и кандалов.
Я бескрайняя ткань, можешь выбрать любую часть —
пусть я буду выкройкой тем, кто потом попадёт под твою власть.
Я люблю их за то, что у них будет запах твоего тепла.
Я ненавижу их! Я погибаю от подкожного рассыпавшегося стекла.
Скажи мне, что я птенец, что ты не отнимешь меня от своей руки,
скажи, что мы будем жить на берегу никому не известной реки.
Мы станем сходить на дно и снова всходить из вод,
мы станем немы для всех, как рыбы, и невод нас не найдёт.
* * *
когда деревья вырастут травой
мы возвратимся в старые дома
и прежней жизни почерк перьевой
увидим в тяжких сплющенных томах
ещё трещит ошибок сухостой
ещё звучит догадок перезвон
и только радость истины простой
исчезла в шуме брошенных времён
сбежим в поля и медленно войдём
в пустые мазанки где шорох и сквозняк
но мы и там ответа не найдём
но мы и там не встретим верный знак
и на пути из па́житей в тайгу
и на пути из прошлого на свет
мы ощутим звериную тоску
в глуши себя в глуши бездонных лет
* * *
Маленький Моцарт, отравленный злом,
спи безмятежно в бокале своём,
в утлой каморке, в доме под слом,
пахнущем мышью и болью-быльём.
Спи, как в бутоне сухая пчела,
вечный ребенок, не помнящий зла.
Спи, как в шкафу заспиртованный кунст,
спи, как под снегом сломанный куст.
* * *
опять автобус изменил маршрут
и засыпая замечаю
что декорации уже не врут
а добросовестно ветшают
они не дерево и не трава
и чем обман наглей и очевидней
тем легче всем и легче выдавать
сон летаргический за сон невинный
* * *
Я – это бабочка, проколотая насквозь
в темечко. Кто-то колеблет огромный гвоздь.
Я – это вешалка со сломанными плечами
в темноте, и нет никаких сил
наблюдать за падающими вещами.
Если бы ты меня расспросил,
я б, может быть, осмелилась и сказала,
что устала до тошноты от зала
вечного ожиданья, от мучительной суеты.
Если бы ты…
Я твоя победа,
прикреплённая цепью, почти Андромеда.
Ты не едешь, а я с места сдвинуться не могу.
Я крошусь на руке, превращаясь в старуху-труху.
Я заколота насмерть английской булавкой.
У тебя всё уловки-дела,
у меня нет ни дел и ни сил.
Принимаю таблетки обид и любые поправки
на течение лет – и сметаю кусочки крыл.
* * *
Когда единственная жизнь
идёт, меня не замечая,
легко, на цыпочках измены,
когда ей нравится любой,
а я сижу в оцепененье
за чашкой выцветшего горя
или в авто самоповтора
сжигаю вязкую любовь:
когда, не выдержав печали,
хочу всё бросить, потерять,
рассыпаться, – она, как мать
усталая, после работы
приходит, говоря: «Ну что ты…»
* * *
Я пробую на ощупь языка
щепотку жизни с примесью удачи.
Весы в починке, и Фортуна плачет,
и тушь течёт ручьем из-под платка.
А у Венеры валится из рук
ее очаг, милосское хозяйство,
и до того томительно вокруг,
что лучший путь – разврат и разгильдяйство.
Здесь все слепцы – Фортуна и Гомер.
Но нужно ткать и забывать о старом.
И доставаться варварам, пожарам,
но доживать до новых эр.
Концерт
Органистка, хрупкий архангел, танцующий сонно.
Если бы ты попадала
в жёлтые листья, выпавшие во дворе, —
Бах бы с лёгким сердцем выдал тебя за Мендельсона
в следующем сентябре.
Ты же наступаешь в лужи-коды, заученной гаммой
заметаешь следы, и каждый пройдоха
тебя боготворит.
А на самом деле почва
расступается у тебя под ногами.
Подожди, оботри лучше трубы,
они такие пыльные
изнутри.
Пальцы тебя не слушаются, сбегают лестницей старого дома.
Ты боишься к нам обернуться,
подлог прикрываешь спиной.
Эх, хозяйка медной горы, сборщица металлолома,
ну протруби!
Сделай же что-то со мной.
* * *
В забытом доме зреет бунт вещей.
Ты этот день поправить и не пробуй.
Разбилась чашка с радостью и злобой,
и свитер разошёлся на плече.
Повсюду дышит ужас нелюбви.
Раскрой окно и расскажи предметам,
как женщины в оранжевых жилетах
играют жёлтой горкою листвы.
Брейгель
Едет сонный ребёнок, самое непутёвое дитя,
сановитый сановник, пространство превращающий в пустяк
с помощью папы-рикши. Острые колени проваливаются в снегу,
сумерках; сталкиваются с собаками, зевающими на бегу.
Всё одето в саван, рельсы трамвая занесены.
А ребёнок, проезжая под соснами, видит странные, старинные сны:
будто шапка отца заломлена, в складках пыль, у пояса рог,
следом туша оленя, а сын деревянным коньком рассекает каток.
* * *
Я пробую в игольное ушко́
вместить судьбу, как маленькую лошадь
в квадратный, нарисованный хомут.
И всё же он остался нулевым,
как форточка. И лишь цветок герани
кричит в окне: «Невыносимо мне!»
Мы шевелим беззвучными губами.
Случайна жизнь, и только в слове память.
Как тяжело молчание пути.
Но верю я, что внутренняя площадь,
где мы чутки, сдвигается и лошадь
поскачет легче, горечь отпустив.