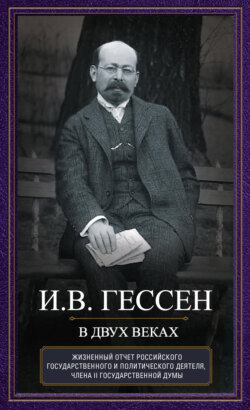Читать книгу В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы - И.В. Гессен, Иосиф Гессен - Страница 4
Детство
(1865–1873)
ОглавлениеСправедливо прозванная Южной Пальмирой, родина моя Одесса пользуется, однако, весьма незавидной славой и в общественном мнении, которое, как известно, считается гласом Божиим, и в литературе – немало выкормила она писателей и публицистов, но никто, кажется, не отплатил ей благодарной памятью. Лестное прозвище, которое Одесса заслужила главным образом своим красивым расположением на высоком берегу Черного моря, и является, в сущности, источником недоброй славы ее. Благодаря положению у моря Одесса и стала важнейшим центром русской хлебной торговли с заграницей и потеряла свое лицо, привлекши двунадесят языков: были в Одессе улицы Еврейская, Греческая, Итальянская, Малая и Большая Арнаутская, Молдаванка. Хлебная торговля сопряжена была с постоянным, не поддающимся учету риском, в зависимости от колебания курса нашего бумажного рубля на заграничных рынках, от неожиданного замерзания одесской бухты и т. п., и риск создавал атмосферу спекуляции и авантюризма, окутывавшую весь город и определявшую его интересы, стремления и благополучие. Когда проведение Екатерининской железной дороги переместило центр тяжести в захудалый до того Николаев, а Виндаво-Рыбинская железная дорога, по инициативе одного из моих двоюродных братьев, отвлекала много грузов к балтийским портам, Одесса захирела. Теперь и от прежних названий ничего не осталось, и вообще мне трудно ориентироваться в лежащем передо мною новым плане города. Но в шестидесятых годах прошлого столетия, с которых начинается летопись моя, процветание Южной Пальмиры делало все новые успехи: раньше она притягивала к себе весь урожай с Приднестровья, а потом младший брат отца вовлек в ее орбиту и Днестровский район, сконструировав новый тип баржи, годный для мелководного местами Днестра, и слово «гессенка» появилось в русских энциклопедических словарях раньше, чем уже в позднейших изданиях удостоилась упоминания и сама фамилия Гессен.
Я не знаю, откуда эта фамилия появилась в Одессе. Мы генеалогией не интересовались. Очень плохо помню я деда по отцу, он умер, когда я еще не отдавал себе отчет в окружающем, а сейчас не могу отдать себе отчета, помню ли я его образ по фотографии или по непосредственному восприятию. К памяти его относились с большим уважением, и «Еврейская энциклопедия» причисляет его к купцам, известным своей общественной и торгово-промышленной деятельностью. Отец, да и все братья его и мужья сестер так или иначе тоже были прикосновенны к хлебной торговле. Отец получал на комиссию огромные партии зерна, грузившиеся скупщиками-комитентами в днепровских портах, и продавал их в Одессе заграничным экспортным фирмам.
После утреннего чая мы с братом, который на два года меня старше, но учимся мы вместе, играем в вымощенном булыжником дворе нашего дома, поливаем двор из водопроводного крана, прижав отверстие пальцем, отчего вода распыляется фонтаном, то и дело обдающим нас самих, и наблюдаем за приземистым широкоплечим кучером Иваном, который запрягает в легкую коляску обожаемого нами бойкого Красавчика – он вполне стоит своего названия: светло-кофейный в яблоках. Вот Иван уже солидно уселся на козлах и важно покрикивает на Красавчика, высекающего искры из булыжника нетерпеливой стройной ногой. А отец все не показывается, и мы начинаем волноваться: не произошло ли опять раздраженного разговора с матерью из-за просимых ею денег на домашнее хозяйство. Почему эти недоразумения так часто повторяются, почему раз навсегда не договорятся, сколько можно тратить? Этот вопрос нас очень занимает, потому что после такого разговора отец, маленький, щуплый, с чуть вьющейся рыжевато-черной бородой, появится во дворе совсем угрюмый, как бы не замечая нас, молча сядет в коляску, и наши надежды на купание в море разбиты безжалостно. А может быть, задержал его Серебряник, старый, сгорбленный молчальник, самоучка-бухгалтер, и конторщик, и корреспондент, беззаветно преданный и щепетильно честный, но частенько путающий. Или принес он из гавани, где уже ранехонько утром побывал, какие-нибудь неблагоприятные вести, которые производят еще более нежелательное действие на настроение отца. Но вот он наконец во дворе, мы стараемся придать себе равнодушный вид, но быстро подбегаем, когда он, уже занеся ногу на подножку, приглашает ехать с ним.
Дом наш стоял в конце Ришельевской улицы, а мы отправлялись на другой конец: сейчас соображаю, что и всего-то требовалось не больше пятнадцати минут пешего пути, но тогда это казалось гораздо дальше, время, очевидно, тянулось медленнее. Чем ближе к этому концу улицы, тем становится люднее, а на последнем квартале настоящая толчея. Тротуар заставлен какими-то странными, окрашенными в ярко-зеленый цвет стойками, напоминающими ученические парты – за ними восседают тепло одетые мужчины и женщины – уличные менялы, производящие простейшие банкирские операции. Между стойками снуют люди, друг с другом встречающиеся и быстро расходящиеся, чуть не сбивающие один другого с ног. Это все голытьба, состоящая при маклерских конторах: она старается добыть для своих патронов сведения об идущих и прибывших грузах, выяснить средние цены, уговорить встреченного продавца не дорожиться и затем сломя голову бежать в контору. По возвращении из ссылки мне пришлось быть на приеме у градоначальника Зеленого, прославленного щедринского помпадура. Один из просителей, еврей, горько жаловался на притеснения полиции и на грозный вопрос Зеленого: «Чем занимаешься?» – простодушно ответил: «Мы тремся около Тейтельмана», чем вызвал бешеный гнев помпадура, не оценившего, как метко проситель охарактеризовал свое безрадостное существование.
Этот отрезок улицы носит загадочное название Грецк, здесь расположена большая часть маклерских и экспортных контор. Вот один невзрачный человечек, с зонтиком в руках, даром что небо безоблачно, рывком выделяется из снующей толпы, сильно жестикулируя зонтиком, останавливает нашу коляску и, крепко ухватившись руками за крылья ее, быстро-быстро начинает заговаривать отца. Жаргон мы не совсем свободно понимаем, дома с родителями говорим только по-русски, но то, что юркий человечек с такой горячностью внушает, нам представляется просто бессвязным перечислением фамилий, отдельных слов и цифр: слышится: Анатра, Радоканаки, Юровский (это все крупные экспортные фирмы), Тейтельман, Клейн (маклеры), гирка, леи, вчера полкопейки, нет – копейка, плохой вес, пыль, шурф, проба и т. д. Минут через пять он недовольно отходит от коляски, но только что мы трогаемся, мановение другого зонтика вновь преграждает нам путь, потом отец замечает кого-то в толпе и, остановив Ивана, выходит на тротуар.
Ну, наконец раздается решительное «Трогай!», и Красавчик везет на довольно крутой спуск к гавани, скользя на отполированных ездой камнях. Иван изо всех сил натягивает вожжи (тормоза не полагалось), и лошадь так упирается, что скрипит дуга, которую теперь можно увидеть только в кинематографе на так называемых русских картинах. Отец глубоко погрузился в размышления о полученных на Грецк предложениях, и о нашем присутствии он совсем забыл. Он страшно удивился бы и не поверил, если бы ему сказать, что мы принимали живейшее участие в его разговорах, силясь сочетать бессвязные слова и уловить смысл цифр, хотя бы со стороны зависимости от них его настроения. Он убежден, что мы впитываем лишь то, что специально для нас уготовлено: начальное училище (пансион) Вербеля, дома – уроки еврейского языка, ну, там еще книги из библиотеки, наконец, допустим – игры. Но так как он интересуется только результатами учебы, четвертными отметками и переходом в следующий класс и никогда даже не заглянет в лежащие перед нами книги, так и мы должны быть глухи к тому, что хоть и слышим, но нас явно не касается. Но вот поди ж ты: только и помню, что у Вербеля мы учились, но чему, и как, и с кем – ни-ни, и от бездарного учителя еврейского языка осталось только умение с грехом пополам читать, не понимая смысла. А людской гомон на Грецк и разговоры из коляски до сих пор отчетливо звучат в ушах. А в коляске еще лежит знакомый странный предмет, заставляющий сомневаться, едем ли мы прямо в купальню Исааковича. Этот предмет, имеющий рукоятку лопаты с довольно глубоким медным корпусом на конце, и есть упоминавшийся в разговорах шурф, которым зачерпывают со дна баржи зерно, чтобы проверить добротность. Наличие шурфа свидетельствует, что придется еще ехать на волнорез, где ошвартовалась баржа. Если отец в хорошем настроении, мы просим разрешения пешком сбежать с гигантской широченной лестницы, спускающейся с бульвара у памятника строителю Одессы Ришелье в гавань, и приходим к купальне раньше, чем отец возвратился с волнореза. Купание в гавани мало привлекательно, вода грязная, плавают арбузные и дынные корки, но купальщиков много, отец обучает нас плаванию и показывает, все с тем же сумрачным видом, разные «фокусы» в воде.
Домой возвращаемся прямо к обеду. Мать, высокая, пышная, черноволосая и белотелая, очень красивая, уже сидит за столом с сестрой, очень на нее похожей, если бы не нос, унаследованный от отца. Да и душевными свойствами она двоится между веселой, беззаботной, жизнерадостной матерью и молчаливым, недоверчивым и нерешительным отцом. Эта печать двойственности лежит и на нас с братом.
Если ничего не случилось в широко разветвившейся семье отца, не получено письма из Екатеринослава от родителей матери, обед проходит в молчании: в дела свои отец никого не посвящает, политические и общественные новости интересуют его лишь с точки зрения влияния на хлебную торговлю: помню объявший наш дом ужас, когда Русско-турецкая война 1877–1878 годов заперла выход из Черного моря и внезапно приостановила хлебную торговлю. Ф. И. Родичев[5] любил рассказывать анекдот о Николае I: когда во время Крымской войны ему доложили, что население встревожено и волнуется из-за севастопольских неудач, император ударил кулаком по столу и воскликнул: «А им какое дело?» Отец, да и вся его и материнская семья считали, им действительно никакого дела нет, и были самыми непритязательными верноподданными.
Молчание вдруг прерывается громким голосом матери, заметившей, что кто-нибудь из детей уклоняется от еды и имеет недовольный вид: «Ты почему дуешься? Съешь хоть еще этот кусочек». Если уговоры не помогают, мать раздраженно замечает: «Прежде это называлось сумасшедший, а теперь, – голос звучит с иронией, – просто нервный». А мы этим способом частенько ее шантажировали, чтобы добиться исполнения какого-нибудь желания.
Из-за стола расходимся тоже молча, благодарить родителей не полагалось, это «нежности» и условности, которые вызывают насмешку, а я в особенности к ней очень чувствителен. Положительно не помню, чтобы отец или мать поцеловали нас, за исключением расставания на время; день рождения не праздновался и вообще ничем не отмечался, разве что единственный раз, при достижении мальчиком тринадцатилетнего возраста, духовного совершеннолетия, обязывающего утром молиться, надев на руку и на лоб два черных деревянных кубика со вложенными в них текстами молитв. Нежности проявлялись только тайно: притворившись во время болезни спящим, можно было, чуть приоткрыв глаза, наблюдать, как отец на цыпочках подходит и, низко склонившись над больным, долго прислушивается к дыханию.
После обеда бывал тягостный урок еврейского языка, тягостный потому, что в явный вред себе твердо держались принципа – числом поболее, ценою подешевле, и то только во второй его части. Когда позже отец принялся за перестройку дома, обошедшуюся в несколько десятков тысяч рублей, разработка плана была поручена доморощенному архитектору, и из-за экономии в 200–300 рублей обезображен был дом и уменьшена его доходность. При поступлении в гимназию старшему брату – учение давалось ему туго – пришлось взять репетитора и приглашен был сын одного из жильцов, взрослый гимназист третьего класса, которому платили 4 рубля в месяц, притом не непосредственно, а предоставляя удерживать из неаккуратно вносимой квартирной платы. Репетитор завел тетрадку, в которой выставлял брату отметки, и, к великому соблазну, я видел написанное им слово: «поведение» – у него не хватило смелости допустить, что среди трех звуков «е» ни один не пишется через «ять». Таков примерно был и учитель еврейского языка, и очарование Библии, равно, впрочем, как и древних классиков, я познал уже только в зрелом возрасте, собственными тяжелыми усилиями продираясь сквозь внушенное жалкими невеждами молодецкое отношение к величайшим творениям человеческого гения.
У сестры в это время бывал урок музыки на рояле, а позже и пения. Музыка вызывала всегда особые сладостно-волнующие ощущения; с неослабевающим наслаждением я всегда слушал и гаммы, и экзерсисы, и сольфеджио, и страстно сестре завидовал, но обучение мальчиков музыке считалось по меньшей мере неуместным: другое дело – девицы. Предлагая невесту, сваха не преминет на одном из первых мест упомянуть об умении играть на рояле, это крупный козырь, а мальчикам оно ни к чему.
После окончания урока мы все сбегаемся к матери – отца, как обычно, опять нет дома, и можно шумно выражать свое настроение – мы уверены, что у нее припрятаны какие-нибудь лакомства, в особенности тающие во рту пирожки – птифур из замечательных французских кондитерских, мать отнекивается, но на наши ласки быстро сдается, мы вместе уплетаем, и так до старости я и остался сластеной.
А затем с братом спешим в библиотеку, где, кажется, уже с семилетнего возраста были абонированы – в доме, кроме наших учебников, не было ни одной русской книги, да и вообще никаких книг, кроме молитвенников и еще каких-то брошюр, которые сочинял дальний родственник матери – маньяк, еврейский вариант юродивого, бедный как церковная крыса. Все собранные за брошюры деньги он употреблял на печатание новых, а чем и как питался – было загадкой, он как будто в питании и не нуждался. Может быть, потому, что книга в доме была редкостью, я к ней питал большое беззаветное почтение и с неким благоговением входил в библиотеку Бортневского, в которой три комнаты по всем стенам были уставлены полками с книгами с золотым или черным тиснением на желтом корешке переплета. В библиотеке всегда царила серьезная тишина, и сам Бортневский, высокий блондин с приятным лицом и задумчивыми, где-то витающими глазами, говорил тихим, осторожным голосом, словно боясь нарушить покой книг. Я был убежден, что он все книги прочел – как же иначе – и в его серьезности видел проявление сознания своего превосходства над посетителями, которым не под стать одолеть и сколько-нибудь заметную часть его сокровищницы. Бортневский был, в сущности, единственным руководителем нашего самообразования, и ему я был обязан упоительным наслаждением, доставленным чтением, вернее – глотанием Майн Рида, Эмара, Жюля Верна, Вальтера Скотта. Мне казалось, что писатель, способный доставлять другим высокое наслаждение, сам должен быть существом сверхъестественным, литературное творчество рисовалось не житейским занятием, а священнодействием, и звание писателя недосягаемым. Безжалостная действительность, среди многого другого, не только разрушила детское представление, но не раз, особенно в изгнании, мстила жестокими разочарованиями, однако след этого представления удалось, к великому счастью, пронести в душе через всю жизнь. А тогда меня все тянуло попробовать испытать, какие чувства, какое состояние овладевает, что вообще происходит с человеком, когда он отдается сочинительству. В глубокой тайне, даже от брата, я приобрел изящную записную книжку и, крадучись, стал сочинять, конечно, беспомощное подражание прочитанному.
Однажды, когда вся семья сидела за вечерним чаем и я тут же погружен был в чтение, отец, находившийся в необычно хорошем настроении, вдруг сказал: «А вот я прочту вам нечто очень интересное». Я оторвал глаза от книги, но по близорукости не разглядел, что у него в руках моя тайна, а он, хитро подмигивая, с деланым пафосом прочитал что-то вроде: «Раздался громкий залп! Храбрый вождь как подкошенный упал на землю, но глаза все еще пылали местью». Меня-то действительно словно подкосило, я так испугался, что перехватило дыхание, почувствовал, что краска заливает лицо, слезы вот-вот брызнут, и тогда впервые понял, что значит – желать провалиться сквозь землю. Отец, по-видимому, был удивлен неожиданным эффектом, на полуслове остановился и с доброй, смущенной улыбкой, еще обострившей мое замешательство, вернул книжку.
С тех пор от подражаний я решительно излечился, а став редактором, относился к охотникам до чужого литературного добра с преувеличенным ожесточением, раза три пришлось даже сражаться в судах чести. Но мне сдается, что это безобидное подшучивание потому так врезалось в память, что оно поколебало уверенность, и когда, много лет спустя, потянуло к писательству, приходилось преодолевать назойливые сомнения и в ушах вдруг звучало: «Храбрый вождь как подкошенный упал на землю». Но этим храбрым вождям я очень многим обязан: они пленяли рыцарским благородством и бесстрашием, прямотой и честностью, отвращением и противодействием насилию, покровительством слабым, жаждой подвигов.
Странно, однако, что об одной важной черте я совершенно забыл упомянуть и спохватился лишь по окончании всей работы, перечитывая эти страницы. В характеристике Алеши Карамазова Достоевский подчеркивает его «исступленную стыдливость и целомудрие». Монашеских настроений и тяготений у меня и в помине не было, восьми лет я был уже влюблен в свою сверстницу, красавицу кузину, и ее фотография, выкраденная из семейного альбома, всегда была со мной, женская красота производила очень сильное впечатление. Но совсем как Алеша, я не мог слышать «известных слов и известных разговоров о женщинах», лицо заливалось краской, если товарищи, издеваясь, силой заставляли их выслушивать. И потом, во всю жизнь, этой интимной области я не касался в беседах даже с самыми близкими друзьями.
Вечерним чаепитием, около 10 часов, день заканчивался. Нам с братом отведена была – и для работы, и для сна – полутемная комната, выходившая окнами в застекленный коридор, хотя квартира была большая, а после перестройки имела двадцать девять окон по фасаду двух пересекающихся улиц. Но лучшая комната служила залой в пять окон с балконом, раскрашенным под паркет полом, от времени до времени так начищаемым, что дня два после этого стоял неприятнейший запах воска, смешанного с потом. В залу вообще, по молчаливому запрету, входить не полагалось, она предназначалась только для каких-либо торжественных случаев, к которым не относились редкие посещения гостей-родственников, довольствовавшихся столовой. Зала и была самой неуютной комнатой, какой-то безжизненной, и отличалась от других только дешевой нарядностью: кроме рояля, украшением были две посредственные гравюры на сюжет из библейской истории и несколько пестрых безделушек, привезенных из Карлсбада, куда жирная еврейская кухня гнала для лечения катара и страданий печени. А во всех других комнатах стены были совсем голые, на столах ни одного цветка, вообще – ничего, что ласкало бы и радовало глаз, все это было ни к чему, совершенно так, как и «нежности». В большой, вместительной квартире всегда было душно и затхло, потому что потребность в чистом воздухе убежденно считалась предрассудком. Окна раскрывались только летом, зимой все щели заделывались ватой и покрывались замазкой, затвердевавшей, как камень. А вместо проветривания пускались в ход курительные свечки, дымом своим еще больше отравлявшие воздух. Но развитие физических сил вообще расценивалось как вздорная затея: сильным прилично и нужно быть «биндюжнику», о таких выдающихся силачах и повествует в своих одесских рассказах Бабель. А мальчику из «порядочного семейства» заботиться о мускулах и тем более заниматься спортом было бы крайне неприлично. Такие глубоко укоренившиеся взгляды и имели результатом, что мы, все трое, заболели противнейшей золотухой и всю зиму нас отпаивали рыбьим жиром, а лето мы впервые провели на даче и сразу же все оправились. Припоминаю еще, что брат болел скарлатиной и был от меня изолирован. Когда он поднялся с постели, мы разговаривали через закрытую дверь, и, так как я ни за что не хотел поверить, что у него сходит вся кожа, он стал просовывать мне кусочки ее в замочную скважину.
Если кто-то заболевал, немедленно появлялся добродушный человек с грозными насупленными бровями, окладистой черной бородой, приятно щекотавшей при выслушивании сердца и легких, и каким-то специфическим запахом. Когда впоследствии в еврействе прогремело имя доктора Пинскера, как пионера сионизма, и я прочел его пламенную брошюру «Автоэмансипация», я никак не мог сочетать этого пламенного трибуна с приветливым специалистом по всем болезням, с утра до ночи объезжавшим бесчисленных пациентов и больше, казалось, ничем не интересовавшимся. Был еще и фельдшер, с жесткой, как щетина, курчавой бородой и загадочным прозвищем Бинем – я так и не знаю, было ли это имя или обозначение профессии, – прививавший оспу, ставивший пиявки и банки и «отворявший» кровь. Но, например, ни врачу, ни, тем меньше, ему не приходило в голову порекомендовать употребление зубной щетки, тоже считавшейся прихотью. В общем, однако, мы, наперекор столь опасному презрению к гигиене, болели весьма редко и до старости пользовались завидным здоровьем, если не считать моего физического недостатка – рано развившейся близорукости. А ее никак нельзя скинуть со счетов – она оказала огромное влияние на формирование душевного склада. Недостаток этот обнаружился уже в первом классе гимназии, но ношение очков было тогда большой редкостью, и повели меня к окулисту лишь после настойчивых указаний гимназического начальства, что близорукость мешает учебным успехам, я и с первой парты не видел, что на доске написано. Постоянные опасения, что, того и гляди, попадешь впросак, развивали чувство застенчивости, неловкости, неуверенности, а когда стал носить очки, мальчишки на улице и в гимназии преследовали насмешками. Возможно, что этот недостаток способствовал и появлению вазомоторной неврастении, впоследствии отравившей несколько лет жизни. Но зато, с другой стороны, близорукость укрывала многое, что могло действовать отрицательно, люди казались красивее и лучше. Поэтому близорукость была, вероятно, источником наивности, если правильно (во всяком случае, настойчиво) друзья мои ставили ее мне на вид.
По разумению тогдашних врачей, очки давались слабые, далеко не восстанавливавшие нормального зрения. Только уже здесь, в Берлине, года три назад мне разрешено было пользоваться стеклами, почти полностью корригирующими близорукость, и, когда впервые посмотрел я сквозь них на свет Божий, мне показалось, что я вновь родился, и я пожалел себя, поняв, как суживались и обесцвечивались мои зрительные впечатления. Думаю все-таки, что баланс близорукости был в мою пользу.
Однообразие домашней жизни нарушалось приездами родителей матери из Екатеринослава. Дед был в то время очень богат и приезжал обыкновенно для участия в торгах на казенные подряды и поставки. Предлагаемые соревнователями цены и прочие условия подавались в запечатанных конвертах, и, насколько я помню, из опасения продешевить деду (руководил выработкой условий отец) ни разу поставки получить не удалось. Дед и бабка столь же были разны, как и родители, но она была недоверчива, неблагожелательна, зятя очень высоко ценила, считая его умнейшим человеком. А дед, высокий, благообразный старик, был импульсивен и щедр, поэтому для внуков его приезд бывал праздником. Но больше разнообразия вносили настоящие праздники, сопровождавшиеся, за исключением Судного дня, появлением на столе разных вкусных вещей. В Судный день Одесса замирала, жизнь останавливалась, весь день евреи и замужние еврейки проводили, постясь, в синагоге.
Нижний этаж нашего дома состоял из двух квартир, занимаемых двумя сестрами отца, вдовами. У старшей, мнившей себя аристократкой, была единственная дочь, так и не дождавшаяся приличествующего ей, по мнению матери, жениха. Судный день мы, дети, и проводили с этой кузиной и жестоко били себя по ритуалу кулаком в грудь, умоляя Бога, в последний момент перед припечатанием судьбы на предстоящий год, о прощении содеянных грехов и даровании милости. Судному дню предшествовал явный пережиток жертвоприношения: все члены семьи, вертя над головой связанного петуха (женщины курицу), просили Бога обрушить на птицу наказания за прегрешения молящегося, а затем куры раздавались бедным или же раздача заменялась деньгами соответственно их стоимости, а куры служили основанием для необычайно жирного бульона, подаваемого вечером после поста.
Лет с восьми отец стал брать нас с собой в синагогу на наиболее торжественные моменты. Там у него, как у старшины, было почетное место, чем мы очень гордились. Эти торжественные моменты Судного дня оставляли глубокое, гнетущее впечатление: надрывно-напевное причитание мужчин в цилиндрах, падающие с хоров, где помещались женщины, громкие вопли, иногда разрешавшиеся истерикой, сопровождали чудесное пение хора с покрывающим его великолепным, бравурным тенором кантора, и в еврейском синагогальном песнопении мне всегда слышалась мольба покорная, но и мятежная, возбуждающая в душе вопрос: за что и почему?
Самым приятным, чарующим праздником была Пасха, ярко вспоминается радостное, весеннее настроение, вызывавшееся обширными приготовлениями – раскрываются после зимнего герметического закупоривания окна, сверкающие отблесками солнца, и в душные комнаты весело врывается теплый, ласковый бриз, напоенный возбуждающим ароматом. В доме царит невероятная сутолока – идет генеральная уборка квартиры, чтобы, Боже упаси, не завалялось где-либо крошки хлеба, который на неделю должен быть заменен опресноками[6]. Во дворе найденные остатки сжигаются, и так забавно шипит в воде раскаленный чугунный шар, которым прокаливают кухонную посуду, чтобы можно было ею пользоваться и в течение Пасхальной недели. Отец везет нас в магазин готового платья, и мы долго осматриваем себя в обновках.
Предпраздничная сутолока усложняется настоящим потоком бедных евреев, преимущественно женщин, часто с детьми на руках – одни спускаются с лестницы, другие им на смену поднимаются и снова заполняют застекленный коридор. Они приходят за ордерами на получение опресноков и денежной помощью, чтобы иметь возможность справить у себя великий праздник. В качестве старшины главной синагоги отец заведует сбором благотворительных средств, производящимся два раза в год, при наступлении зимы, для снабжения бедноты углем, и перед Пасхой, и – спасибо ему – привлекает нас к участию в распределении и проверке талонов по счету записей и т. д. Сомневаюсь теперь, доверял ли он нашему умению и внимательности, вероятно, сам вновь все проверял, и скорее это было первым уроком общественной деятельности, к которому мы относились с серьезностью, присущей сознанию ответственности.
Наконец все сделано, все успокаиваются, и чем ближе к вечеру, тем все выше приподнимается настроение, тем нетерпеливее ожидание сейдера – этой необычной трапезы за чтением молитвенного рассказа об исходе евреев из Египта. Отец в кресле откинулся на подушки – он должен «возлежать», а я, как младший сын, открываю трапезу, прочитывая по Агаде[7] – забавно иллюстрированной эпизодами по истории исхода – «четыре вопроса», в ответ на которые и начинается чтение, прерываемое странными, напоминающими заклинания обрядностями. Нас больше всего занимает оставленное за столом пустое место, на котором, однако, тоже стоит полный прибор и большой бокал вина, рукой отца тоже участвующий в обрядах. Место это предназначено для пророка Илии, который в определенный момент невидимо войдет в комнату: для этого настежь раскрываются двери, и я вздрагиваю от шелеста пронесшегося сквозняка – разве и вправду пророк посетил нас?
Увы, на моих глазах все эти религиозные традиции стали быстро выветриваться, исчезли с косяков дверей маленькие свитки с молитвой, предохранявшей дом от несчастий, и трогательные, волнующие напоминания о тысячелетнем страдном пути превращались в сухую формальность, которую – волей-неволей – нужно отбыть, как скучную повинность. Раз начавшись, приобщение к русской культуре шло вперед семимильными шагами. Таково было влияние «эпохи великих реформ» Александра II, едва ли не самой светлой, и вместе с тем самой трагической эпохи русской истории. Теперь – и в России, и среди эмиграции – появляется обостренный интерес историков и беллетристов к Ивану Грозному и Петру Великому. Уделяемое им внимание, несомненно, подсказывается – сознательно и бессознательно – стремлением выяснить, что развитие России вообще совершалось резкими толчками, стоившими невероятных жертв. Эпоха шестидесятых годов представляла пробу эволюционного начала, проба оказалась неуверенной, колеблющейся и не выдержала испытания. Но вначале, тотчас после отмены крепостного права в 1861 году, она произвела на общество такое же впечатление, как на нас, детей, раскрывание закупоренных на зиму окон, до самозабвения увлекла всех блеснувшими заманчивыми перспективами. От этого воздействия не могло остаться свободным и русское еврейство, и на себе непосредственно ощутившее ослабление ограничительных законов.
В 1871 году в Одессе разразился погром, но мне было пять лет, и я ужасов его не испытал и не видел. Осталось лишь смутное воспоминание, как няня выходит с иконой за ворота и мы тщетно расспрашиваем, в чем дело, но ощущаем разлитую в воздухе тревогу. Этот погром был, по утверждению Еврейской энциклопедии, явлением случайным, в отличие от позднейших, организованных сверху, и не поколебал еще настроения, а одесская община считалась в еврействе очагом свободомыслия и ереси. В тяготении к русской культуре был, бесспорно, и практический соблазн: ряд крупных реформ – судебная, земская, городская – предъявили небывалый спрос на людей с высшим образованием и поставили их в привилегированное положение. Но, сопоставляя обрывки воспоминаний, я все же думаю, что гораздо важнее и значительнее было моральное влияние этой замечательной эпохи. Меньше всего тогдашние отцы, и тем более матери, способны были усвоить мудрую педагогическую мысль Льва Толстого, что в интересах разумного формирования детской души родители должны себя воспитывать и за собой следить, – не было иначе и в нашей семье. Но ради успешного приобщения к русской культуре сделано было едва ли не единственное исключение, стоившее больших усилий: между собой говоря на жаргоне (мать была еле грамотна), с детьми и при детях родители объяснялись по-русски, при еврейской прислуге няня у нас была православная, благодаря чему с детства русский язык стал родным и диктовки в классе я писал лучше всех.
Обособленность еврейства была основательно подточена, и внутри его произошли большие сдвиги: прежнее стойкое расслоение по признаку религиозному – аристократами считались потомки раввинских семей – уступило место образовательному цензу: университетский диплом устранял существеннейший, особенно при заключении брака, вопрос «откуда?» и открывал все двери. Однако всякое лицо имеет и изнанку: подтачивание обособленности естественно сопровождается разложением сложившегося уклада жизни и упомянутым уже выветриванием традиций. Кстати сказать – новых традиций мое поколение, и не только еврейское, так и не успело, к сожалению, нажить вследствие быстрой капризной смены политической и общественной обстановки. Ассимиляция всегда и неизбежно начинается с усвоения того, что наиболее крикливо, что резче бросается в глаза, с прельщения пеной, поднимающейся и заманчиво волнующейся на поверхности.
Такая тенденция сказалась, конечно, и в обширной гессенской семье. Ее гордостью долго считался один из двоюродных братьев, самый старший (лет на десять старше меня) – прилизанно смазливый, настоящий сноб и прожигатель жизни, непререкаемый законодатель мод и хорошего тона. Перед ним преклонялись все дяди и тетки, но нам, кузенам, он нимало не импонировал. Младший дядя, изобретатель «гессенки», открывший молдавским магнатам новые пути к обогащению (на месте им приходилось продавать хлеб за бесценок), сумел установить с ним не только деловые, но и личные отношения и дом свой устроил совсем на светский лад. Однажды он пригласил к обеду приехавшего из Никополя своего двоюродного брата, о котором речь будет еще впереди. Неожиданно в тот же день приехал из Кишинева богатейший помещик, предводитель дворянства Катаржи, которого тоже нужно было позвать к обеду. Когда двоюродный брат, по провинциальному обычаю – спозаранку, явился на приглашение, дядя стал его заботливо осматривать, щеткой смахивать пылинки с платья и, придя в отчаяние от добротного, но старомодного сюртука, сказал: «Знаешь ли, Исаак, сегодня должен приехать к обеду Катаржи, и я боюсь, что он тебя будет стеснять. Вот тебе три рубля, ты с большим удовольствием пообедаешь в Лондонской гостинице». Связи с бессарабской знатью помогли ему добиться для сына небывалого исключения: он поступил вольноопределяющимся в кавалерию и, по окончании службы, вышел в офицеры. А дочь, первая любовь моя, редкая классическая красавица, была во втором браке замужем за сановником и от семьи своей отреклась. О ней упоминает государыня в одном из опубликованных писем к государю, ходатайствуя об оказании ей покровительства.
Однако такие уродства, исчерпывающе отмеченные, чтобы предотвратить упрек в нарочитом замалчивании, остались единичными. В общем же крушение традиций и приобщение к русской культуре отразилось среди моего поколения целым рядом обращений в православие из-за браков с христианами и других житейских побуждений. Но этому обращению уже ничего не оставалось прибавить к исповедуемому примату интересов родины, горячей любви к ней и неразрывной спаянности с русской культурой – равно как, с другой стороны, не могло оно ослабить боли и горечи от ударов, сыпавшихся на еврейство. А с переходом в христианство сочеталось среди нас другое массовое явление – тяга вон из Одессы, в центр умственной и политической жизни России.
К концу прошлого века в Петербург переселилась добрая дюжина кузенов и кузин, представлявших все интеллигентные профессии – академическую, публицистическую, медицинскую, инженерную, а также и крупную промышленность, и никто из этих пионеров не затерялся в холодной и строгой столице, а иным довелось даже сыграть некоторую роль в общественной жизни родины.
Расставаясь здесь с детскими воспоминаниями, я с пронзительной ясностью вижу перед собой единственную семейную фотографию – сниматься тоже относилось к числу «нежностей». В центре группы, в овальной золотой рамке, как живая сидит задыхающаяся от смеха мать, держа на руках недавно родившуюся сестренку нашу, испортившую ее нарядное платье как раз в торжественный момент, когда фотограф, подняв палец, произнес магическое: спокойно! – и мать не смеет шелохнуться. Она сидит между бабушкой, в отживающем уже парике, и своей кузиной, женой брата ее, тоже улыбающимися неожиданному происшествию. А по краям стоят два мальчика в бархатных курточках, коротких штанишках, длинных белых чулках, заложив, очевидно по приказу фотографа, ногу на ногу. Я смотрю на того, что стоит слева, доверчиво прижавшись к бабушке, и скажу откровенно: он нравится мне, этот круглолицый человечек, строго исполняющий требование сохранять серьезный вид и устремивший сосредоточенный взгляд вопрошающих глаз в указанную ему точку. Но я не ощущаю никакой связи с ним, не могу ощутить преемства и даже не мысленно, а так-таки вслух спрашиваю: ты-то мне нравишься, но доволен ли ты мною? Он все сосредоточенно смотрит в одну точку, а мне так хотелось бы внушить, что иначе быть не могло, и, если бы с проделанным уже опытом жизни начать сначала, в той обстановке, в тех условиях, которые только таковыми и могли быть, – получилось бы приблизительно то же самое. И вдруг начинает шалить воображение: а может быть, потому он и смотрит так сосредоточенно в одну точку, что она была пред-указана на всю жизнь.
5
Ф. И. Родичев – политик и общественный деятель, член Государственной думы всех четырех созывов, вместе с И. В. Гессеном являлся одним из основателей Конституционно-демократической партии.
6
Опресноки – пресный хлеб, приготовленный без использования закваски.
7
Агад – часть талмудической литературы.