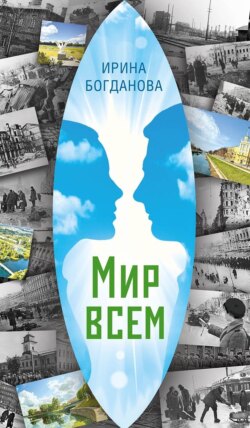Читать книгу Мир всем - Ирина Богданова - Страница 2
1945 год
Антонина
Оглавление«Тоня, Тоня, Тонечка…» – выстукивали колёса теплушки по стыкам рельс. В отличие от музыки колёс паровозный гудок не частил, а, медленно набирая высоту, выпевал сочно и густо: «Антонина, Тоня, Тонечка!» Мне нравилось улавливать своё имя посреди умиротворяющих звуков поезда, который нёс нас, демобилизованных девушек, из пекла военных лет в полузабытую мирную жизнь с бодрыми песнями, танцплощадками в парке и восхитительным запахом пирожков в городских буфетах.
Я люблю ездить в поезде! Славно сидеть у окна, прихлёбывать крепкий чай из стакана в подстаканнике, наблюдая, как косогоры сменяются деревенскими домиками, а между частокола берёз проблескивает тёмно-фиолетовая гладь озёр и рек. Неспешно течёт беседа со случайными попутчиками; возле купе проводницы всегда пышет жаром бойлер с кипятком, и непременно в тесном тамбуре в ожидании своей станции курит кто-нибудь из пассажиров.
Но сейчас я ехала не в купе пассажирского поезда и даже не в плацкарте: меня везла в СССР обычная армейская теплушка, насквозь пропахшая запахом табака и угольного дыма. Из немецкого Потсдама мы ехали день, ночь и ещё день, то и дело пропуская вперёд литерные эшелоны и санитарные поезда.
Наша теплушка долго стояла на какой-то станции, тусклой и серой, как мелкий августовский дождь, зарядивший трое суток назад. Правда, сейчас небо понемногу начинало пестреть лоскутами прорех с редкими бликами неяркого солнца. Серебряные лучи насквозь пронизывали тучи и отвесно падали на перрон из мокрой мелкой щебёнки. В осевшее набок здание вокзала дулом воткнулся немецкий «Тигр». Хотя война закончилась два месяца назад, танк не трогали с места, и он остался стоять напоминанием о тяжёлых боях, прогремевших над этим польским городком с замысловатым названием то ли Анрыхув, то ли Анрохов – не разобрать, потому что щит с названием станции перекорёжило взрывом.
Перрон около состава кипел людьми, которые что-то продавали, покупали и менялись. Пассажиры лезли в карманы, отсчитывали деньги или меняли продукты на товар, оглядывались по сторонам и бежали к своим эшелонам, до отказа заполненным солдатами.
Разноголосый шум толпы перекрывали свистки паровозных гудков, шипение пара локомотивов и заливистые переливы гармошки из состава напротив, где тоже ехали домой демобилизованные.
Я оперлась спиной на раскрытую дверь вагона и переступила босыми ногами по нагретому полу. И пол, и ноги по части чистоты оставляли желать лучшего. Зато можно сколько хочешь ходить без сапог, в жару расстёгивать ворот гимнастёрки, и даже – вы подумайте – не отдавать честь командному составу! От этой привычки оказалось отучиться труднее всего, и при виде офицера спина сама собой выпрямлялась, а рука тянулась к виску.
Я подумала, что если захочу, то подойду вон к тому высокому майору, что покупает у старухи яблоки, и попрошу закурить. Обращусь небрежно, как к старому приятелю:
– Товарищ майор, не угостите ли даму папиросочкой?
Я прыснула от смеха, во-первых, потому что я не курю, а во-вторых, потому что придуманная ситуация напоминала сценку из кинофильмов про борьбу нашей доблестной милиции с преступностью и развратом. Словно угадав мои мысли, майор оглянулся, и я смело встретила взгляд его огненно-чёрных глаз.
– Пани, проше купить, – к вагону подошла пожилая женщина с туго повязанными волосами и показала лаковые туфли-лодочки, именно такие, о каких я мечтала перед войной. На глаз был точнёхонько мой размер. Не знаю почему, но мне было стыдно покупать с рук у обездоленных, стыдно торговаться и стыдно носить, зная, что куплено за бесценок. Я помотала головой:
– Нет, не надо!
Но женщина не отставала. Поставив туфлю около моей ноги, она назвала цену, совсем смехотворную.
– Проше, пани, дзети. Мои дзети хотят есть.
Глаза женщины налились слезами, и я не выдержала:
– Подожди, я сейчас.
От сухпайка на дорогу у меня оставалось несколько банок тушёнки, два брикета горохового концентрата и буханка подсохшего хлеба, терпко пахнущего ржаными армейскими сухарями.
Одну банку «второго фронта» – так в войсках именовали американскую тушёнку – я оставила себе на пропитание, а остальное принесла женщине:
– Вот, возьми.
Она сгребла продукты одним жадным движением, как долго голодавший человек:
– Дзякуе бардзо.
От резкого поклона ворот её блузки распахнулся, обнажив молочно-белую шею с крупным золотым кулоном в виде капли.
У моей мамы тоже был золотой кулон, но из писем на фронт я знала, что мама отнесла его в церковь, когда Ленинград собирал деньги на танковую колонну. А потом мама умерла от голода. Я сглотнула набежавшие слёзы.
И мне сразу стало противно смотреть на лакированные туфли, купленные у польки с золотым кулоном. А может, её украшение – это память? Последняя память о дорогом человеке, бережно хранимая до самой смерти? Я оборвала свои мысли и оглянулась на девчонок, ехавших со мной в одном вагоне. Наташка, с которой я успела подружиться, оторвалась от чтения газеты «Звезда». Газеты мы ценили на вес золота и передавали их из рук в руки, пока не зачитывали до дыр.
– Антонина, никак ты хрустальные башмачки прикупила? Дашь примерить?
– Я ещё сама не меряла! – Я покосилась на грязные ноги и пошевелила пальцами. – На следующей станции встану под колонку, вымоюсь как следует и примерю.
Наташа хмыкнула:
– А я только что искупалась. Зря ты не пошла с нами на пруд! Вода хоть и мутная, но приятная!
Наташа потянулась к туфлям, рассмотрела мою обновку со всех сторон и щёлкнула пальцем по подошве:
– Ой, девчонки, смотрите, подошва-то картонная!
– Как? Как картонная?
Сорвавшись со своих мест, девушки окружили Наташу, и их возгласы колокольцами рассыпались по вагону:
– И впрямь картонная! Ну надо же! Вот жулики!
– Тонька, давай найдём ту тётку и всыплем ей по первое число! – уперев руки в боки, выкрикнула связистка Катя. Её тёмные глаза зло сощурились. – А как кланялась, как кланялась! Про детей рассказывала. Аферистка! Давить жульё надо, как вшей давить! Мы за них кровь проливали… Я на гражданке сразу в милицию пойду проситься! – Она крепко сжала кулак. – Ух, ненавижу! Тонька, и ты не давай им спуску! Пошли на розыски! Надаём ей туфлями по морде!
– Не пойду, Катюша. Да и поезд вот-вот тронется. Отстанем от эшелона, как догонять?
С высоты вагона я посмотрела на кипящую толчею перрона и внезапно поняла, что устала. Устала трястись в теплушке, устала спать на нарах, устала разговаривать с девчатами – ничего не осталось из чувств, кроме усталости. Наверное, так действует послевоенное время, когда разрывы снарядов внезапно сменяются нереальной гулкой тишиной, внутри которой слышно зудящее жужжание шмеля на цветке, и хочется сидеть и слушать его, не шевелясь и не рассуждая о смысле жизни.
Наташа протянула мне туфли:
– Ты их возьми, не выбрасывай. Верх-то хороший. В Ленинграде тебе любой сапожник подошву приделает. Наденешь, пройдёшь по улице королевой – все женихи к ногам упадут!
– Да ну их, женихов. – Я сунула туфли в вещмешок и завалилась на койку, думая о том, как он встретит меня, Ленинград, ещё далекий, но всегда близкий.
* * *
Ночью налетела гроза. Со своей койки напротив узкого окна под потолком я видела белые вспышки молний, похожие на разрывы фугасных снарядов. Всполохи на несколько мгновений освещали ряды нар в теплушке и крепко спящих девушек. Санинструктор Надя спала на спине, раскинув по сторонам руки; радистка Марина свернулась калачиком; у суровой заведующей аптекой медсанбата Раисы Васильевны русая коса свешивалась до полу.
«За всю войну отсыпаются», – подумала я вскользь, памятуя о горячих днях наступления, когда не то что поспать – глоток воды не удавалось сделать. Крепко вбитая в душу война не отпускала, то и дело прокручивая в мыслях отгремевшие бои и минуты затишья.
Гулко и дробно по крыше замолотил дождь, разбавивший сонную тишину в вагоне монотонным шумом. Накануне вечером начальник поезда – майор с хитрыми весёлыми глазами – сказал, что наш состав выгрузят в Могилёве, а дальше надо будет добираться своим ходом. Девчонки заволновались, загалдели: как же так? Обещали довезти до Смоленска, а теперь на попятную! Судя по выражению лица майора, ему постоянно приходилось оправдываться за действия вышестоящих инстанций. Он с тоской посмотрел вдоль поезда, нащупывая взглядом светофор с красным глазом фонаря, и коротко отрезал:
– Приказ. Вы люди военные, должны понимать. До Могилёва – значит до Могилёва, и баста!
Могилёв… Город, некогда входивший в состав Польши и без боя открывший ворота русской армии во время Речи Посполитой; город, не раз отражавший польско-литовские осады; город, в котором последний российский император отрёкся от престола; несостоявшаяся столица Белоруской Советской Социалистической Республики, и город, в котором до войны жила моя бабушка – мамина мама.
Бабушку звали по-старинному красиво и звучно – Евпраксия. Я называла её бабуся, а все окружающие с уважением обращались к ней Евпраксия Поликарповна. Да и как иначе? Ведь бабушка была учительницей. И не просто учительницей, а Первой учительницей. Именно так, с заглавной буквы, каллиграфически выписанной красными учительскими чернилами в школьной тетради. Сколько первоклашек прошло через её руки!
Закрыв глаза, я отчётливо вспомнила гладкие серебряные волосы, забранные в тугой узел на затылке, ясную лёгкую улыбку, от которой лицо бабуси мгновенно становилось молодым, и спокойный громкий голос с ласковой интонацией. Я точно знала, что если бы бабуся меня сейчас видела, она сказала бы:
– Не вздумай плакать, Антонина! Война закончена, и теперь нет времени на слёзы и стоны. Надо собрать волю в кулак и начинать работать, как бы трудно ни приходилось. Огромную страну надо поднимать и отстраивать, и вы должны сделать это ради нас, не доживших до победы!
«Будет трудно! Будет трудно!» – отстукивали ритм колёса поезда. Сев на нарах, я сгорбилась на краешке и зажала руки между коленями. Бабушка точно отругала бы меня за дурные привычки сутулиться и унывать.
О том, что бабушки не стало, я узнала в июле сорок четвёртого, когда передовые части Красной армии штурмом взяли Могилёв.
Я шла по разбитой улице с руинами домов, глядящих на меня страшными пустыми глазницами окон. Сквозь тёмные проёмы стен проглядывало неправдоподобно синее небо под белой кисеёй облаков. Я тогда подумала, что облака похожи на тюлевые занавески, что висели в бабусиной комнате. Она всегда любила чистоту и уют. Нетерпение увидеть бабулю гнало меня в глубь квартала, и я почти бежала, заставляя себя выбрасывать из головы страшные мысли о гибели мирного населения и о зверствах нацистов. Ведь остались же в Могилёве живые! Не могли фашисты всех убить! Я с жадностью вглядывалась в жителей, которые копошились на развалах домов в надежде отыскать что-то пригодное для хозяйства. Пару раз я увидела посреди развалин небольшие костерки, на которых люди готовили себе еду. Женщина с тележкой подняла руку и перекрестила группу солдат. Несколько оборванных ребятишек сидели на обломках кинотеатра и жевали по куску хлеба, наверняка из солдатских пайков. Над городом витал неистребимый запах гари, порохового дыма и разлагающейся плоти. И хотя город казался полумёртвым, по его улицам уже летала надежда на мирную жизнь, то и дело вспыхивающая улыбкой на измождённых лицах людей.
Я прошла мимо остова немецкого танка, повернула за угол и шумно выдохнула: дом, где жила бабуся, стоял побитый, израненный, но невредимый. Слава Богу! Я перевела дыхание. Теперь осталось самое трудное – сделать несколько шагов, чтобы рассказать бабусе, что моя мама, её единственная дочь, погибла в блокаду. Каждый метр пути был как полёт над пропастью. Под неистовый стук сердца я несколько мгновений простояла у подъезда с вывороченной дверью. На первой ступени лестницы лежала куча штукатурки и комок каких-то пёстрых тряпок, то ли бывший коврик, то ли одеяло. Видимо, наверху никто не жил – если бы люди поднимались на второй этаж, то хотя бы отгребали мусор в сторону. Меня привлекли странные долбящие звуки во дворе, и я, оттягивая момент жуткого узнавания, повернула на шум.
Под сломанным каштаном на корточках сидел человек и молотком забивал гвоздь в дно маленького ковшика. Пробив одну дырку, он зыркнул глазами по сторонам и снова замахнулся. Я вскрикнула:
– Что вы делаете?
Он поднял голову и пожал плечами:
– Нашёл вот, понимаешь, ковшичек, в соседнем дворе. Никому не нужен. Вот я и прибрал к рукам. Сделаю дуршлаг, чтобы макароны сливать. – Он улыбнулся пустым ртом без единого зуба. – Только макарон-то нету. И ничего нету. Ты, видать, военная. Не слыхала, говорят, в центре разворачивают полевые кухни народ кормить?
– Не слыхала.
Скинув заплечный мешок, я достала пакет горохового концентрата и протянула мужичку:
– Возьмите. Кинете в горячую воду, будет суп.
– Спасибо, дочка. – Он подслеповато посмотрел мне в лицо. – Ты чьих будешь? Местная, что ли?
– Местная. Почти. Бабуся у меня тут, Ев праксия Поликарповна. Знаете её?
Мужчина прижал к груди ковшик и резко встал. Глубокие морщины вокруг его рта подчёркивали старость и немощь. Он потёр лоб:
– Антонина? Не помнишь меня? Я дядя Вова. Наш барак вон там, – он кивком указал в направлении нескольких деревянных домов, теперь сгоревших дотла. – Ты как-то маленькая на заборе повисла, а я тебя снимал. У тебя ещё платье было в горошек. Красное такое.
Платье я отлично помнила, а дядю Вову нет. Из вежливости я сделала вид, что вспомнила, и улыбнулась:
– Дядя Вова, что с бабушкой? Где она?
Дядя Вова испуганно моргнул, и по его лицу, внезапно ставшему серым, я без слов поняла, что последует дальше.
– Убили Евпраксию Поликарповну, – гвоздём по стеклу надсадно скрипнул голос дяди Вовы. – Зимой сорок второго убили. – Он кивнул головой в сторону дровяных сараев, где мы с подружками любили играть в прятки. – Прямо здесь, во дворе застрелили. – Он облизал пересохшие губы. – К нам тогда мальчонка прибился из беженцев, видать из польских евреев. Немцы его и давай шпынять, как соломенную куклу туда-сюда: то ногой пнут, то прикладом ударят, забавляются. Мальчонка плачет, а им весело, регочут, как гуси у корыта. А бабушка твоя, Царствие ей Небесное, выскочила, заслонила его собой и крикнула: «Палачи проклятые! Оставьте ребёнка в покое! Есть у вас совесть или нет?» На весь двор крикнула, я сам слышал. Ну, фрицы и дали очередь из автомата… – Дядя Вова оборвал речь и заглянул мне в глаза. – Вот такие дела, Тонюшка. Ты уж на меня не обижайся.
– За что? – Воздух вокруг сгустился настолько, что я едва смогла протолкнуть ком в горле.
Дядя Вова слегка пожал плечами и опустил голову:
– За то, что жив остался.
Я не стала подниматься в бабушкину квартиру, а побрела обратно в своё подразделение, думая о том, что правильно поступила, когда весной сорок второго пришла в военкомат и упрямо заявила тощему капитану с седой прядью надо лбом:
– Я учительница младших классов, но требую отправки на фронт бить фашистов. В любом качестве.
Военком смотрел на меня не дольше одной секунды. Наверное, ему хватило оценить решимость на моём лице и прихваченный с собой вещмешок с необходимыми вещами. Дома меня больше ничего не держало: учеников из школы, где я преподавала после педагогического техникума, эвакуировали, а маму я накануне завернула в простыню и отвезла в помещение Дома культуры, куда складывали трупы со всего района. Я не плакала – ленинградцы вообще не плакали, потому что на слёзы нужны силы. Сила оставалась лишь на ненависть, да ещё упрямство мешало упасть на кровать и умереть.
Пока военком думал, я смотрела на портрет Сталина, который наискось пересекал луч солнца из окна, и нетерпеливо комкала в руке носовой платок. До сих пор не понимаю, зачем я его достала.
– Пойдешь в дорожно-эксплуатационный батальон, мы туда как раз набираем призывников. – Военком окунул ручку в чернила. – Как фамилия и сколько лет?
– Вязникова Антонина Сергеевна, двадцать два года.
* * *
Наш дорожно-эксплуатационный батальон выполнял задачу регулирования транспорта в прифронтовой полосе и обустройство дорог. Иссечённые взрывами фронтовые дороги представляли собой то яму, то канаву, наскоро залатанную бригадой ремонтников. По сторонам громоздились остовы разбитой техники и торчали таблички «Проверено, мин нет». И гарь! Везде, куда ни повернись, чувствовался запах гари, казалось намертво въевшийся в дорожную пыль. На первые несколько месяцев службы моим оружием стали деревянные носилки с шершавыми ручками, на которых помещалось ровно двадцать пять лопат щебня для засыпки дорожных выбоин. Если щебень не подвозили, то мы мостили дороги из подручных материалов: мужчины валили лес, а мы, девушки, таскали жердины на дорогу и плотно укладывали, чтоб смогли проехать машины. От кровавых мозолей на ладонях я тихонько скулила от боли и завидовала тем, кто бьёт врага оружием, а не лопатой. Следующей зимой началось наступление наших войск по прорыву блокады, и девушек-дорожниц откомандировали выполнять свои прямые обязанности. Как знак отличия нам выдали по красной нарукавной повязке со знаком «Р», и я стала военной регулировщицей: в правой руке жёлтый флажок, в левой красный. Ночью флажки заменялись фонарями с цветным стеклом – зелёным и красным.
– Теперь я светофор, – засмеялась кудрявая Лариса с Охты, едва нас в первый раз вывели на учёбу в поле. Ларису убьёт прямым попаданием снаряда через неделю после начала работы. Она будет моей напарницей и поменяется со мной сменами – дневную на ночную, чтобы отоспаться.
Разноцветные огни фонарей в руках девчат отбрасывали во тьму весёлые разноцветные блики. Зелёный и красный цвет дробился, мелькал, рассыпался брызгами под ногами, навевая праздничное настроение то ли сказки, то ли предчувствия новогодних чудес.
Обучение оказалось коротким и ёмким. К концу месяца я могла с закрытыми глазами разобрать винтовку со штыком и без запинки отрапортовать правила регулировки. Наш старшина сумел крепко вбить правила в наши девичьи головы:
– Запомните, бойцы, все сигналы начинаются с исходного положения: обе руки с флажками или фонариками опущены вниз.
Поднятый вверх жёлтый флажок призывал водителей сбросить скорость и привлечь внимание к опасным местам. Жёлтый флажок на уровне груди разрешал движение прямо и поворот направо тому транспорту, к которому регулировщица стояла боком. Жёлтый флажок в вытянутой перед собой руке разрешал беспрепятственный поворот налево, направо и движение прямо транспорту, к которому регулировщица обращена левым плечом. Поднятый вверх красный флажок – сигнал «стой» для всех направлений.
Теперь, наверное, мне до конца жизни будет сниться поток машин, повинующийся одному моему движению, где я на глаз могу отличить начинающего шофёра от опытного, а пьяного лихача (бывало и такое) заметить ещё на подъезде к перекрёстку и успеть преградить ему путь. На службе дни и недели сливались в сплошную череду дежурств и коротких минут отдыха. Однажды во время наступления мне пришлось стоять на перекрёстке двое суток, пока я не упала в обморок от усталости. У меня до сих пор горят щёки от стыда, едва вспоминаю сгрудившихся вокруг военных и властный голос какого- то командира:
– Отойдите, дайте мне взять её на руки!
Меня поднимают, несут в сторону от дороги, а я отбиваюсь, как вытащенная из воды рыбина, и пытаюсь встать на подгибающиеся ноги. Единственная радость – я была в солдатских брюках, а не в юбке, иначе лучше было бы сквозь землю провалиться!
Ещё в памяти встают бесконечные колонны пленных немцев. Они шли в сопровождении наших солдат голодные, измученные, кое-как перевязанные грязными тряпками, с осунувшимися лицами, в которых не осталось ничего от сытых и уверенных солдат рейха сорок первого года. Они вызывали жалость и презрение.
Обидно, но наш взвод пропустил день победы. В мае наше подразделение выполняло задачу регулировать трассу для перегона скота из Германии на Украину с тем, чтобы скот шёл не по асфальту, а копытил просёлочные дороги, не мешая движению войск. Регулировщицам выдали старые трофейные велосипеды, и мы мотались по своим участкам, проверяя указатели и состояние дорог. С задания возвращались грязные, голодные, усталые, наскоро перекусывали из общего котла и валились спать. Мы тогда остановились на отдалённом фольварке, откуда сбежали хозяева. Сломанный радиоприёмник молчал, а газеты нам не завозили уже несколько дней. Когда поднялась стрельба, я спала на кушетке под окном, куда в стекло стучали ветки цветущей яблони. От сильного грохота зазвенела ложка в жестяной кружке и всколыхнулись занавески на окнах. Меня подкинуло вверх, как от толчка в спину.
– Тревога! По местам, живо! Похоже, прорвались немцы! – закричал наш взводный лейтенант Кубыщенков. – Вязникова, оставайся у своего окна, Ломова – на второй этаж, Кохеидзе – к входу! Остальные за мной! Без моей команды не стрелять!
Мы простояли на постах до утра, пока звуки канонады не откатились за кромку леса и не затихли. После команды «отбой» нам оставалось полчаса, чтобы умыться, поесть и мчаться по своим участкам. У моего велосипеда как на грех спустило колесо, и я замешкалась. Хвалёный немецкий насос при нажатии шипел, как рассерженная змея, и едва качал воздух.
– Здоровеньки булы, Тоська, подсобить?
Я сердито обернулась. Ненавижу, когда меня называют Тоськой, да ещё такие сопляки, как мальчишка-вестовой из соседней части. Он стоял, перекинув руки через автомат, с блаженной улыбкой на лице, сплошь покрытом веснушками.
– Если помощь и нужна, то не от тебя. Обойдусь без горе-помощничков.
Он улыбнулся ещё шире и присел на корточки рядом со мной.
– Хоть ты и вредина, но накачаю тебе колесо ради праздника.
– Это какого такого праздника?
Вестовой выкатил на меня глаза бурого болотного цвета, и я усмотрела в них искреннее изумление.
– Ты что, совсем того? – Он покрутил пальцем у виска, – Ведь победа же! Вчера капитуляцию подписали! Мы такой салют дали, что чертям в аду тошно стало. Слыхали небось?
У меня в голове словно взорвалась граната, и несколько мгновений я видела полностью оглушённая, а потом заорала как ненормальная:
– Победа! Товарищи, победа! Мы победили! Ура!!!
Я орала и целовала рыжего вестового куда ни попадя: в щёки, глаза, лоб, а он, остолбеневший и смущённый, стоял руки по швам и не смел пошевелиться.
Наверное, так громко я никогда не кричала, потому что горло болело несколько дней. Буйная радость вскоре сменилась растерянностью с мыслями о теперь незнакомой мирной жизни, где нет приказов командира, а каждый сам за себя. Позади лежала огромная война, а впереди простиралась неизвестность.
Почти всё лето наш батальон продолжал нести службу, пока в середине августа не пришёл приказ о демобилизации.
Задумавшись, я не заметила, как за окном теплушки закончился дождь и в приоткрытую дверь вагона мягко прокрался холод предрассветного тумана. Если верить поездной бригаде, то к вечеру нас высадят в Могилёве, а дальше своим ходом.
* * *
В Ленинград я приехала на попутной полуторке, сидя в кузове посреди туго набитых мешков с крупой. Из прорехи в одном из мешков высыпалось несколько крупинок грязножёлтого пшена, и я сунула их в рот. Не потому, что хотелось есть, а потому, что по мере приближения к городу в подсознание возвращались блокадные привычки не дать пропасть ни одной крошке еды. Шинель я несла в скатке через плечо пропылённой насквозь гимнастёрки, отчаянно мечтая раздеться и вымыться, желательно тёплой водой, но сойдёт и холодная.
Стояла облачная, но тёплая погода с лёгким ветром, пахнущим придорожной пылью. Ближе к городу замелькали засаженные картошкой поля и выжженные деревни с печными трубами на месте домов. На Пулковских высотах от Обсерватории остались одни руины. Когда-то в школе наш класс водили сюда на экскурсию, и милая девушка в очках рассказывала нам об уникальных телескопах, которые позволяют открывать новые звёзды. Помню, после той экскурсии добрая половина учеников из нашего класса решила стать астрономами, но следующая экскурсия на кондитерскую фабрику качнула весы в сторону пищевой промышленности.
Удерживая Пулковский рубеж обороны, здесь полегло несколько дивизий. Отсюда, с Пулковских высот, прозвучал первый снайперский выстрел по врагу ополченца Феодосия Смолячкова, после чего по всем фронтам прокатилось движение снайперов-истребителей. Когда Смолячков открыл счёт уничтоженным фашистам, ему едва исполнилось восемнадцать лет. Зимой он погибнет, и звание Героя Советского Союза получит уже посмертно. Вечная память! Я тоже хотела пойти в снайперы, но после строгого отбора из нашего взвода на курсы взяли только маленькую тихую Галю, похожую на девочку-подростка, и смешливую татарочку Фариду, которая умела почти не целясь выбить на мишени десять из десяти.
С Пулковских высот южная часть города просматривалась как на блюдечке, утопая в мягкой сизой дымке, милосердно маскирующей следы разрушений. У меня забилось сердце. Даже в состоянии бедствия мой родной город был прекрасен.
Прежде чем поднять шлагбаум на въезде в город, молодой солдатик на контрольнопропускном пункте долго и вдумчиво изучал документы, сосредоточенно хмуря пшеничные брови так, словно хотел разглядеть в моём предписании тайные масонские знаки.
– Буквы, что ли, знакомые ищет? – прошипел мне на ухо шофер. Я пожала плечами, не отрывая взгляда от силуэтов зданий, окутанных серым ленинградским небом. Я так долго мечтала вернуться домой, что городские кварталы казались мне миражами, случайно возникшими в воображении. Город втягивал меня в себя, подобно песчинке, попавшей в водоворот смерча. И если ногами я ещё стояла возле пропускного пункта, то душа уже парила над дорожками Летнего сада с любимой горожанами статуей баснописца Крылова.
Солдатик протянул документы и кивнул напарнику:
– Пропускай.
Шлагбаум медленно пополз вверх, отпирая дорогу в Ленинград, и мне вдруг стало тревожно, как перед прыжком в глубину.
Распахнув дверь кабины, шофер недовольно зыркнул на постового:
– Видала, начальство из себя строит. Молоко на губах не обсохло, а морда уже кирпичом.
Хотя лицо солдатика совершенно не походило на кирпич, я благоразумно промолчала – с тем, с кем предстояло ехать через весь город, лучше не спорить по пустякам. Тем более, что шофёр вез меня из-под самой Луги и не намекал ни на какую оплату.
Время подходило к вечеру, и низкое солнце уже набросило на крыши домов невесомый розовый полог. Привстав на коленях, я увидела трамвай на Международном проспекте[1] и поняла, что больше всего на свете сейчас хочу поехать на трамвае – ленинградском, настоящем, с деревянными сиденьями и суровой кондукторшей, которая оторвёт мне билетик из бобины, подвешенной на груди, и сунет в руку со словами:
– Не задерживайте движение, гражданочка. Пройдите на свободные места.
Трамвай тронется с остановки, я втиснусь между пассажирами, ухвачусь за петлю ремня на поручне и почувствую, что я наконец дома.
Извернувшись ужом, я заколотила кулаком по крыше кабины полуторки:
– Друг, останови, останови, пожалуйста, я сойду! Дальше сама доберусь.
За плечами вещмешок, через плечо скатка шинели, в руке фанерный чемодан. Сколько раз я проклинала его тяжесть! В нём уместились злополучные туфли на картонной подошве, ватник, шапка-ушанка, сменная гимнастёрка, форменная юбка, пара нижнего белья, включая, стыдно признаться, мужские кальсоны, без которых можно было замёрзнуть на трассе, если регулировать движение только в ватном комплекте на голые ноги. Помимо одежды я везла из Германии один-единственный трофей – фарфоровую пастушку, подобранную в разбомблённом доме. Некоторые из моих знакомых ухитрялись набить полные чемоданы посуды и ложек-вилок с вензелями хозяев, а уж без полезных мелочей, типа перочинного немецкого ножичка или стальной зажигалки, мало кто возвращался.
Воровать и мародёрничать строго воспрещалось, но трофейное имущество можно было купить. Постановлением Государственного комитета обороны демобилизованные имели право оплатить то, что увезут с собой домой в разорённые города и сёла. Например, в одни руки со склада разрешалось отпустить шесть метров ткани – из них три хлопчатобумажной и три шерстяной или шёлковой. Допускалось взять один предмет неношеной одежды. Шутки ради наш сержант зачем-то взял новенький китель немецкого офицера, и его благополучно пропустили на проверке. Особым спросом пользовались швейные машины и патефонные иглы. Но я не взяла ни того, ни другого. Чугунную «Зингер» я бы не дотащила, а патефоном обзавестись не успела.
Однажды на Львовщине мы нашли в немецкой комендатуре целый ящик отличных электрических фонариков со сменным стеклом. Фонарики разошлись по рукам в мгновение ока. Отказалась одна я. Хотя зря, наверно, – надёжный фонарик всегда пригодится в хозяйстве. Лично мне претило есть из фашистских тарелок и пить из фашистских чашек, но пастушка… Каким-то чудом она уцелела при попадании снаряда и стояла на полке камина, весело взирая на царивший вокруг хаос – яркое цветовое пятно посреди пыльного марева. Смешно, но каштановыми волосами и зелёными глазами она показалась похожей на меня, если надеть соломенную шляпку, пёструю юбку и белоснежный фартук с кружевами. Теперь пастушка лежала в рукаве ватника для безаварийного прибытия на постоянное место жительства.
В ожидании трамвая я опустила чемодан на землю. Кроме меня на остановке стояла лишь одна женщина с усталыми глазами и сединой в волосах. Она повернулась ко мне:
– Вы за чемоданчиком получше приглядывайте. А то подскочит какой-нибудь мазурик и оглянуться не успеете, как без вещей останетесь. – Она вопросительно подняла брови. – С фронта? Демобилизованная?
– Да, демобилизованная. – Я была рада поговорить с ленинградкой, просто чтобы услышать родной говор, по которому скучала три долгих военных года.
– И где служили?
– Регулировщицей на дорогах, – я улыбнулась, – так что стрелять не довелось. Ну, почти не довелось. – Я не стала рассказывать про прорыв немцев подо Львовом и про то, как по нам прямой наводкой били вражеские зенитки.
Попутчица убрала со щеки прядь волос и скользнула взглядом поверх моей головы в перспективу Международного проспекта:
– А моя дочка была санинструктором. Убили её на Невском пятачке. Ещё в сорок втором убили. Вот еду к генеральше Вершининой помолиться за её душу.
Я не поняла её слов и машинально переспросила:
– Куда едете?
– На кладбище Новодевичьего монастыря. Сам-то монастырь давно порушен, но люди ходят на могилу генеральши к изваянию Спасителя. Он там как живёхонький стоит, только бронзовый. Мне соседка подсказала. Церкви закрыты, а на кладбище кто может запретить пойти? Никто! Помолишься – вроде как и легче становится. Хотя куда там легче: сейчас в каждом доме по своему горю за столом сидит и ложкой стучит. – Она опустила голову и тяжело замолчала, перебирая ручки сумки авоськи, в которой лежал завёрнутый в газету тугой свёрток.
В трамвае мы с женщиной больше не разговаривали. Она сошла около остановки «Московские ворота». Сами ворота перед войной разобрали, и я хорошо помнила их стройную колоннаду из серого камня, предварявшую вход в город. Обидно, когда историю государства Российского своими руками крушат жители. Я проследила взглядом проплывающую мимо стену Новодевичьего монастыря с обезглавленными церквами и вздохнула: хочется верить, что разум возобладает и всё разрушенное снова восстанет в первозданной красе. Как прекрасен был бы тогда Ленинград, где старая история перекликается с новой и обе они дополняют друг друга как одно целое.
Я жила на Семнадцатой линии Васильевского острова. Когда царь Пётр строил город, он решил пересечь Васильевский остров каналами на манер Венеции. Берега продольных каналов назвали линиями, а поперечных перспективами. Но нрав Невы оказался слишком непокорным, и каждую осень река выходила из берегов, затапливая всю округу. По приказу Екатерины Второй каналы засыпали, превратив в улицы, где одна сторона улицы Первая линия, а другая Вторая, и так далее. Всего на Васильевском острове тридцать три линии – из них только четыре с названиями, а остальные по номерам.
По мере продвижения к центру города трамвай плотнее наполнялся людьми, и к площади Мира, бывшей Сенной, мне пришлось пробиваться к выходу, держа перед собой чемодан как щит римского легионера. Ещё одна пересадка, и через несколько остановок трамвай покатит на Васильевский по мосту Лейтенанта Шмидта[2].
* * *
Обращала на себя внимание необычайная чистота в городе – везде ни соринки, ни пылинки. На свежевымытых тротуарах темнели влажные полосы от машин-поливалок. Под окном первого этажа в навесном ящике рыжими огоньками цвели садовые маргаритки. Мимо меня с хохотом промчались двое мальчишек на одном велосипеде, явно им маловатом.
По своей Семнадцатой линии я шла, таща проклятый чемодан чуть не волоком. Остановившись смахнуть пот со лба, я вдруг замерла. Именно на этом самом месте я стояла зимой сорок второго и лихорадочно проверяла в кармане, на месте ли хлебные карточки. Из памяти непрошено выскочили и стиснули сердце ощущения блокадного хруста снега под ногами, примёрзший к щекам платок, ледяная мгла, негнущиеся пальцы в насквозь промороженных варежках. Здесь я тащила саночки с умершей мамой, и в горле застревал один-един ственный вопрос: будет ли конец этому ужасу?
Воспоминания обрушились на меня лавиной, крепко приколачивая ноги к мостовой. Я потрясла головой: нет, нет и нет! Я не дам горю взять над собой верх! Ещё несколько шагов, и я войду в родную парадную, поднимусь по ступеням, достану ключ, войду в свою комнату и первым делом поставлю чайник на буржуйку. Я решила не ломать голову насчёт растопки – наверняка во дворе найдётся что-нибудь подходящее, в крайнем случае соберу щепок около дровяных сараев. Сейчас не блокадная зима, когда жгли всё, что горело, не оставляя на земле ни единого сучка.
Скользнув взглядом по окнам, я заметила, что многие стёкла ещё остались заклеенными бумажными полосками крест-накрест. В начале войны наивно считалось, что подобный способ может защитить стекло от взрыва, но совсем скоро мы увидели, как снаряды пробивают стену насквозь, а здание складывается, как карточный домик, погребая под собой и людей, и вещи. Меня подбодрила мысль о том, что завтра с утра я отскоблю со своих окон следы войны, начисто вымою пол, протру подоконник и впущу в комнату воздух мирного времени.
В последний раз я доставала ключи от квартиры почти три года назад. Взгляд скользнул по табличке с фамилиями на дверном косяке: «Прониным 1 зв., Каблуковым 2 зв.» Всего шесть фамилий, включая нашу. Я сама писала эту табличку, когда училась в педтехникуме.
Пронины умерли самыми первыми, Каблуковы уехали в эвакуацию, слесарь дядя Игорь Макаров ушёл добровольцем и не вернулся.
Дверь отворилась с привычным скрипом. В глубине души я опасалась увидеть вымершую квартиру, но мне в нос ударил запах выварки для белья и неистребимый дух керосина для заправки примусов. Судя по звукам, в кухне кто-то возился. Потом разберусь. Мне не терпелось войти в свою комнату. Странно, но дверь оказалась открыта. Тускло горела настольная лампа на какой-то чужой этажерке, невесть откуда взявшейся.
В первый момент я даже не поняла, куда попала. Шкаф, что прежде отгораживал мою кровать от обеденного стола, теперь сдвинут к стене, комод стоит боком, нет фотографий над диванчиком. А на самом диване сидела девушка с короткой стрижкой и читала журнал «Огонёк». Мало того, девушка была одета в моё голубое штапельное платье, сшитое перед самой войной. Я собственноручно связала для него кружевной воротничок из катушечных ниток и накрепко пришила к горловине.
– Вы кто? Как вы сюда попали? – Голос девушки визгливо резанул мне уши. Девушка свернула журнал и гневно уставилась на меня.
От подобной наглости я едва не потеряла дар речи. Пройдя в центр комнаты, я водрузила чемодан на стол. Обычно я не имею привычки класть на стол грязные вещи, но тут случай особый, и захватчиков надо ставить на место:
– Вообще-то я хозяйка этой комнаты и здесь прописана. И это всё мои вещи, – я обвела рукой пространство комнаты. – И платье на тебе моё.
Девушка покраснела и открыла рот, переваривая информацию. Её брови сошлись на переносице, туго натягивая кожу на лбу.
– Как хозяйка? Вас же убили! Мама! – Девушка вскочила с дивана и закричала в глубину квартиры: – Мама, ты представляешь, она живая!
Пока я собиралась с мыслями для ответа, из кухни выкатилась неопрятная толстая тётка и ринулась на меня в штыковую атаку:
– Ты кто такая? Почему врываешься в дом к честным людям? А ну выметайся отсюдова!
Её объемистый живот покрывал клетчатый фартук моей мамы, изгвазданный жирными пятнами. Тётка успела оторвать от фартука уголок кармана, откуда торчала столовая ложка – тоже наша!
Меня заколотило от злости:
– Я Антонина Вязникова и здесь прописана. Это моя жилплощадь, а не ваша. – Я старалась говорить спокойно и медленно, хотя с трудом получалось сдерживаться и не вцепиться дурной бабе в волосы.
«Считай до десяти», – полузадушенно твердил мне внутренний голос, которого я не собиралась слушаться.
На шум спора в коридор высыпали несколько соседей. Я не знала ни одного из них.
Круглые щёки захватчицы комнаты побагровели до свекольного цвета. Она подошла ко мне вплотную и упёрла руки в боки:
– Знать не желаю никакой Вязниковой. Раз мне сказали, что ты убита, значит убита. Нас сюда вселили на законных основаниях, по ордеру, и никуды мы отсель не сдвинемся.
– А моё платье вам тоже выдали по ордеру? – я кивком головы указала на девушку. – Или вы тут сами мародёрничали? По приказу Верховного главнокомандующего с мародёрами на фронте знаете что делают?
Краем глаза я видела испуганное лицо девушки. Она держалась руками за спинку стула, и её нижняя челюсть мелко дрожала.
Мамаша сощурила глаза и уткнула мне палец в грудь:
– Ты умерла, понятно? Или пропала без вести. Нам с Райкой без разницы, – она кивнула на дочку. – И твоего тут больше ничего нет.
От крепко сжатых кулаков мне в ладони впились ногти. Я бы, наверно, её ударила, но помешал знакомый громкий голос, резанувший свару как всполох молнии:
– Антонина, Тоня! Никак вернулась?!
Круто развернувшись, я встретилась глазами с прежней соседкой тётей Аней – работницей с ткацкой фабрики. Война мало изменила низкорослую и жилистую тётю Аню, разве что прибавила седины и лёгкой кистью навела тёмные круги под глазами.
Тётя Аня решительно раздвинула сгрудившихся жильцов и потянула меня за рукав:
– Пойдём ко мне! Небось устала с дороги. Попьём чайку, поговорим. – Она мигом разогнала соседей. – Что уставились? Фронтовиков никогда не видели? Между прочим, они за вас кровь проливали. И за тебя, Людка, в том числе, – последнее адресовалась моей противнице. Судя по наступившей тишине, тётя Аня пользовалась непререкаемым авторитетом, и даже горластая тётка в её присутствии непроизвольно съежилась и стала казаться ниже ростом.
Прежде, до войны, тётя Аня была незаметной. Она рано уходила на работу, тихо возвращалась в свою комнату около кухни и никогда не встревала в ссоры между хозяйками. Я помнила её по тяжёлым рукам с чуть расплющенными кончиками пальцев и по громкому голосу, как у многих глуховатых людей.
– У нас на фабрике все работницы глохнут, – объясняла тётя Аня, когда кому-то приходилось повышать голос в разговоре с ней. – Это потому, что от ткацких станков такой грохот стоит, что ни словечка не разобрать. Да и орать мы в цеху привыкли, у нас бабы все голосистые.
Но при всей своей голосистости тётя Аня оставалась очень скромной, даже робкой.
Она заметила моё удивление и усмехнулась:
– Это я в войну научилась командовать. Сама знаешь, на производстве кто на фронт ушёл, кого голод забрал, вот меня и поставили мастером на участок, где марлю гонят. – Она завела меня в свою комнатку и поставила чайник на керосинку. – А марля – это сама понимаешь что. Бинты для раненых. Бывало, прижму рулон к лицу и заливаюсь слезами, как представлю, что скоро эти бинты в крови наших солдатушек утопнут. Вот и приходилось две нормы выбивать, где криком, где лаской. Хотя наши рабочие и без потычек старались, у всех на фронте у кого муж, у кого сын или брат, но всё равно приходилось глоткой барьеры брать – то смежники подведут, то нитка не та идёт, то слесарь сутки не спавши, с ног валится. Иначе никак! А новые соседи у меня вот где! – Кивнув в сторону коридора, тётя Ана подняла ладонь и стиснула крепкий кулак: – Их надо держать в строгости, иначе в квартире будет бардак.
Передо мной очутилась чашка чая и горстка сушек – тётя Аня засуетилась:
– Ты посиди, я тебе ещё картошечки нажарю, нам на работе с подсобного хозяйства по три кило выдали!
Я покачала головой:
– Спасибо, тётя Аня. Я не голодная. У меня сейчас кусок в горло не лезет. Думала домой приду, а тут…
Я пожала плечами, не зная, что добавить. И так всё ясно. Не каждый день доводится вернуться с фронта и увидеть свою комнату занятой, а жильцов в твоей одежде.
– Да уж, досталось тебе, девка! – Тётя Аня вздохнула. – Ты сейчас у меня переночуй, а завтра иди в жилконтору и стучи кулаком по столу, пока тебе новый ордер не выпишут. Свободная жилплощадь пока есть, я точно знаю. Почитай, в каждой квартире по одному-два жильца остались, а остальные померли. – Я отхлебнула горячего кипятка, чуть подкрашенного щепоткой заварки. На душе было пусто и тошно. Тётя Аня сидела напротив, единственный близкий человек из довоенной жизни, и не сводила с меня глаз: – А ты повзрослела, Антонина, серьёзная стала, красивая.
Я иронично хмыкнула: до красавицы мне далеко, как до луны пешком, просто тёте Ане хочется сказать мне приятное. Разговор не вязался, слишком много неожиданного навалилось на плечи. И я спросила первое, что пришло в голову:
– Тётя Аня, а вы знали моего отца?
Не знаю, почему вырвался именно этот вопрос, мы с мамой очень редко говорили о папе. Он умер от тифа незадолго до моего рождения, и у нас не сохранилось ни одной его фотографии. В детских мечтах я представляла папу то героем, погибшим во время освоения Севера, то отважным альпинистом, сорвавшимся с горы, то смелым милиционером, задержавшим кучу бандитов. Но чаще всего я представляла его живым и весёлым, как папа моей лучшей подружки Машки. По вечерам мы всей семьёй сидели бы за чаепитием, а в выходные ходили в парк кататься на лодке. И мама не плакала бы по ночам втайне от меня. По мере моего взросления воображаемый образ отца тускнел, таял и размывался акварельным рисунком, случайно оставленным под дождем. Я снова стала вспоминать об отце в войну, когда на мужчин стали приходить похоронки. Эх, папа, папа, не дожил ты узнать, что твоя дочь тоже стала фронтовичкой и не посрамила твою фамилию.
Почему-то тётю Аню мой интерес нисколько не удивил:
– Я не знала твоего отца, Тонечка. Марина, твоя мама, заселилась, когда он уже умер, а ты ещё только ожидалась. Соседки, конечно, расспрашивали, что да как, сама понимаешь, мы, бабы, любопытные. Но Марина отмалчивалась, говорила: умер от тифа, и больше ничего. Но знаешь что? – Лоб тёти Ани прорезала напряжённая складка. – Уж не ведаю, говорить тебе или нет. Да ладно, поделюсь! Тогда тебе было года три, когда однажды ночью к нам в квартиру позвонил незнакомый мужик. Заросший бородой по уши, огромный, как глыба, сам в ватнике, морда зверская, махоркой разит за три версты, руки заскорузлые. Я ему сама дверь открывала, так он ни спасибо, ни пожалуйста. Спросил только:
– Вязникова Марина здесь живёт?
– Здесь.
Я, помню, подумала, что его серый полушубок похож на волчью шкуру оборотня. Даже жутко стало, а ну как накинется да удавит, как котёнка.
Он на меня глазами зыркнул:
– Позови. Дело к ней есть, скажи – весточку привёз из дальних краёв, а от кого, она сама знает.
Марина как увидела его, побледнела пуще снега, но взяла себя в руки и вежливо так:
– Пройдёмте в кухню, а то у меня дочка спит.
У мужика аж глаза на лоб вылезли:
– Так у тебя дочка есть?
Я вижу, Марина вот-вот в обморок хлопнется, а я этого допустить не могу. Ну и стала подслушивать из своей комнаты – Она легонько стукнула кулаком о ладонь. – Но они говорили быстро и неразборчиво. Услышала только, как твоя мама резко попросила:
– Оставьте нас в покое.
А дальше шептали совсем тихо, по-заговорщицки. Наутро Марина вышла вся заплаканная, сказала – голова болит, а весточка, мол, от дальнего родственника с Колымы. Больше я никогда того мужика не видала, и к Марине на моей памяти никто не приходил. – Тётя Аня замолчала и опустила голову. – Как бы то ни было, война все наши тайны похоронила вместе с людьми. Теперь ничего доподлинно не узнаешь, да и надо ли? Раз твоя мама тебе ничего не рассказывала, значит, не хотела. Ты уж её уважь, не тереби прошлое.
Легко сказать – не тереби! Впрочем, интерес к таинственному мужику быстро испарился, на фоне насущных проблем с жильём. Хотя я устала и измучилась за дорогу, но новости, свалившиеся на мои плечи, мешали уснуть, прокручивая в мыслях каменные жернова новых проблем. Невыспавшаяся и злая, я вскочила в шесть чесов утра, полная решимости вытребовать себе ордер на комнату, даже если придётся пристрелить управдома. Перед выходом из дома я споткнулась о коврик у двери и вспомнила, как перед самой войной мама принесла его с работы и улыбнулась:
– Представляете, у нас на работе отмечали юбилей школы, и лучших учителей премировали резиновыми ковриками! Ковриками!
От смеха на мамины глаза набежали лёгкие морщинки, но всё равно она была молодой и красивой. Коврик мы постелили для всех жильцов, вытирать ноги. Мамочка моя дорогая, как же тебя не хватает!..
1
Сейчас Московский проспект.
2
Ныне Благовещенский мост.