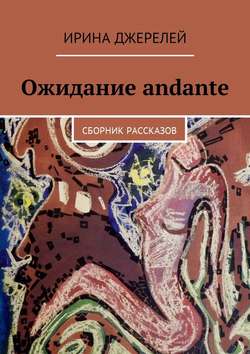Читать книгу Ожидание andante. Сборник рассказов - Ирина Джерелей - Страница 4
Allegro emozionante
Литературная опекунша
Рассказ
ОглавлениеОна пришла на встречу с толстой картонной папкой с тесемками, в которой лежали убористо отпечатанные рукописи. Мы расположились за пластмассовым столиком дешевого кафе и заказали кофе. Я ожидала увидеть типичную юную поэтессу – из тех, кому на примитивном уровне удается зарифмовать свои незрелые чувства и ощущения.
Как правило, у этих девочек одинаковые глаза – они распахнуты в ожидании чуда, каковым, по их мнению, обязательно станет признание публики. Равнодушие той же публики к их сочинительству быстро отбивает охоту рифмовать дальше.
И только настоящий поэт отбрасывает сантименты и собственные возрастные проблемы и начинает мучительно долго учиться, умирая в разочарованиях и заново восстанавливаясь в собственном творчестве.
Но в этот раз мне стало не по себе, потому что передо мной сидела истинная творческая личность. Лет ей было не больше двадцати. Неухоженные, покрытые цыпками пальцы рук с облупившимся коричневым лаком на ногтях, которые она старательно прятала в рукава черного пальто, мелко дрожали.
Она нервно курила сигарету за сигаретой. Легкомысленные ярко-рыжие кудряшки и жирно обведенные черным карандашом огромные глаза на круглом лице нелепо контрастировали с ускользающим тревожным взглядом.
Я еще не знала, как с ней разговаривать. Обычно в таких случаях я начинала спрашивать о стихах, семье, настроении, желании постигать азы стихосложения. Но здесь этот прием не сработал: она отвечала односложно, плохо шла на контакт и некоторые мои вопросы пропустила мимо ушей.
Я сникла и заглянула в рукопись. Уже первая строфа показалась удачной – мне как состоявшемуся поэту так не написать. Я неосторожно обмолвилась о возможном сборнике, и она впервые за все время оживилась:
– Да! Я хочу издать книгу!
– Книгу?
Не ожидая такого энтузиазма с ее стороны, я растерялась.
– Зачем вам книга, миленькая? Многие сейчас издаются, и эти книги лежат мертвым грузом, их никто не читает. Время бумажных томов неумолимо уходит в прошлое.
Оседлав своего любимого конька, я начала уверенно отговаривать самонадеянную девочку, мотивируя свои аргументы нежеланием уставшего от проблем народа осваивать серьезную литературу, думать, страдать и сопереживать.
Она меня внимательно выслушала, потом тихо проговорила, будто подвела черту:
– Вы лучше прочитайте стихи… Когда время будет…
Я не нашлась, что ответить. Была во всем происходящем какая-то безысходность, как будто передо мной сидела инопланетная пришелица, заранее знающая не только свое будущее, но и мое, и всех нас. И плевать ей было на меня как на литературного критика.
Моя персона была для нее значима как необходимая часть некоего одного ей известного ритуала, после которого либо творческая смерть, либо, наоборот, – новая яркая жизнь, наполненная особым, еще неосознанным, непостижимым для нее, и оттого захватывающим дух смыслом. Как будто именно я должна была вынести приговор.
Мы выпили по чашке кофе, выкурили пол пачки сигарет и разошлись – она с яростной надеждой в глазах, а я с тяжелой душой. Что-то было в этом неправильное.
Дома я лениво открыла объемистую рукопись, надеясь быстро избавиться от ненужной работы. И напрасно. Странное у меня возникло ощущение – будто стихи написаны сложившимся талантливым поэтом, который прожил долгую жизнь и разочаровался в людях.
У этой девочки оказалась взрослая израненная душа. Жесткие образы били в десятку, от них мороз шел по коже. Луна ей виделась оскаленной и смертоносной, персонажи – жалкими и никчемными, любовь – извращенной. И даже Бог отторгал человека садистским равнодушием.
Все было перевернуто с ног на голову. Лирический герой напоминал не просто «героя нашего времени», это был Печорин со всем худшим, что ему мог бы принести двадцать первый век, все равно как если бы Печорина окончательно лишили внутреннего благородства, превратив в законченного циника.
И все же я нашла несколько текстов, которые среди нагромождения душевных вскриков показались чистыми, светлыми, ясными.
Девочка была, несомненно, одаренной, и, если честно, я ей позавидовала. К своему стихотворному мастерству я шла долго, годами нарабатывала образный строй, оттачивала метафорику, работала над рифмами, с которыми у меня постоянно возникали проблемы. Я билась над ними, словно алхимик над философским камнем. У нее же богатство рифм поражало, образы ослепляли новизной, метафоры – необычностью. И мне, состоявшемуся поэту почти сорока лет, было чему позавидовать.
Я, конечно, написала восторженный отзыв о ее стихах. Но, если честно, в тот момент я не смогла отнестись по-настоящему критично к ее рукописи: слишком новым и необычным казался стиль, слишком выделялся среди традиционных поэтических опусов начинающих поэтов – часто безграмотных и не имеющих вообще никакого понятия о стилях.
Она рвала строки, сбивала ритм, и вместе с тем все было досконально просчитано: ударный-безударный, количество слогов, сюжетная линия, первая и последняя строки, акценты, эллипсы, висячие переносы и многое-многое другое.
Как это ей удавалось? Было такое ощущение, что у нее при написании стихов был задействован не мозг, а современный вычислительный центр. Правда, когда я попыталась осторожно намекнуть на обнаруженные мной несоответствия в логике, получила вежливый, но жесткий отпор – мое мнение о недочетах ее уже не интересовало.
***
Я познакомила ее с литераторами.
Впрочем, Рыжая – так я стала про себя ее называть – мало нуждалась в моих рекомендациях и очень быстро обросла всевозможными знакомствами с поэтами, художниками и бардами разных возрастов и художественных течений – от старой доброй классики до авангарда и постмодерна.
Мне было глубоко безразлично, с кем она проводит вечера и кому отдает себя и свое вдохновение, но чувствовалось, что литературная богема ей по душе – это был именно тот новый яркий мир, которого ей до нашего знакомства так не хватало.
Спустя три месяца после первой встречи ее стихи были вынесены на творческий семинар для обсуждения. Думаю, что я сделала тогда большую ошибку – попросила руководителя секции, маститого профессора-литературоведа, быть к ней снисходительным. Слишком уж нервной и незащищенной казалась мне моя протеже. Ту же просьбу я легким намеком высказала и ребятам, которые выступали оппонентами. Почему-то мне за нее было страшновато.
Когда пришла ее очередь, и профессор прочитал подготовленную мной краткую биографию, она вышла перед слушателями – тонкая, словно натянутая струна, в несуразных черных разлетающихся воланах. Огромные, густо подведенные глаза на миловидном лице, пухлые губы, рыжие бестолковые кудряшки придавали ей неправдоподобно кукольный вид. Но манера держаться приковывала взгляд.
Казалось, будто ее тело готово взвиться от малейшего прикосновения. Она была похожа на исхудавшую от болезни породистую кошку, на время спрятавшую стальные когти в обвисшем меху. И взгляд был более чем красноречив:
«Собираетесь обидеть? Я буду защищаться!».
Она начала читать свои стихи глухим дрожащим голосом. Слегка сипловатый, этот голос был слишком тихим, но завораживал, притягивал внимание, заставлял вслушиваться.
Все в ней было необычно. Необычны были и стихи: игра с ритмом завораживала, метафоры удивляли глубиной и какой-то особо тонкой полифоничностью, легкость изложения мыслей потрясала. Это слишком отличалось от привычных традиционных поэтических форм, чтобы быть принятым сразу, и, вместе с тем, не принять ее новый стиль было невозможно.
Даже авангардисты, присутствовавшие на секции, задумались: им не хватало именно вот такой смысловой наполненности, которую они с лихвой подменяли конструированием словоформ. Видимо, каждый участник семинара понял в тот момент, что перед ним – настоящий поэт, обладающий силой убеждения в собственной правоте.
Ее признали безоговорочно. Ее хвалили в лицо. Ее подняли на пьедестал. При наличии явных ошибок, смысловых несоответствий, ритмических диссонансов, ни один из оппонентов не высказал своих замечаний. Все были сражены необъяснимым обаянием ее личности, и я в том числе. После этого было решено готовить сборник.
На тот момент я была одним из руководителей молодежной творческой студии. Мы искали талантливых авторов, и эта странная девочка оказалась к месту. Выступления на творческих вечерах, участие в фестивалях, поездки на семинары – везде, где бы ни появлялась моя протеже, ее признавали лучшей.
Мои собственные стихи – как раз традиционные, мастерски выстроенные по форме и интересные по содержанию, рядом с ней не звучали вообще. О других авторах и говорить было нечего. И я никак не могла понять, что за дьявольская сила заставляла людей, отупевших от обывательского однообразия, замирать и вслушиваться в ее шелестящий голос. Чем брала эта рыжая тонкая девчонка тех, кого уже нечем было удивить?
Я молча завидовала, обожала ее стихи и, как более старшая и умудренная жизнью, признала ее поэтическое превосходство надо мной. В конце концов, на улице двадцать первый век, и на смену старому, привычному всегда должно приходить новое, пусть и пугающее поначалу.
Я решила ей помогать столько, сколько будет необходимо. И, когда ее звезда засияет ярко и высоко, спокойно отойти в сторону и заняться собственными делами. А если это действительно настоящий талант?
Однажды она принесла мне рассказ, написанный раньше, и попросила дать ему оценку. Рассказ был написан сочно. Другого слова и не подберешь. И в нем была она вся – с ее рыжими кудряшками и обгрызенными ногтями на руках.
«Я люблю тебя, но моя любовь безответна, – говорит своему кумиру героиня рассказа. – Сделай так, чтобы я тебя возненавидела».
Герой, любимец студенток, по сути своей, совершенно отталкивающий тип. Он приходит к героине в конце рассказа, приносит цветы, спит с ней. И, когда она начинает верить в близкое счастье, сообщает, что исполнил ее просьбу о ненависти: отныне она, как и он, больна СПИДом.
Странная тема, странная любовь, мало человеческого, живого. Присутствует некоторая надуманность и ощущение, будто намеренно обляпали грязью. Я ей сказала, что надо бы изменить конец – слишком много негатива, остается неприятное «послевкусие». Она согласилась. И, как мне показалось, тут же забыла об этом. Больше я этот рассказ не видела.
***
Рыжая легко писала стихи. В основном, о несчастной любви. В них самоуничижение лирической героини доходило до апофеоза. Ее мир был полон зла, беззащитность становилась апокалиптичной. Между героиней и возлюбленным происходила яростная борьба за существование, будто это была единственная доступная ей форма любви.
Моя протеже словно умирала в каждом тексте, чтобы вновь воскреснуть в первой строке следующего. Она и мне посвятила стихи: «Ирина… Арена… Копье возде-». В тексте я – гладиатор, готовый принять свой последний бой и не пугающийся близкой смерти. Может, и так. В жизни я всегда упрямо шла к цели, но, если честно, умирать не собиралась. Поэтому я снова и снова видела в строчках стихотворения ее, только ее. Это она принимала смертельный бой, а не я – ее литературная «опекунша». А посвящение было данью традиции.
Вообще, это постоянное предсмертное состояние прослеживалось во всем, и особенно в ее отношении к жизни. Поэтический талант моей протеже все больше и больше получал признание, но она чувствовала себя неуютно. Ей мало было обычного признания, и она уничтожала себя в конфликтах с окружающими, в любовных романах с поэтами, стремясь постоянно находиться на острие каждого ощущения.
Ее избранники всегда были намного старше, годились в отцы, юношей она просто не замечала. Сотканная из комплексов, ее неуемная натура, на самом деле, жаждала безоговорочной реализации в личности другого – более сильного и умудренного, полное подчинение партнера давало ей кратковременное удовлетворение, а потом снова – поиск, охота, новые эмоции.
Она стремилась быть первой во всем – в стихах, в любви, в отношениях. Только таким способом она могла общаться с миром. Мир, в свою очередь, жестоко сопротивлялся, и возникающий диссонанс становился источником ее дьявольского вдохновения.
Не любовь, а ненависть, не просветленное спокойствие, а мутное бурление чувств и эмоций вырастали кульминационными маяками в ее сюжетах. Стихи – сильные, завораживающие, болезненно бьющие по сознанию, словно под дых, – оставляли ощущение неизбывной тоски, и эта тоска перекрывала все – формальные недочеты, обостренную личностность сюжетов, рваную форму.
Говорить о поэзии уже не хотелось. Казалось, будто эти строчки обладают собственной убийственной силой и выпивают душу.
Всё больше и больше в общении с Рыжей мне становилось не по себе. И если при первом знакомстве у меня была твердая уверенность в том, что признание мира даст ей мощный толчок и поднимет на более глубокую и осознанную ступень творчества, то теперь у меня такой уверенности не было: она больше не писала теплых, светлых стихов. Сама она презрительно называла их «белыми и пушистыми».
Скажу честно, именно в этих «пушистых» текстах сразу проявлялась ее слабость как поэта. Почему? Да потому что не было в них той злобствующей стихийной силы, которая забивала восприятие и сражала наповал откровенными отрицательными категориями. Значит, ее поэтическая сила строилась на скользкой игре с темной стороной подсознания?
В какой-то момент я поняла, что ее лирическая героиня – настоящая ведьма с извращенным мироощущением, исходящим из отрицательной шкалы координат, которая расположена далеко «по ту сторону» человеческого бытия. Совсем не та кокетливая ведьмочка-ведьмушечка, которой прикидываются начинающие поэтессы, нет! Абсолютно безжалостное, мрачное, истерзанное и эгоистичное создание, жаждущее только одного – полной духовной власти.
Смешно? Впрочем, если разобраться, все поэты мечтают о духовной власти. И, если есть талант, получают ее. Но вот откуда, из какого источника?
Она часто говорила о своей любви ко мне, преданности и собственном одиночестве. Ее чувства пугали. И только превосходство в возрасте давало мне возможность ощущать себя с ней более или менее комфортно: я относилась к ней, как нежная мать к своему единственному, пусть и непутевому, ребенку.
Мне было искренне жаль рыжеволосую: внутренние противоречия и внешние конфликты разрушали ее неокрепшую душу. Я чувствовала, что со временем она станет популярной, что за ней пойдет пишущий люд и что у нее будет авторитет. И этот авторитет, который необходимо будет поддерживать ежечасно, растрачивая остатки сил, может принести ей полное разрушение личности.
Ее неординарность, граничащая с полной беззащитностью, была выдающейся, яркой, она притягивала неуравновешенных любителей нетрадиционной поэзии, словно открытое пламя – мотыльков. Обманутые ее печальным тоскующим взглядом, все хотели ей помочь, помогали и подпадали под ее дьявольское обаяние. А она поднимала глаза только на тех, от кого зависела. Остальных просто не видела или, наоборот, боялась и обходила стороной.
Я иногда заходила к ней в гости – в ее неуютную, необжитую комнату в общежитии, где собирались начинающие поэты, барды и неформалы. Было много вина, сигарет, стихов. Она была хозяйкой салона, поэтической королевой, признанным мастером современной поэзии.
И все же я иногда ловила на себе ее мимолетный просящий взгляд и знала его причину: она от меня все еще зависела и словно умоляла освободить. Ей было тесно рядом со мной. Я знала, что скоро, когда будет издан ее первый авторский сборник, эта зависимость рассыплется в прах, и она забудет обо мне.
***
Однажды я вместе с ней и другими авторами отправилась на молодежный поэтический фестиваль. Это было обычное дело, но в таком составе мы ехали впервые: почти вся наша поэтическая секция во главе с профессором литературы, который должен был возглавлять жюри.
Поездка в автобусе оказалась для меня мучительной – моя звезда рядом на сиденье ныла, капризничала и грозилась сразу же уехать обратно. Чтобы отгородиться от ее домогательств, я стала писать. Процесс творчества для нее был свят, она успокоилась, но передышка была временной.
Я на тот момент была одним из руководителей фестиваля, мне оказывали уважение, и я чувствовала, что рядом со мной ее пребывание даже в качестве «восходящей звезды» современной поэзии казалось ей самой каким-то незначительным. Я де-факто была признанным творцом, пройдя собственный многолетний путь литературных неудач, а она постоянно доказывала свою гениальность стихами и все равно оставалась где-то внизу – среди всех остальных. Я понимала, что она злится и пытается это скрыть.
Потом были встречи, регистрация, первые знакомства с приезжими, фотографии возле моря. Вечером с моими «пожилыми» подругами-поэтессами и с ней – «звезда» не захотела оставаться с юными поэтами, они были ей не интересны – мы зашли в кафе на приморском бульваре, заказали сосиски и под нехитрый ужин выпили две бутылки прекрасного хереса.
Закончили посиделки чтением стихов вслух. Даже предложили украсить стены кафе нашими автографами. Официантки, смеясь, отказались. Мы веселились от души, вот только Рыжая как-то сникла. Впрочем, я могла ее понять – нам было всем по сорок лет и больше, а нашей нимфетке – всего ничего. Да и внимание уделяли не ей. Она заскучала.
Потом гуляли по ночному городу, любовались огнями порта, приставали к прохожим, от души смеялись, громко читали стихи на причале, курили сигареты, даже прятались в высоких кустах самшита от проходящего мимо патруля милиции. Было по-настоящему здорово, свободно, весело!
И только Рыжая плелась где-то в хвосте с кислым видом, но на нее никто не обращал внимания. Когда разъехались и отправились на ночлег, она сразу легла спать, а мы с хозяйкой еще долго сидели на кухне и болтали о поэзии. Но, когда я нырнула под одеяло, она не спала.
Мы полночи проговорили о её личных проблемах, и они после выпитого хереса показались мне поистине трагичными. Я успокаивала ее, как могла, но заснуть так и не удалось – она хлюпала носом, вертелась, постоянно что-то спрашивала. И только на рассвете я сомкнула опухшие веки, думая, что вряд ли смогу через два часа встать.
Следующий день был посвящен творческим лабораториям, общению с молодыми поэтами, поездкам по городу. В конце фестивального дня мы читали стихи со сцены, и её выход стал, как всегда, триумфом.
Зал гудел от восторга, ей долго и громко аплодировали. Я искренне радовалась за нее, ибо свою долю внимания уже получила сполна. Свои стихи я читала профессионально, хоть и не так нервно и завораживающе, как она.
А вечером был прощальный ужин в баре, коньяк и шоколад. Сидя рядом со мной за шатким пластиковым столиком, она вдруг призналась, что я подавляю ее своим авторитетом, что я – королева, а она – жалкая принцесса, усиленно пытающаяся занять свое место под солнцем. Нонсенс!
Я была навеселе и что-то ей даже самонадеянно доказывала насчет того, что иногда неплохо стремиться стать королевой, только это королевство надо заработать тяжким многолетним трудом. Королевы – как правило, дамы в возрасте, с мудростью и внутренней силой.
Больно вспоминать об этом разговоре, но спустя время я поняла, что она мне тогда яростно завидовала во всем, хотя всего этого имела более чем сполна! Ученица, придумавшая себе учителя и мечтавшая стать выше его! Бедная девочка! В жизни она бесконечно смирялась передо мной, выказывала восхищение, признавалась в вечной верности, а в душе ненавидела и боялась. Я чувствовала, что она лукавит, но делала вид, что верю словам. Так было проще.
***
Сборник, окончательно отредактированный мной, был готов и отпечатан в типографии. Он был объемный, с качественной графикой на обложке и внутри. Литературная богема, в которой она давно стала своей, просто «стонала» от восторга: неоднозначность образов, явное богоборчество, оригинальность текстов давали пищу для разговоров и статей.
Что касается меня, то даже мне, при всей моей склонности к традиционализму, сборник понравился. Удалось, несмотря на все споры с Рыжей, добиться максимальной «золотой середины». Почему-то я думала, что этот сборник будет решающим: либо она оттолкнется от своей первой книги и начнет творчески расти, либо уйдет в отрицательные эмоции и постепенно деградирует как человеческая личность, станет «Поэтом Тьмы», если так понятней.
Ее литературное будущее предсказать было невозможно, не хотелось давать какие-либо авансы, поэтому я отказалась писать по ее просьбе рецензию, мотивируя это незрелостью сборника. И Рыжей это не понравилось.
На презентацию я не пошла. Впрочем, для нее это уже не имело значения. Рыжая была счастлива, к ней пришел настоящий долгожданный успех.
Многие ей, конечно, прочили большую славу. Но мне было нестерпимо грустно. Почему-то казалось, что это конец ее пути. Может, я слишком идеалистична в понимании поэзии, но для меня Поэт – это тот, кто учит добру, терпимости, любви к миру, чьи стихи в худшем случае вызывают светлую грусть, замешанную на остром желании жить дальше.
Находясь в собственном поэтическом мире, я уже давно поняла одну пронзительную истину: стихи моделируют будущее творца. И если он предсказывает смерть или несчастную любовь, всеобщий мор или вселенскую катастрофу, сумасшествие и ад, – это обязательно произойдет.
Почему? Наверное, потому что стихи, как совершенно особенный вид человеческого творчества, связанный с рифмованным, заговорным словом, обладают магией и притягивают отрицательные события, словно медовая патока – рой мух.
Смерть – не милая подружка поэта, не источник его вдохновения, это – его главный цензор. И, если вплотную подошел к пограничному барьеру, лучше на время оставить стихи вообще и переключиться на прозу, публицистику, критику. Именно это я и советовала своей рыжекудрой поэтической подружке. Но она не могла остановиться.
Став рабой собственной строки, будущая знаменитость жила написанным, словно наркоман – дозой героина. Это было ее единственное спасение от заурядного мира, полного обычных людей. Мой «черноризный ангел» с рыжими кудряшками отторгал всякое знание, кроме своего плачевного опыта. И единственное, что могло ее успокоить – это сомнительное покорение новых поэтических вершин. Я пыталась говорить о смысле жизни, о красоте, но ответ был один: «А зачем жить, если не стремиться к славе?».
Да, откровенно и обескураживающе…
***
Прошло время, и вторым нашим совместным проектом с Рыжей стала подготовка сборника молодых поэтов под ее редакцией. Но, когда рукопись попала ко мне на окончательную доработку, мне пришлось заново редактировать композицию и тексты: я давно работала с литературными изданиями и знала, как нужно выстраивать сборник, чтобы он воспринимался с интересом.
Сильно пришлось почистить и ее подборку: самые крайние проявления ее неустойчивой личности были воспеты с прекрасной стилистикой, отработанными рифмами, мощными образами. От текстов уже не просто мороз шел по коже – хотелось кричать, выть и бежать на край света, чтобы спрятаться от кошмаров. В них бился страх: слишком мало осталось человеческого и, тем более, женского. Оставшиеся после моей правки стихи показались мне не такими извращенно-пронзительными.
К сожалению, как редактор, она оказалась безграмотной, что меня разочаровало и расстроило: иерархия, по которой она выстраивала тексты, опиралась на ту или иную степень участия авторов в жизни литературного объединения. Это создавало сумбур. И, если это коллективный сборник, было непонятно, почему авторы с фамилией на «М» располагались в начале сборника, а с фамилией на «А» – в конце.
Я выстроила подборки стихов в алфавитном порядке и, таким образом, уравняла авторов. Стихи зазвучали. Многие подборки я почистила и убрала тексты с грубым максимализмом в отношении к жизни. Талантливые и интересные тексты оставила.
А потом был ее звонок и сообщение о том, что она полностью разочарована во мне и не хочет больше меня знать, что я не профессионал и давно живу в замшелом мире ретроградов, цепляясь за старые, никому не нужные традиции. Голос – отрывистый, будто его обладательница задыхалась, и глухой, словно из-под земли.
Я не смогла аргументировать свои доводы и от волнения начала сбиваться, оправдываться. Мне было больно терять ее. Но этот разговор уже ничего не мог изменить: сборник в любом случае будет напечатан, наши пути разойдутся. Я подумала, что навсегда.
***
Презентация эпатажного литературного сборника, который стал между мной и Рыжей яблоком раздора, должна была состояться в понедельник вечером. А утром накануне я, будучи по своей журналистской работе рядом с общежитием, не удержалась и оставила в двери ее комнаты записку:
«Мне нужно поговорить с тобой, приходи вечером на презентацию».
На вечер я опоздала, весело и суетно здоровалась со всеми поэтами, отпускала и принимала комплименты, переходила от знакомых к знакомым. Потом внезапно увидела ее: еще более похудевшая, почти воздушная. Даже толстый слой косметики не мог скрыть ее бледность.
«Привет», – сказала мне она и виновато улыбнулась. Мы заговорили прямо на презентации, благо сидели на последних рядах, но разговор вышел неловким, захлебнулся, и тогда я пригласила ее на улицу, где она тут же накинулась на меня с обвинениями.
– …Ты перекроила весь сборник по-своему, ты все переделала, как только ты сама хочешь!
Она кричала шепотом, как всегда, только сильно жестикулировала, и кудряшки ее трогательно подпрыгивали. Я перебила:
– Хочу перед тобой оправдаться и не могу, не нахожу слов. Но знаю, что поступила правильно: оставшиеся тексты талантливы и интересны.
– Выходит, я сделала черновую работу, а ты меня использовала?
– Мы все делаем черновую работу, нам за это не платят. Если хочешь, ставь меня совместно с тобой редактором, пусть все шишки валятся на меня, плевать, – я начала нервничать, кипятилась, тоже стала махать руками.
– Мне все равно, но ты!.. Ты меня предала! И вообще, поэт С. и его ребята сказали, что ты пишешь «белую и пушистую» фигню, и если ты тронешь хоть одну мою строку, они заставят тебя съесть твой собственный сборник!
– Зубы обломают!
И тут я, представив, как «ребята» вкупе с поэтом С. едят мой сборник стихов, начала смеяться, мое напряжение в один миг рассеялось. А она, заводясь еще больше, продолжала:
– Я не собираюсь, не собираюсь писать твои «белые и пушистые» стихи! Все поэты прославились отрицательными эмоциями и эпатажем!
– И как они закончили? Кто в тюрьме, а кто в морге? А ты попробуй написать «белое и пушистое» так, чтобы его было интересно читать, да чтобы без соплей. А знаешь, почему ты на меня так сильно злишься? Да потому что зло легче выплеснуть в стихах, чем радость. Радость тебе не по силам, в ней ты не поэт.
Наконец я высказала в лицо Рыжей ту главную мысль, которую так долго обдумывала, из-за которой проговорила так много внутренних диалогов с ней, доказывая и убеждая.
Эта мысль была для нее убийственна, потому что четко определяла несовершенство «звезды», разбивая в прах с таким трудом созданный образ поэтического демона. А собственного несовершенства она не терпела.
– Я поэт! Я пишу о том, что интересно другим, – она слабеет и, кажется, вот-вот заплачет.
– А интересно ли это всем? Нет, ты еще не поэт, ты только учишься.
Услышав напряженный спор, к нам подошли несколько постоянных тусовочных личностей, стали угощать сигаретами. И я, чтобы не обрывать разговор, прочитала ей свое последнее стихотворение, посвященное дочери. В нем я попросила Бога быть милостивым к ней, потому что ей всего семнадцать лет.
Тусовочники заскучали и один за другим отошли в сторону, а она вдруг расслабилась, подобрела, стала мягкой, нежной, женственной и тихо сказала, улыбнувшись мне:
– За рифмы я тебя убью!
– Плевать на рифмы! Главное – это смысл, «белый и пушистый», и он действует на тебя эмоционально! Я же вижу это по тебе! Ты женщина, тебе это близко!
– Какая же ты счастливая! Я тоже хочу иметь дочь…
Ну что же, на тот момент состоялся «хэппи энд». Рыжая признала мою правоту. Надолго ли? Захочет она идти своей дорогой или станет одной из наложниц гарема поэта С.? Найдет ли она силы бороться с собственным бессилием и побеждать его, шаг за шагом? Не знаю.
Но я ее еще долго не выпущу из своего сердца – пусть постоянно помнит обо мне, жалуется на меня поэтам С., Г, М. и прочим богемным мерзавцам, пусть тихо ненавидит и ругает меня последними словами. Возможно, наступит время, когда она захочет опереться на эту ненависть и на свою память обо мне и разорвет черные покрывала собственной печали.
Я буду ее ждать, как учитель своего ученика. Всегда.