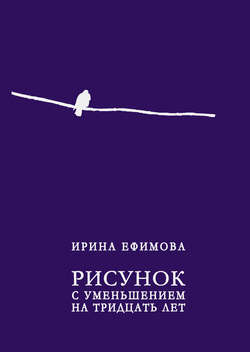Читать книгу Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник) - Ирина Ефимова - Страница 10
Свет в подвале
Хроника одного дома
Часть вторая
Круглый стол
II
ОглавлениеКакой странный год – всё перепуталось: осень была похожа на лето, зима – на осень. Только февраль не рядился в чужие одежды, был холоден и снежен (снег выпал только в феврале). Теперь начало марта, а на улице +15 С…
Не доверившись показаниям Цельсия, я оделась по-зимнему. И сразу разомлела от стоячего тепла, безветрия, какого-то странного межсезонья – непонятно, между чем и чем; снежные валы по обочинам тротуаров, ещё несколько дней назад мешавшие где попало переходить улицу, поразительно исхудали, а кое-где вообще исчезли. Земля так быстро и так рано оказалась сухой, почти чистой, почти весенней. Чёткие тёмные линии голых веток, будто нарисованные пером поверх городского пейзажа, дополняли картину ранней весны…
Было воскресенье, малолюдно. Старая Москва, по которой вёз меня троллейбус на свидание со школьной подругой Татьяной, лежала как на ладони, со всеми подробностями старых зданий: излишествами фасадов, прутьями старинных оград, куполами счастливо сохранившихся церквей, изящными линиями зданий в стиле «модерн».
Какая большая и вместе с тем доступная радость, какая увлекательная затея – сесть в троллейбус и через пятнадцать минут очутиться в другом городе, в другом месте земли! Татьяна стояла на означенном месте в лайковом пальто с лисьим воротником, совершенно не соответствующем той жизни, в которую мы собрались с ней отправиться.
Отправились. Пересекли улицу, скосили угол диагональным сквериком с приземистыми заморскими рябинами. Хотели пойти любимым бульваром, но там было ещё очень грязно – бульвары долго просыхают по весне. Вот когда пригодились бы галоши, которые так мучили меня в детстве.
Переулок, ведущий к моему дому, был заполнен баптистами и адвентистами седьмого дня. Церковь на повороте всё ещё реставрировалась. Шли под горку. Пахло мясными щами…
…Порой я предавалась странной фантазии: я прихожу в свой старый дом, звоню в бывшую свою квартиру и прошу хозяев меня впустить, объясняя, что очень хочу побыть хоть несколько минут в тех стенах, где прошли мои лучшие, мои нелепейшие годы; ещё раз ощутить тесноту передней, подивиться, как можно было жить с единственным краном холодной воды – для рук, ног, зубов, белья, посуды; умилиться всем этим неудобствам, от которых так быстро отвыкаешь – ещё быстрей, чем привыкаешь к удобствам… Фантазии… На самом деле я отдавала себе отчёт, что никогда на это не решусь, а потому у меня столько же шансов войти в свою старую квартиру, как, скажем, в реку Нил…
Итак, мы вошли в мой незабвенный двор, обогнули трёхэтажный корпус, и… я остолбенела: дом стоял абсолютно мёртв, абсолютно пуст! Все окна, как одно, отражали одни и те же облака, которых в тот день гуляло по небу премножество. Подъезд был, казалось, намертво заколочен прибитой наискось неструганой доской. Однако как раз в этот момент какой-то рабочий, как иллюзионист, с лёгкостью развязывающий мёртвые узлы, открыл дверь парадного – оказалось, что доска приколочена лишь к дверному полотну, для видимости, – и скрылся внутри подъезда.
Я с недоверием потянула за доску, дверь открылась. Мы робко сунули головы в полумрак и увидели там только что вошедшего рабочего, который что-то мастерил возле ведущей в подвал лестницы. Спросив, можно ли подняться, и получив утвердительный ответ, мы стали подниматься. В доме было гораздо холодней, чем на улице, – ледяной, неподвижный, не оттаявший после зимы воздух. Двери всех квартир застыли открытыми настежь. Везде лежали кучи мусора, брошенный хлам. В квартире № 5 посреди комнаты стояла кровать с пружинным матрацем. Где-то теперь её хозяйка, которая однажды сшила мне красивое бежевое платье с красным поясом? На пороге квартиры № 8, где когда-то жили Фомины, валялась на боку табуретка с прорезью для пальцев. Мигом вспомнился смуглый Павлик, который в шестом-седьмом классе неожиданно начал оказывать мне знаки внимания, даже однажды поднёс к электричке мой чемодан, когда я в одиночестве, с опозданием из-за экзаменов в музыкальной школе, отбывала в пионерский лагерь, а потом почему-то вдруг возненавидел и перестал здороваться…
Окружённые могильным холодом и стылой тишиной, мы медленно совершали восхождение. И хотя кошек не было – что им делать в брошенном, нетопленном доме? – их едкий запах был по-прежнему силён, являя живую связь времён (именно этот запах был камнем преткновения при попытках обменять жилплощадь).
На третьем этаже почувствовалось человеческое дыхание, и мы увидели показавшихся в этой ситуации ирреальными мужчину и женщину, рывшихся в куче старья. «Тоже пришли на родное пепелище?» – спросила я, но вразумительного ответа не получила. Тут же бросив своё занятие – быть может, смутились, – персонажи потянулись на четвёртый этаж вместе с нами. На последнем пролёте я напряглась, предчувствуя, что дверь моей квартиры окажется запертой – закон мелкой подлости, имевший некоторую власть над моей судьбой, породил в душе робость и недоверие. Я даже не сразу взглянула в нужную сторону – хотелось немного продлить состояние надежды, – потом решилась и… перевела дух: «мое родное пепелище», как и все прочие, стояло нараспашку. В большом волнении я переступила его порог…
Двери комнат, туалета, кладовки были открыты. В туалете стоял очень маленький – детский – унитаз. Шаги, мои и Татьяны, отдавались эхом в пустоте передней, потом – большой комнаты, потом – маленькой, моей. Я жадно рассматривала каждый участок каждой поверхности, на дощатом полу – те же трещины и щели, облупленная краска. Содрала со стены кусок обоев, приготовившись увидеть под ними наши, ковровые, но их там не оказалось – только слой газеты.
В моей комнате валялись две маленькие туфельки – разные, обе с левой ноги, и один носочек. «Как жили, – сказала подруга. – И это считалось хорошо». Вот здесь, слева, стояла моя кровать с шишечками, над которой долгие годы висел коврик с аппликацией, изображавшей трёх бегущих девочек, взявшихся за руки, в разноцветных платьицах, шляпках, с корзинками в руках, полными ягод и грибов. Они имели имена, я беседовала с ними, особенно когда болела. Мне страстно хотелось, чтобы они ожили, хотя бы изменили позы…
На стене под окном по-прежнему располагались восемь секций чугунного радиатора, который я когда-то протирала мокрой тряпкой. Дверь, ведущая из маленькой комнаты в соседскую и прежде загороженная книжным шкафом – как будто её вовсе не существовало, – была тоже открыта настежь.
Оцепенело, как во сне, я двигалась обратным ходом. Та же кладовка, та же кухня, та же маленькая раковина – никаких признаков горячей воды. Всё то же. Только я совсем, совсем другая…
Не в силах уйти, я вернулась в большую комнату и посмотрела в окно. Далеко, как и тогда, увидела башни Кремля, перед ними – гостиницу «Россия», которой в те времена еще не было – Зарядье кишело в яме огромной вороньей слободкой. Тем же кривым коленом уходил к Яузе переулок с церковью Петра и Павла. У двери большой комнаты на полу лежала незамеченная мной вначале огромная куча чёрных и белых сухарей, как гора черепов на картине Верещагина… Кто-то сухари сушил. Похоже, не понадобились…
– Пойдём, хватит! – решительно прервала сон-явь подруга.
Вышли на лестницу. В соседней квартире всё та же пара вертела в четырёх руках корыто, по-видимому, решая, забирать его или нет. Я спросила:
– Вы жили в этой квартире?
– Я жил в этой квартире. В этой комнате, – сказал он.
– Я жила на третьем этаже, – смущённо сказала она.
Так вот оно что. Жили на разных этажах, а сюда явились вместе перебирать старый хлам.
Я спросила мужчину:
– А сколько лет вы жили в этой квартире?
– Пять.
– Вы знали Вернера Ивановича?
– Кого-кого?
– Вернера Ивановича Вернера. У него были жена Анна и дочь Людмила.
– Аа-а-а, Анна… Да, они жили с Людмилой вон в тех комнатах, а муж умер ещё до меня.
– Да, они жили здесь, – с этими словами я вошла в первую из двух смежных комнат квартиры № 14 и увидела… круглый стол. Это был массивный, добротный круглый стол с толстыми ногами, солидными перекрещивающимися перекладинами, со щелью посередине – во время праздников стол «разводили», как мост, и вставляли между половинками доску; тогда из круглого он становился овальным… Видимо, давно не в чести: шершавый, заляпанный штукатуркой, с одного бока свешивается заскорузлая клеёнка…
Я обмерла, потому что узнала… наш стол! Да, да, напрягала я память, мама ведь отдала Вернеру шкаф, диван и стол… Ещё что-то… Я трогала изъеденную временем поверхность, попыталась приподнять гиганта. Угадав ход моих мыслей, сообразительная Татьяна предложила отвезти его ко мне домой. Увы, это было нереально. Мужчина и женщина, замерев, наблюдали сцену моего безумства…
…Вернер Иванович Вернер жил в соседней квартире. Когда мы въехали в этот дом, Вернер, на мой тогдашний взгляд, был уже старый и смешной (думаю, ему было немного за пятьдесят). Меня забавляло, что у него одинаковые имя и фамилия. Он ходил в линялой гимнастёрке, всегда в одних и тех же брюках, с шахматной коробкой под мышкой. Единым духом он взбегал на четвёртый этаж, и грохот шахматных фигурок внутри коробки сопровождал его возбегание.
Я прожила в этом доме девятнадцать лет и ни разу не видела Вернера Ивановича в верхней одежде – во все сезоны он носился без пальто и головного убора. Именно носился: то ли бегал оттого, что не имел одежды и спасался таким образом от холода, то ли ходил раздетым, потому что не знал иных способов передвижения. Его голова была седа, от небольших светло-голубых глаз лучиками расходились морщинки. Только летом, когда становилось очень жарко, Вернер снимал свой «френч» и переходил на летнюю форму – выцветшую шёлковую тенниску. Я усвоила с детства, что он – ОБРУСЕВШИЙНЕМЕЦ (как у Цветаевой ПАМЯТНИКПУШКИНУ). Трудно выразить, насколько неуместными были в нашем дворе его интеллигентские манеры и интонации. Когда он пробегал сквозь строй старух, воров-рецидивистов и играющих в пыли немытых детей, ему вдогонку летели, как каменья, грубые насмешливые реплики. Он не обращал на них внимания, разве что иногда останавливался и, глядя сквозь похожие на пенсне очки, говорил особо постаравшемуся: «Нехорошо. Некрасиво», что усугубляло дурацкостъ его образа.
Нашу семью он «выделял»: папа – инженер, мама – инженерша; у нас было пианино, я ходила с нотной папкой. Поэтому частенько, пробегая мимо по лестнице – я-то плелась обычно еле-еле, – он хорошо поставленным трагическим баритоном напевал какую-нибудь арию. А в другой раз затевал светский разговор, который мне не хотелось поддерживать – с одной стороны, он раздражал меня своей нелепостью, с другой – мне было его жгуче жалко. Я часто видела его на бульварной скамейке играющим с кем-нибудь в шахматы. Кем он был по специальности и работал ли – не знаю, почему-то такой вопрос у меня никогда не возникал.
Когда я училась в пятом-шестом классе, Вернер повадился приходить к нам петь, а меня просил аккомпанировать. Он исполнял «Сомнение», «Элегию» и другие прекрасные романсы. Голос его могуче и театрально дрожал. По-моему, это было пение, близкое к профессиональному. Маме не нравилось вторжение Вернера в наш дом: он отвлекал меня от уроков и вообще не вызывал у неё симпатии. После маминых намёков он стал приходить реже и в её отсутствие. Я сама не очень-то любила эти концерты, но отказать ему у меня не хватало духу. Вернер Иванович жил с двумя немками, тоже обрусевшими – женой и сестрой. Они занимали две комнаты, из которых одна была проходной. В третьей, маленькой, но изолированной комнате этой же квартиры жила тихая семья с двумя детьми.
Я почти не отличала жену Вернера от его сестры: обе были высокие, сухопарые, одна старше и некрасивей, другая моложе и миловидней; обе одинаково приветливо улыбались, не вступая в разговоры, а лишь кивая в знак приветствия головой. Обе ходили в шляпках, с меховыми муфточками. В отличие от Вернера, степенно поднимались на четвёртый этаж и тихо скрывались в квартире. Из жизни ушли почти одновременно – одна на даче от солнечного удара, другая в больнице от болезни. Вернер остался один и совсем почуднел. Седые пёрыш-ки на голове торчали непричёсанными, на щеках извивались красные склеротические червячки. При каждой встрече на лестнице он елейно улыбался мне, но моя неизменная сухость постепенно подсушила и его манеры в обращении со мной. Лет за пять до нашего выезда из этого дома Вернер женился. Кто-то привёз ему из деревни белотелую, полногрудую, цветущую – кровь с молоком – двадцатисемилетнюю Анну (ему в это время, по неточным подсчётам, было под семьдесят). Так что вместо двух утраченных старых женщин судьба подарила Вернеру одну молодую.
То-то был театр для старух, десятками любознательных глаз провожавших «молодых», когда они шли по двору. Анна ступала важно, не торопясь, не стесняясь взглядов. Вернеру тоже теперь приходилось ходить медленно, что совсем не вязалось с его образом, а также с его лёгкой одеждой. Через год-полтора из большого, круглого живота Анны вылупилась девочка Людмила, и пока она лежала в бывшей до неё в чьём-то употреблении коляске, все успели вволю назлословиться относительно истинного происхождения малютки – не старый же Вернер тому причиной. Но чем старше становилась девочка, тем ясней было, что она как две капли воды похожа на Вернера, а также на его покойных сестру и жену, но только не на Анну. Глядя на малышку Людмилу, перебиравшую тонкими белыми ручками лестничные стойки, я могла дать голову на отсечение, что удлинённое личико с голубыми глазками и белокурые кудри малютки сотворены её престарелым отцом…
Когда началось томительное ожидание переезда в новую квартиру, мама стала избавляться от старой мебели. Я хорошо помню, как широко были открыты двери двух соседствующих квартир, и из одной в другую переселялись вещи…
После нашего переезда ещё в течение нескольких лет до нас доходили слухи о старом чудаке, бегающем по зимнему бульвару без пальто с шахматами под мышкой…
…Вечером того же дня я позвонила маме:
– Мы отдавали Вернеру круглый стол?
Сначала мама ответила утвердительно, но потом вспомнила, что ему отдали шкаф и диван, а стол взяла Зоя Петровна…
Через месяц после этого удивительного визита в выселенный дом мамы не стало. Внезапно, хоть и болела. Через двенадцать лет после скоропостижного ухода папы. Два сильнейших удара, от которых оправиться невозможно. Скоропостижность смерти близкого человека – непостижима. Душа и сердце так до своего конца и существуют неизлеченными. «О, господи! и это пережить… И сердце на клочки не разорвалось…»
…Сижу в лучах заходящего апрельского солнца на террасе с каменными балясинами, слежу за радостными мошками, штопающими воздух (так сказал известный писатель). Наверху – освещённые красноватым светом верхушки вечнозелёных елей. Внизу – полчища бурых, сладострастно урчащих лягушек, они заполонили местность, как крысы тот город, из которого их удалось вывести только с помощью музыки. Поют, свистят, тренькают незнаемые мною птички. Это – рай, лучше уже никогда не будет, разве только в настоящем раю…
Вспоминаю родителей. Думали ли они, что их дочь, их единственный ребёнок станет когда-нибудь грустной стареющей дамой? Солнце уходит за крышу, и луч мгновенно обрывается. Сейчас быстро, друг за другом, наступят сначала ранние, потом поздние сумерки. Затем придёт тьма, набитая (набивная ткань) звездами, быть может, и луной. Так что это ещё не та абсолютная тьма… То есть, ты хочешь сказать, что ещё не вечер? Не обольщайся, уже вечер…