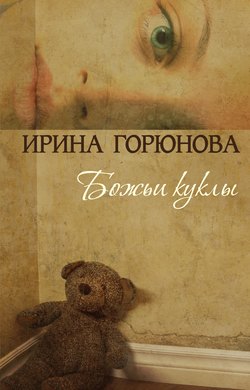Читать книгу Божьи куклы - Ирина Горюнова - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Божьи куклы
Отец
ОглавлениеКогда папу внезапно уволили с работы, в доме начались скандалы. Мать Оли, Елена Владимировна, была огорошена внезапным изменением их социального статуса и видела в этом безалаберность и слабоволие мужа, который совершенно не понимал, в какую бездну бросил вот так, вдруг свою семью.
– Ты понимаешь, что ты наделал? – Слюна летела изо рта Олиной мамы и попадала прямо на щеки Геннадия, который украдкой вытирал их тыльной стороной ладони. – Утирается! Ты у меня сейчас утрешься! Ты подумал о своей семье? Ты о дочери подумал? Ей еще в институт надо поступать!
– Можно подумать, ты много думаешь о семье и заботишься о дочери! Прекрати, Лена, не нервируй девочку! Давай не при ребенке.
– «Не при ребенке!» Пусть знает, какой у нее отец! – И обратившись к дочери: – Ольга, посмотри на него! Твой папа – полный кретин. Запомни это!
– Мама, не надо! Он хороший. – Оля бросилась в объятия к отцу, пытаясь закрыть его от матери телом. – Не ругайтесь! Мама, папа – добрый, просто так получилось… Все наладится.
– Много ты понимаешь! – взбесилась мать. – Иди в свою комнату и делай уроки. Вся в отца пошла, такая же недотепа! Хоро-о-о-ший!
Эти сцены повторялись изо дня в день, почти не меняясь. Геннадий Александрович Гурин, отец Оли, жалобно морщился от пронзительного несмолкающего визга жены и поспешно уходил из дома – в Александровский сад. Там он часами сидел на лавочке, бездумно глядя вдаль или сухо шурша ломкой газетой, до той поры, пока не зажигались тусклые фонари, излучая рассеянный свет на деревья, прохожих, дорогу, мраморные плиты по бокам от распятой звезды с Вечным огнем.
Он вспоминал о том, как они с Леной познакомились в крымском пансионате «Приморский». Вместо того чтобы, как многие отдыхающие, загорать на пляже или плескаться в мутной соленой морской воде, он пошел гулять. Хотелось спокойствия и уединения вместо смеха, криков и визгов, вместо игры в мяч или в бадминтон и тому подобных развлечений. Его всегда тянуло к тишине. Геннадий, сколько себя помнил, любил читать русских и зарубежных классиков, слушать камерную музыку, просто гулять в лесу. Родители его были людьми образованными и интеллигентными. Отец преподавал латынь в институте, мать – учительница русского языка и литературы в школе. Они никогда не ругались, не выясняли отношений, не били посуду, а существовали в гармонии, словно были едины душой, духом, прощая друг другу мелкие прегрешения, а может быть, и вовсе не видя их.
Каково же было удивление Гены, когда, выйдя к огромному, красиво колышущемуся от ветра маковому полю, в зыбком от жары мареве, в плотно подрагивающем воздухе он увидел маленькую фигурку в ситцевом платьице. Девушка с длинными неприбранными волосами медленно шла к нему через поле, подняв голову к небу и нежно касаясь пальцами полупрозрачных шелковых лепестков мака. Геннадию представилось, что он видит сейчас полотно некоего художника, каким-то чудом ожившее, показалось, будто это небесный знак свыше. Он стоял и завороженно смотрел на девушку, боясь окликнуть ее, чтобы не нарушить очарование момента. Когда она, не видя Геннадия, внезапно ткнулась с размаха ему в грудь, он засмеялся и осторожно поддержал ее за плечи. Она не испугалась.
– Как вас зовут, видение?
– Лена, – смутилась девушка, и щеки ее запунцовели.
– А я – Гена. Вы были так прекрасны, когда шли через это поле… Жаль, я не художник.
– Ну что вы, я совсем не подхожу для картины, – кокетливо ответило «видение».
– Еще как подходите! Можно я вас провожу?
– Да, пожалуйста.
– Вы отдыхаете тут или живете? – заинтересованно смотрел на нее Геннадий.
– Отдыхаю. В «Приморском». А вы?
– И я. Вы одна?
– Нет, с мамой.
– А я один. Не хотите вечером составить мне компанию и сходить погулять к морю? Маму вашу я тоже приглашаю.
– С удовольствием.
Геннадий Иванович сидел на скамейке и пытался понять, что же изменилось с тех пор. Почему они стали чужими друг другу и практически не разговаривали? Как ни странно, сейчас он стал чувствовать некоторое облегчение, словно застарелый нарыв, терзавший его так долго, наконец прорвался и истек гноем, выпустив наружу всю ту гадость, которая копилась. Можно было больше не терпеть это невыразимо надменное лицо жены, не вглядываться в ее глаза, тщетно надеясь найти в них отсветы того голубого неба и нежность тех маков.
«Она не любит меня, – осознавал каждое утро Геннадий. – Невозможно, любя человека, становиться такой страшной и уродливой, прятать все то естественное и красивое, что в тебе есть, выставляя наружу внутреннюю часть мистера Хайда. Или… – Он вспомнил книгу «Портрет Дориана Грея», которая произвела на него в свое время сильное впечатление. – Или это что-то другое и оно всегда было у нее внутри? Но почему? Это я виноват? Я? Бедная Оленька! Мы с женой – чудовища. Каждый по-своему. А я виноват перед обеими».
Последнее время сердце кололо, но Геннадий не обращал на это внимания, списывая боль на увольнение, депрессию и моральный перегруз. Потерев ладонью грудь, он отвлекся, наблюдая за молодой парой, которая, взявшись за руки, медленно брела по парку. У них были такие влюбленные глаза, что становилось и завидно, и немного тревожно, и обжигающе больно за себя, за растраченную впустую жизнь, за это умершее счастье и квартиру, загроможденную коврами, люстрами, чешскими стенками, дурацкими статуэтками, – квартиру, в которой нет звенящего радостного смеха и нет жизни.
Оле было нестерпимо жаль отца, и она старалась подластиться к нему, подсовывая под большую руку свою белесую головку и замирая от усталых его вздохов. В один из таких дней, когда матери не было дома, Геннадий Иванович попросил Олю зайти в комнату.
– Сядь, малыш. Я хочу подарить тебе кое-что. – Он открыл небольшой потрепанный самодельный кожаный футляр и бережно извлек из него старинные часы-луковицу на цепочке. – Знаешь, Олюша, эти часы достались мне от отца, а ему от его отца, твоего прадеда. Я никогда не интересовался, имеют ли они какую-то материальную ценность, потому что они для меня значимы именно тем, что они наши, наследственные. Впрочем, есть у меня предположение, что они недешевы, а может, даже и дороги. Ты, детка, спрячь их и никому не показывай. Они теперь твои.
– Спасибо, папочка! Может, лучше, чтобы они были у тебя?
– Нет, Олюша, я знаю, что так надо. Если сможешь, не продавай их, передашь потом своим детям. Это память.
– Хорошо, папочка.
– А теперь иди, детка, я немного посплю. Устал я.
Как-то в одночасье отца не стало – обширный инфаркт свел его, еще не старого человека, в могилу. Бывшие друзья и коллеги Геннадия Ивановича по работе удивительно быстро исчезли с горизонта, не явившись даже на похороны. Оля долго рассматривала спокойное и умиротворенное лицо отца, будто бы разгладившееся после смерти. Немного осунувшийся, но помолодевший, он лежал в черно-красном гробу с таким достоинством и даже радостью, словно ему теперь уже стало легче. Настал финал. Любви. Жизни. Всего. Посеребренные сединой виски ласково грело солнце, но оно уже не могло заставить человека проснуться, зажмуриться от яркого света, встать. Но его лицо стало для Ольги вдруг чужим, словно это не отец, а кто-то похожий на него лежал тут неизвестно зачем, словно это неудачная первоапрельская жестокая шутка, и вот сию минуту должен раздаться звук родного голоса, и из-за чьей-то спины выглянет лукавая отцовская физиономия, и он скажет: «А здорово я вас разыграл, а? Напугались?» Но ничего не происходило, и душная атмосфера гнетущего недоумения все никак не рассеивалась.
Зияющее «окно», в которое быстро и неловко опустили гроб на веревках… потом глухо стучавшие о крышку гроба комья черной жирной земли – и вот уже вырос холмик, на который кто-то водрузил кричаще-аляповатый пластмассово-бумажный венок с вычурными и пошлыми розами, бесстыдно-грубыми и неуместными, как сочетание понятий «буффонада» и «смерть».
«И это все? – думала Ольга. – Неужели вот так просто, быстро, нелепо кончается человеческая жизнь? Я представляла себе это несколько по-другому, более торжественно, более печально и благородно, а тут… все какое-то стыдное, спешное, неуклюжее… Словно и не было ничего, никогда. Не жил человек, не творил добра, не пел песен, не шутил, не целовал жену, детей, не мечтал о чем-то… Даже если ты и не был атеистом, то поневоле им станешь, когда увидишь церемонию погребения. Переход в другой мир должен быть иным, не таким прозаичным, холодным… Да и где справедливость? Уходят люди, которые тебе очень нужны, дороги, уходят раньше срока, а другие коптят небо до глубокой старости…»
Ольга долго еще вздрагивала, увидев на улице похожий на отцовский силуэт, обгоняла, оглядывалась и уныло шла прочь. Это стало превращаться в манию, в болезненную игру, и тогда она стала твердить себе по ночам, что отец умер, но что так ему лучше, что все люди смертны, и это закон жизни, и рано или поздно умрет и она, Ольга, что страдание ни к чему не приведет, не вернет ей папу, что надо смириться и жить дальше. Она заставляла себя не бежать, не искать его на улицах, не вглядываться в глаза и лица, не обманывать себя больше.
После смерти папы Ольга замкнулась и начала смотреть на мать злыми глазами. Та же была в прострации: жена высокопоставленного чиновника, до этого она жила припеваючи и никогда не помышляла о работе. Слова «стаж», «пенсия» были для нее в диковинку в противовес приятным словам «спецраспределитель», «чеки», «Березка». Поэтому совершенно закономерно то, что пара аферистов уговорила ее менять квартиру на меньшую в спальном районе, но с большой доплатой. Доплаты она так и не увидела, но теперь они с Олей и бабушкой Инной вынуждены были ютиться в крошечной двушке в спальном районе.
Закончились поездки в пионерский лагерь «Артек» и санатории на роскошных черноморских курортах, в старинные, отделанные мрамором дореволюционные царские особняки с белыми колоннами. Теперь они не могли себе позволить ничего подобного. После девяти классов Оля пошла в педучилище, чтобы побыстрее стать самостоятельной, хотя учителя уговаривали остаться и готовиться к институту. Однако жить с матерью стало совсем невмоготу: ее характер день ото дня становился все более скверным, еще и оттого, что пришлось пойти подрабатывать вахтером в общежитие – больше же Елену Владимировну никуда не брали.
– Сидишь тут на моей шее, дармоедка! Вся в папашу пошла, бессловесная. Что глаза выпучила, как рыба? Думаешь, тебя кто такую замуж возьмет?! Раскатала губы!
Ольга молчала, зная, что спорить с матерью бесполезно. Тогда та заведется еще больше, поток ругательств и оскорблений еще долго будет слышен всему подъезду. Бедная бабушка тоже не рисковала вмешиваться, предпочитая включать на всю громкость новости и пить корвалол в надежде, что ее на сей раз не обидят и сердце не будет так мучительно сжиматься, глядя на обезумевшую и недобрую дочь. Инна Яковлевна, проработавшая всю жизнь чертежницей в конструкторском бюро, была человеком тихим и бесконфликтным, в этом плане Оленька пошла в нее. И пожилая женщина удивлялась, как так произошло, что Лена «случилась» совсем другой породы. Да, конечно, с мужиками в то время было тяжело – война обездолила и осиротила многих. Не стала исключением и их семья. Рожденная через несколько лет после окончания Великой Отечественной, дочь росла слабенькой, болезненной травинкой. Но тогда так жили многие. А ей, Инне Яковлевне, в общем, повезло. Попался на пути хороший человек, поддерживал, продукты приносил и хоть и не женился, поскольку уже имел жену и двух сыновей, но никогда не обделял их деньгами или какой другой помощью. Потом вот и зятя, Геночку, помог пристроить на тепленькое местечко, благодетель, с квартирой поспособствовал. Нет, грех жаловаться – хорошо жили, не ссорились.
Как-то раз сдуру Оленька рассказала матери про мальчика, в которого была влюблена, Женечку Левинтанта. Та подняла вой:
– Ты в жидовскую семью?! Никогда! У них там сплошные клопы на диване. Какая грязь!
– Мама! Женя даже не знает, что он мне нравится!
– И слава богу! Уж не думаешь ли ты, что я позволю этому случиться?!
– Чему? Ничего ведь нет!
– Даже не мечтай! Во-первых, они женятся только на своих жидовках, во-вторых, я не позволю. Прокляну, так и знай!
Елена Владимировна стала копаться в Олиных вещах, читать ее письма, записки, личный дневник, часто подделывала голос по телефону, выдавая себя за дочь, и говорила молодым людям гадости. У нее вошло в привычку, бесшумно ступая, подкрадываться к двери и прислушиваться к тому, что происходит в комнате, а потом внезапно приоткрывать дверь и лихорадочно оглядывать комнату в поисках чего-то запретного. Как-то раз она украла Олину записную книжку и позвонила родителям Жени, наговорив им гадостей. Конечно, в школе Олю стали сторониться и презирать, шептались за спиной и показывали на нее пальцами. Проходя мимо, Женя приподнимал бровь и ехидно усмехался, а сопровождавшие его одноклассницы разражались зловредным гоготом, отпуская дурные шуточки. В общем, о продолжении учебы речи идти не могло. Отверженная Оля бросилась подавать документы в училище. Хорошо, что там никого ничего не интересовало. Учились же там по преимуществу девицы, озабоченные в основном косметикой, колготками в сеточку и вопросом, когда и с кем переспать.
Открытая пинком ноги, дверь жалобно заворчала. Оля лихорадочно подскочила на кровати, на пороге стояла взбешенная мать.
– Ты куда, дрянь, мои деньги подевала, а?
– Какие деньги? – протирая глаза, недоуменно спросила Оля.
– Не притворяйся, тварь, ты прекрасно знаешь какие!
– Не знаю, я у тебя ничего брала.
– Хватит врать. И не стыдно смотреть мне в глаза?
– Мама, я не знаю, какие деньги! Ты о чем?
– Те, которые я спрятала в тумбочке, под фанеркой задней стенки!
– Я не брала. Посмотри еще раз.
– Я уже смотрела. Если ты сейчас же не вернешь мне их, я выгоню тебя из дома!
– Клянусь, я ничего не брала. Я ни разу в жизни не брала ничего без спросу!
– Ты меня слышала. Чтобы через полчаса деньги были на месте! – Мать резко повернулась и вышла, изо всей силы хряснув дверью, так, что с косяка посыпалась краска.
– Господи, – сказала ей вдогонку дочь, – лучше бы я умерла. Я как ничтожная безродная шавка, которая путается под ногами и которую можно пнуть побольнее в удобный момент! Спасибо за доверие, мамуля! – Девушка быстро оделась, собрала сумку и выскользнула из квартиры.
Когда она вернулась вечером, мать сделала вид, будто ничего не произошло.
– Ты нашла деньги? – в лоб спросила Оля.
– Да.
– Понятно.
Ольга вздохнула. Конечно, извиняться за грязную сцену матери просто не придет в голову. Хорошо хоть деньги нашлись. Могла и выгнать.
Перед глазами поплыли черно-радужные круги. С трудом добравшись до постели, не раздеваясь, как была – в джинсах и связанном еще бабушкой солнечно-желтом свитере, – Оля провалилась в мучительный липкий сон.
Сначала она бежала, задыхаясь от страха и ужаса, потому что сзади был кто-то страшный. Что-то ползло за ней, черное, клокочущее, опасное и коварное, похожее на огромную склизкую амебу. Потом Ольга открыла дверь и оказалась в совершенно другом месте. Странное помещение с узким коридором походило на тюрьму… Какие-то клетки… Некоторые из них были пусты, в других же томились люди. Кое-где на гвоздях висели цепи. Пленники были скованы наручниками и одеты в разноцветную лоскутную одежду, в чем-то театральную и нелепую. Окна нескончаемого коридора были заколочены деревянными досками, и если кое-где пробивался лучик света, пылинки тут же начинали плясать по тонкому его лезвию. Кое-кто из людей, выпускаемых из клеток по каким-то непонятным причинам, двигались перебежками, кривыми зигзагами к металлическим ящичкам в стене, похожим на банковские ячейки, воровато доставали что-то из ящика и, уже подволакивая ноги, плелись обратно. Ольга удивленно спросила себя: «Что это? Почему я вижу это?» В ответ же услышала голос, прозвучавший в ее мозгу: «Это люди, томимые различными страстями. Это их комплексы. Их нереализованная любовь…»