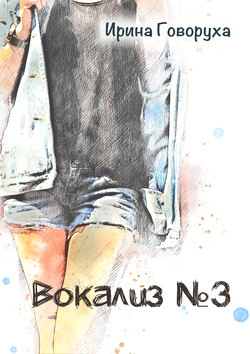Читать книгу Вокализ №3 - Ирина Говоруха - Страница 2
Глава 2. Большой привет из Ленинграда
ОглавлениеЛетом 1970 года Люба-большая с мамой уехали отдыхать в Евпаторию. Они обожали этот низкорослый городок с кинотеатром «Ракета», ханской пятничной мечетью – Джума-Джами, светящейся в темноте, как огромная аромалампа, и домом Дувана в Летнем переулке. В нем подкупали округленные углы, женские маски с растрепанными волосами и львиные морды цвета золотого песка.
Женщины остановились в доме отдыха и быстро наладили свой курортный режим. На пляж ходили с раннего утра и возвращались, когда большинство курортников еще только надувало детям круги и кипятило воду на чай. Мама терпеть не могла раскаленного, как подошва утюга, солнца, кашеобразного моря из-за взлохмаченного сотнями ног песка, запаха тины и сероводорода. А еще ее раздражали поджаренные, будто на гриле, люди, безобразные мужчины в газетных панамках и самодельные палатки: четыре палки, между которыми натянута застиранная простыня. На пляже периодически что-то объявляли в мегафон, больше напоминающий фен, продавали растаявший пломбир и фотографировали детей в ржавом кораблике «Бригантина». В огромный ангар с надписью: «Навес детсада “Теремок” занят с 09:00 до 12:00» все равно набивались чаморошные люди и бесцеремонно укладывались спать, тыкаясь сухими пятками соседу в лицо. Тогда они возвращались в свой прохладный номер, чтобы вздремнуть, полистать «Новый мир» с непонятным Аксеновым и его «Затоваренной бочкотарой» и в очередной раз обсудить повесть «Неделя, как неделя». Люба, когда прочла ее в первый раз, долго расхаживала по комнате, задевая журнальный столик с тарелкой мускатного винограда, и утрамбовывала свои мысли, как землю под газон, а потом выдала:
– Так жить нельзя! Это унижение для женщины, для личности, в конце концов! Главная героиня превратилась в добровольную рабыню своей семьи. Меня затошнило уже на «среде», а «эта сумасшедшая Оля» выжила аж до воскресенья. И такое оно у нее не последнее. Подобных недель у нее – сотни.
Мама, накладывая на лицо толстые ломти пупырчатых огурцов, кивала. Она уже давно ей втемяшивала, что талантливой женщине следует воздержаться от детей и от «большой» любви.
Затем они обедали в столовой, в самый солнцепек спали, а вечером прогуливались вдоль набережной Терешковой и санаториев, специализирующихся на лечении туберкулеза кожи, ревматизма и полиомиелита. Ели шашлык за три рубля. Их жарили женщины в белых, почти что докторских, халатах и подавали на тарелке из гофрированной фольги. Сверху – два куска пшеничного хлеба, как два толстых пуховых одеяла. Ходили на популярную пешеходную экскурсию «Малый Иерусалим» и таращились на еврейскую синагогу, кенасы, молитвенные дома дервишей, православных и мусульман. Разглядывали турецкие бани, особняки известных горожан, базарные ворота и мастерские ремесленников. Цитировали Маяковского, приезжавшего в город четыре раза и громко заявлявшего: «Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории». Любовались черно-белыми лебедиными озерами, бесплодными оливками и дышали выразительным запахом полыни, низкого лилового чабреца, можжевельника и соли.
Во время одной из таких прогулок мама впервые разоткровенничалась и рассказала о причинах развода с Любиным отцом. Всю жизнь для дочери существовала одна версия: «разлюбили друг друга» или «по отдельности мы звучали чисто, а вместе – фальшиво», но тем летом всплыли новые детали:
– Он постоянно пропадал на гастролях. Ездил по всей стране со своей филармонией и частенько болел, так как приходилось играть в неотапливаемых залах. Как-то пожаловался на периодическую утомляемость рук. Что не может взять полноценный нонаккорд и что даже сам не слышит своего пиано. Затем начались острые боли в суставах, предплечье, онемение и дрожь в пальцах. Боль донимала и ночью, когда руки пребывали в полном покое. Он стал курить, гасить страх алкоголем и срываться. Ни с того ни с сего мог завопить и стукнуть кулаком по клавишам: «Я не слышу свою доминанту. Мои ноты будто обуты в тяжелые сапоги новобранца. Лучше бы я потерял потенцию, чем музыкальное чутье!» А когда во время исполнения вальса Шопена замычал, делая сотни лишних движений корпусом, чтобы добрать драматизма, ему дали отпуск и порекомендовали подлечиться. Это я сейчас понимаю, что у него были переигранные руки, которым требовался полный покой. И что следовало «заковать» их в гипс, записаться на электрофорез, парафин, грязи, а я только покрикивала: «Соберись! Прекрати жевать сопли! Что ты истеришь, как не мужик!» А он еще сильнее нервничал, играл сутками напролет, но становилось все хуже, пока руки окончательно не потеряли легкость, а пальцы – беглость. Ему уже не давалась орнаментика и птичьи трели, длинные форшлаги и даже простые арпеджио. Его исполнение уже напоминало ремесленническое, местами топорное и неритмичное. И сам он выглядел жалко – в пижаме, с сальными волосами и нерабочими руками-клешнями.
Как-то раз возвращаюсь вечером домой и вижу на пороге чемодан. Твой отец, в шапке и пальто, переминается с ноги на ногу, будто хочет в туалет, вытирает лоснящийся лоб и шею, а потом говорит одолженным голосом: «Ухожу. Между нами давно нет благозвучности». Я не стала его останавливать. Собрался – скатертью дорога. Только указала глазами на полку, на которой валялись забытые перчатки и нелюбимый «кусучий» шарф.
Как оказалось, он уходил не в никуда, а к «первой скрипке». К неказистой женщине-подростку в угрях и безвкусных оранжевых ботах. Она стала его таскать по специалистам, бабкам, экстрасенсам. И ты знаешь, привела в чувство. Конечно, в оркестр он больше не вернулся, но остался в профессии.
Люба сглотнула. Она часто виделась с отцом. У него родились два мальчика-погодки, жена из бот прыгнула в лодочки, а он возглавил детскую музыкальную школу. Любу всегда поддерживал, вникал в ее дела, интересовался академическими концертами и считал, что дочке лучше всего удается музыка, написанная скандинавскими композиторами, поэтому неутомимо объяснял философию Грига:
– Его гармонию нужно чувствовать. Нахрапом не возьмешь. Между ладами напрочь стерлась грань, и никогда не знаешь, куда придешь: в минорную доминанту в мажоре или в мажорную доминанту в миноре. Просто, когда играешь – представляй викингов, ледяное море и скалу Прекестулен.
Он часто рассказывал об этой «кафедре проповедника», нависающей над морем в виде абсолютно плоской роликовой площадки, об изобилии белых грибов в лесах и мягком климате, благодаря согревающему течению Гольфстрим. А вот мама с тех пор бывшего мужа игнорировала, подсмеивалась над ним и старательно разыгрывала успешную даму. Всякий раз, когда он приходил к Любочке, принималась звонить косметичке или портнихе и обсуждать фальшивым голосом пошив миди пальто или преимущества новомодного душа Шарко.
Это случилось в конце сентября, когда от Марфиного лета не осталось и следа. В кинотеатрах бил все рекорды фильм «Белое солнце пустыни», и афиши с лысым мужиком, зарытым по шею в песок, мелькали на каждом углу. Еще до конца не выстывшее солнце зарывалось в сушку-листву, оттеняло амарантовый барбарис, фонарики физалиса и порхало между березами, накладывая на них свои изящные витиеватые тени.
Утро началось как всегда. Люба с мамой позавтракали гренками, залитыми сладким омлетом, и выпили черный, пахнущий опилками, чай. Обсудили планы на день и напомнили друг другу, что вечером идут в театр – давали «Бесприданницу». Потом мама неожиданно полезла в сервант и еще раз показала шкатулку, в которой лежала сберегательная книжка, деньги и несколько тяжелых колец 583-й пробы. Люба отмахнулась: «Не вовремя». Мама обняла себя за плечи, задумчиво посмотрела на свою свадебную фотографию и сказала голосом Татьяны Самойловой из фильма «Летят журавли»:
– А кто его знает, Любочка, когда время.
И все было, как обычно, только необъяснимая тревога сосала под ложечкой. Точно так же, как в детстве, после прочтения рассказов Веры Пановой «Валя» и «Володя». В тех историях люди уезжали из военного Ленинграда, еще не понимая, вернутся ли обратно. Так и Люба спинным мозгом предчувствовала, что должно что-то произойти, и больше не будет прежней жизни.
Интуиция ее не обманула. Во время четвертой пары девушку вызвали в деканат, и она шла, пошатываясь, будто страдающая хореей, и почему-то представляя несчастье с отцом. Только не угадала.
В деканате было жарко и пыльно. Все-таки солнечная сторона. Из щелей старого паркета поднимался мелкий, как манка, песок и перемещался по принципу калейдоскопа. Коротковатые, севшие от многочисленных стирок, шторы демонстрировали затертые плинтуса. На столе валялось недоеденное яблоко со следами зубов и крови, заигранная партитура Лысенко и несколько папок с серовато-коричневыми завязками. Ей что-то осторожно говорили, будто медленно вводили магнезию и пристально следили за реакцией, с готовностью подставляя под локти руки. Все собирались ее ловить, хотя девушка даже не думала падать. Люба старалась в сказанное не вникать и с интересом рассматривала секретаршу с глупыми от страха глазами, паркет, уложенный в виде прямой палубы, и залепленную изолентой форточку. Кто-то настоятельно рекомендовал прямо сейчас возвращаться домой, но девушка оказалась неумолимой:
– Только началась пара по музыкальной литературе. У нас новая и очень важная тема. Я не могу себе позволить ее пропустить.
И она вернулась в аудиторию с белым фарфоровым лицом куклы Пандоры. Села за парту, сосредоточилась на непричесанных «Картинках с выставки» Мусоргского и даже законспектировала четыре ремарки. Мелодии звучали зловеще, депрессивно и угрожающе. Возможно, потому что у композитора, ушедшего в сорок два года, наблюдался миллион болезней, включая слабую печень, ожирение сердца и воспаление спинного мозга. Его «Гном» смахивал на монстра, а когда дошли до «Балета невылупившихся птенцов», заложило уши, и девушку мелко затрясло, как при высокой температуре. Люба ощутила такую боль, что, казалось, потеряет сознание, только опять собралась, достала закатившуюся под парту ручку и даже приняла участие в обсуждении характеров «двух евреев» и «прогулки», больше напоминающей немецкий военный марш. Потом они с подругой возвращались дворами и говорили о распавшихся «Битлах» и о моде на платья по мотивам живописи художника Питера Мондриана. Девушка завистливо вздохнула:
– Тебе-то что? День-два – и у тебя такое появится, а я вот у своих даже кофточку с рукавами-фонариками не допрошусь.
Люба всегда хорошо одевалась. Мама доставала ей все самое лучшее – черные сапоги-чулки Go-Go с широким закругленным мыском, брючные ансамбли с геометрическим декором, мини-платья с цветочными и абстрактными рисунками, черные лодочки и А-образные пальто. А еще у девушки была модная французская стрижка, и однокурсницы умоляли ее дать телефон парикмахера. Мама фыркала: «Еще чего! Будут все, как под копирку. Лучше дай им рецепт печеных яблок со сливочным маслом и коньяком, и пусть больше хозяйством занимаются да сарабанды разучивают, а не волосы стригут».
Мама умерла еще до начала рабочего дня, ровно в 08:30 утра. Она стояла на остановке, а не протрезвевший с ночи водитель потерял управление, выскочил на тротуар и врезался прямо в нее, слегка задев парочку, ничего не понявших, пассажиров. Те отделались сломанными руками и лодыжками, а она даже не успела вскрикнуть и закрыть руками лицо. Поэтому автомобиль продавил колесами лоб, нос и подбородок, выдавив глаза, как косточки из вишен. Ее сердце еще трижды попыталось качнуть кровь, а потом замолчало. И когда скорая, истерично вопя и расталкивая немногочисленные машины, заехала на бордюр, тело уже было накрыто чьим-то стареньким макинтошем.