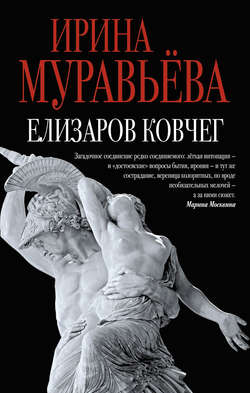Читать книгу Елизаров ковчег (сборник) - Ирина Муравьева - Страница 2
Филемон и Бавкида
1
ОглавлениеВ загородном летнем доме жили Филемон и Бавкида. Солнце просачивалось сквозь плотные занавески и горячими пятнами расползалось по отвисшему во сне бульдожьему подбородку Филемона, его слипшейся морщинистой шее, потом, скользнув влево, на соседнюю кровать, находило корявую, сухую руку Бавкиды, вытянутую на шелковом одеяле, освещало ее ногти, жилы, коричневые старческие пятна, ползло вверх, добиралось до открытого рта, поросшего черными волосками, усмехалось, тускнело и уходило из этой комнаты, потеряв всякий интерес к спящим. Потом раздавалось кряхтенье. Она просыпалась первой, ладонью вытирала вытекшую струйку слюны, тревожно взглядывала на похрапывающего Филемона, убеждалась, что он не умер, и, быстро сунув в разношенные тапочки затекшие ноги, принималась за жизнь.
Она хлопотала и торопилась, потому что к тому моменту, как он проснется, нужно было приготовить завтрак, сходить за водой, вымыть террасу – грязи она не терпела. Питьевую воду набирали из колодца, а та, которая шла из садовых кранов, считалась недостаточно чистой, поэтому ею только умывались, мыли посуду, стирали. Ночью был сильный дождь, глинистые дорожки скользили. Боясь упасть, она осторожно ступала надетыми на босу ногу галошами, перегнувшись на правую сторону, где вспыхивала от ее неловких движений ледяная прозрачная вода в узком и высоком эмалированном ведре.
– Женя! Евгень Васильна! – дребезжал Филемон. – Который час?
Она приотворяла дверь с террасы:
– Да уж десятый, Ваня. Вставай. Прошла голова?
– Померяй-ка лучше, – прокашливался Филемон. – А то кто его знает…
– Береженого Бог бережет, – успокаивала она и, присев на краешек постели, охватывала его руку черным резиновым рукавом измерительного аппарата. Оба затаивали дыхание. Бульдожий подбородок Филемона мелко дрожал от слабости.
– Ну, вот и хорошо, – облегченно вздыхала она. – Вот и молодец. Сто сорок на восемьдесят. Иди чай пить. Скоро Аленушку привезут.
Три года назад младшая дочь Татьяна родила большое бледное дитя. Татьяна была не замужем, и долго никто не обращал на нее внимания – до того она походила на отца, вся в его бульдожью породу. Но вот наконец съездила в туристическую по Венгрии и Чехословакии и вернулась оттуда беременной.
«Он у меня женится, мерзавец! – грохотал Филемон. – А не то в порошок сотру! Полетит из органов, сукин сын! Куда Макар телят… Ишь распоясылись!»
Но время шло, Татьяна так и жила нерасписанной, таскала свой острый живот на предзащиту, стучала ночами на машинке, пропадала в библиотеке, а за месяц до родов получила-таки кандидатскую степень и место старшего преподавателя в Политехническом институте. Это, наверное, заставило призадуматься работника органов с небольшой ранней лысиной и аккуратным лицом, который хоть и не женился, но не избегал ее, иногда ронял сквозь каменные губы нерешительные предположения о трехкомнатном совместном кооперативе и на второй день после рождения ребенка принес в роддом кулечек подтаявшей маслянистой клубники.
Девочку назвали Аленушкой, и чем старше она становилась, тем меньше подходило ей это сказочное длинное имя. Обезумевшая от материнских инстинктов Татьяна раскормила бедную Аленушку до подопытных размеров. В три года она выглядела на шестилетнюю, и вещи ей приходилось покупать в той секции «Детского мира», где было написано «Одежда для младших школьников». С песнями, причитаниями, игрушками, книжками, колотушками усаживали за стол плотно обернутое салфеткой, мучнистое, с огромными бантами создание и заталкивали в упирающийся рот булки с паюсной икрой, куски молодой телячьей печенки, черную смородину, тертую с сахаром, заливали густым морковным соком. Спеленатая салфетками Аленушка пробовала сопротивляться, кричала басом, колотила плотными ножками по высокому детскому стульчику. «А вот летит, летит, летит воробышек, – умоляла Татьяна, – а вот мы его сейчас – ам!» Аленушка давилась, ее рвало съеденным, и тут же ее умывали, переодевали в чистое для младших школьников, дрожащими руками мазали новую икру на новые булки, пронзительной машиной давили бугристую рыночную морковь…
– Вставай, Ваня, – говорила Бавкида. – Сегодня Аленушку привезут.
– Ну? – радостно ужасался Филемон. – На рынок, значит, надо, а, Жень?
– Сходим, сходим, пока жары нет. Или ты дома оставайся. Я одна.
– Да чего одна? Я с тобой, – дребезжал он. – Э-хе-хе… Вместе жили, вместе помирать будем… Э-хе-хе…
Она следила, чтобы он не забыл принять все свои лекарства, капала в его мутные выпуклые глаза заграничные капли, лезла под кровать и, расставив огромные растрескавшиеся пятки, долго шарила там в поисках его закрытых башмаков на микропорке. Вместе шли на рынок, и так же, как он, она суетливо здоровалась со знакомыми, хвалила хорошую погоду, расспрашивала про здоровье, льстила чужим детям в колясках и даже посмеивалась так же, как он: «Э-хе-хе, хе-хе…»
Иногда на Филемона находили приступы ярости. Она пугалась их, потому что каждый такой приступ мог кончиться инсультом. Поселковые мальчишки ломали рябину, сидя верхом на чужом заборе. Филемон набухал лиловой кровью и бросался на забор с высоко поднятой палкой, украшенной тяжелым набалдашником: «Я вас сейчас! Хулиганье поганое! Убью сволочей!» – хрипел он. Она сзади хватала его за локти: «Пойдем, Ваня! Брось ты их! Ва-а-ня!» Тяжело отдуваясь и дыша со свистом, Филемон продолжал свой путь к станции, медленно успокаиваясь: «Ну, сволота! Ну, погань! Перестрелять не жалко!» И опять она поддакивала: «Да уж, конечно… Мараться об них… Себя бы поберег!» – «Порядка нет, Евгень Васильна! – грустнел бледно-лиловый от недавнего гнева Филемон. – Потому такое поведение, что ни в чем никакого порядка… Распустились…» – «Молчи ты, Ваня, – пришептывала она и тут же улыбалась кривой лицемерной улыбкой: – Ты смотри, кого мы встретили! Сколько лет, сколько зим!» – «Э-хе-хе, – обмякал Филемон, смешно приседая от косноязычного умиления при виде очередного знакомого с колясочкой. – Вот, значит, кто нас опередил! Нам поди и смородины на базаре не оставили? Э-хе-хе…»
После обеда к дачному забору подъезжала ведомственная машина. Нерасписанный зять помогал доставить Аленушку к деду с бабкой. Из машины вылезала худая, с тяжелой челюстью и ярко-белыми ломкими волосами Татьяна, изнемогая под тяжестью заснувшей дочери. Они кубарем скатывались с лестницы ей навстречу. «А вот и наши, а вот и наши, – сюсюкал Филемон. – Давай, Женя, на стол накрывай. Вот и приехали. Внученьку дедушке привезли…» Пообедав, уставшая Татьяна в открытом сарафане собирала ягоды или качалась в гамаке с газетой, а они наполняли водой пластмассовую ванночку, выставляли ее на солнце и вдвоем, стукаясь сгорбленными плечами, купали в ней пузатую, перекормленную Аленушку, которая, выпучив голубые глаза в небо, расплескивала мыльную воду своими пухлыми, неповоротливыми руками. Вечером Татьяна, подчернив брови и густо намазавшись розовой помадой, торопилась на электричку, а они оставались с Аленушкой. Тогда Филемон начинал читать ей сказки: «Я б для батюшки-царя родила богатыря», – бормотал он, сам засыпая и монотонно покачивая детскую кроватку. Аленушка громко икала. «Ай беда какая! – сокрушался Филемон. – Водички ей, Женя, малиновой водички внученьке…»
Наикавшись и наглотавшись малиновой воды, Аленушка засыпала. Филемон разворачивал газету. Она домывала посуду узловатыми плоскими пальцами. Усталость одолевала ее, и в голову лезли мысли о том, что завтра нужно опять пойти на базар (забыли купить ревеня – у Филемона нелады с желудком!), перестирать все Аленушкины маечки, вымыть наверху комнату, потому что в пятницу Татьяна может приехать не одна, а с уклончивым нерасписанным зятем, и тут уж надо в лепешку разбиться, но обеспечить им семейный уют, и вкусный обед, и чистое, лоснящееся, сытое до икоты дитя, чтобы у нерешительного мужчины с ранней лысиной и каменными губами появилось твердое ощущение, что вот это и есть его дом, дача, жена и дочь.
«Нет, – хрипел Филемон, грозя куда-то в газету седовласым дрожащим кулаком. – Нет, при хозяине бы такого не было! Перестреляли бы всех к такой-то матери!» Возводил закапанные заграничным раствором мутные глаза на небольшой портрет в траурной рамке. Большеносое, черноусое лицо, снизу подпертое жестким воротником военного френча, ласково и коварно щурилось на Филемона. «Эх-хе-хе, – вздыхал тот, успокаиваясь, – эхе-хе, Евгень Васильна… – И тут же понижал голос: – Женя, я думаю, сообщить бы надо, что еврей этот иностранные газеты достает и читает – это раз, а самое-то главное – «голоса» ловит. С ихнего балкона все слышно. Меня не проведешь! Сообщить бы надо, Евгень Васильна…»
Она насухо вытирала чистым полотенцем растопыренные пальцы: «Себя побереги, Иван Николаич! Ты свое отслужил! Куда теперь сообщать?»
В глубине души ей казалось, что в свое время Филемон допустил промах, слишком рьяно отстаивая ценности комсомольской юности и не соглашаясь на признание каких бы то ни было ошибок известного периода. Его фанатическое упрямство и привело к тому, что сейчас, в старости, у них не было персональной машины с шофером, приходящей прислуги, дачи в Барвихе. Была, правда, однокомнатная квартира в доме на Кутузовском, была хорошая пенсия, ведомственная поликлиника, заказы два раза в месяц. Но у других-то, помельче Филемона, не имевших за спиной долгих лет ответственной работы в ЦК Узбекистана, – у других-то было больше! И она жалостливо смотрела на своего честного несгибаемого старика, уткнувшегося в газету под портретом большеносого покойника, и думала, что, конечно, он опять прав: сообщить-то надо бы, но времена наступили такие, что и не знаешь: куда сообщить? Кому? Как бы не засмеяли…
– Спать ложись, Ваня, – уговаривала она. – Аленушка может ночью проснуться. Не выспимся… Завтра на рынок с утра. У меня обеда нет… Ты с ней на полянке побудешь, пока я управлюсь…
Кряхтя, укладывались на кровати, застеленные одинаковыми шелковыми одеялами. Филемон сразу же начинал посвистывать коротким свирепым носом. Она еще поправляла подушку под Аленушкиной головой, проверяла, выключен ли газ на кухне, закрыта ли на замок входная дверь. Опять ложилась. Луна, просочившись сквозь щель занавески, лизала ее съехавшую набок щеку с черным кустиком длинных волос. Из сада тянуло жасминовой свежестью. Соловей, дождавшись своего часа, разрывался где-то между землею и небом. Под его неутомимый голос она засыпала.
В одну из таких ночей ее разбудило тонкое бормотание. Она в страхе открыла незрячие еще глаза, села на постели.
– Убь-ю-у, ай-я-я-я! У-у-у! Кыш! – бормотал тоненьким дробным голосом Филемон, делая странные разрывающие движения слабыми белыми пальцами. – Убью-у-у-у сво-о-а-та-а-а!
– Ваня! – вскрикнула она и подбежала к нему. Лицо его было ярко-багровым, веки плотно зажмурены. – Иван Николаич! – Не соображая, что делает, она затрясла его за плечо.
Багровый Филемон раскрыл бульдожий рот с коротким мясистым языком, который сразу вывалился наружу, как будто его оторвали. Тогда, сунув босые ноги в резиновые калоши, она, как была в байковой ночной рубашке, простоволосая, выбежала на улицу и, задыхаясь, побежала по черной дороге вниз, к сторожке, где был единственный на весь дачный поселок телефон.
Через час два санитара заталкивали в машину накрытое белой простыней короткое тело со свистом дышащего Филемона, а она, сжав обеими руками большую отвисшую грудь в байковой ночной рубашке, объясняла им, что не может ехать с мужем в больницу, не с кем оставить внучку. Вернувшись в полную черной серебристой тьмой комнату с открытым в жасминовые заросли окном, она села на развороченную постель, с которой только что унесли багрового старика, и тихо, сдержанно всплакнула. Слезы были какие-то неосознанные, почти механические: жалко же его. Умрет, не дай бог. Всю жизнь вместе. Готовые фразы отпечатались в ее голове, словно кто-то написал их жирным шрифтом: «Умрет, не дай бог. Жалко его. Всю жизнь вместе».
Аленушка проснулась и басом заплакала. Она, надрываясь, взяла ее на руки: «Нельзя, нельзя плакать. Дедушка заболел. Жалко дедушку». Аленушка икнула оглушительно и затихла.
Утром приехала на такси Татьяна, осталась с ребенком, а она помчалась в кремлевскую больницу, где в паутине трубочек плавился на кровати слегка побледневший Филемон, узнавший ее и с трудом пошевеливший своей заросшей седой шерстью рукой. Посидев с ним полчаса, одернув простыню, обтерев влажным теплым полотенцем его бульдожье лицо, она с бьющимся сердцем поплелась караулить в коридоре лечащего врача, чтобы услышать от него, что Филемон не безнадежен, инсульта как такового нет и надо надеяться, что дело пойдет на поправку. У нее отлегло от сердца, и весь этот жаркий июль она провела в городе, каждый день таскаясь на троллейбусе сначала на рынок, а потом в больницу, ночами варила ему диетические супы, протирала куриную печенку, не доверяя даже «кремлевке» и проборматывая про себя, что домашнее всегда лучше. Как-то раз, сидя у его постели, она вдруг задремала, уронив худую голову с пегим пучком волос на затылке. Во сне ей показалось, что она сидит на каких-то нарах в раскаленном, полном голых женщин бараке и причесывается. Приснившееся было так нелепо и страшно, что она тут же и проснулась со слабым старушечьим стоном. Перед ней лежал румяный Филемон в красной домашней пижаме и с аппетитом хватал толстыми волосатыми пальцами принесенную ею клубнику. Спросонья ей показалось, что он порезался, что пальцы его в крови, и она испугалась. Но почти выздоровевший Филемон вдруг подмигнул ей правым, недавно избавленным от катаракты глазом и спросил: «А помнишь, Евгень Васильна, как я за тебя посватался?» Она затрясла головой, засмеялась, прикрыв ладонью рот, и сквозь смех ответила: «Да кто это помнит! Сколько лет-то прошло? Пятьдесят почти! Вот уж опомнился!» – «Да как! – И Филемон облизал сладкую клубничную кровь с большого пальца. – Э-хе-хе… Дай, думаю, на ентой черненькой поженюсь! И поженился! Помнишь, Жень?» Она тихо колыхалась от какого-то щекочущего блаженного смеха: «И поженился? Греховодник ты старый, вот что! Только что вылечили, и тут тебе такие разговоры! Лежи тихо! Может, яблочко натереть? У меня и терка с собой, дома не стала, хотела, чтоб свеженькое…» – «Да-а-а, – не слушая ее, продолжал Филемон. – И поженился! И свадьбу сыграл! И увез енту черненькую за моря, за горы, в глубокие норы! Э-хе-хе-хе…» Она достала из сумки терку, стала было тереть ему яблочко и вдруг опять заснула, уронив голову. И опять голые женщины обступили ее в раскаленном бараке.
Прошло больше года. Дачный сезон подходил к концу, хотя дни стояли жаркие, полные солнца. В воскресенье утром она поднялась совсем рано, нагрела ведро воды и почему-то понесла его за сарай, в глухие крапивные заросли. «Вот здесь и помоюсь», – сказала она себе, начисто забыв, что у них есть собственная банька, выкрашенная голубой пронзительной краской. В баньке вчера парился Филемон. Она стегала его веником по красной сгорбленной спине с большими угольно-черными родинками, а он, придерживая ладонями седой живот, приказывал: «Поддай жарку, Евгень Васильна! Жарку не жалей!» – «Да куда тебе жарку, Ваня, – образумливала она его, босая, в сатиновом полузастегнутом халате, вытирая сгибом руки градом катившийся с лица пот. – Ты про давление свое подумай! Жарку…» – «О-хо-хо! – рыкнул коротенький, лопающийся от густой крови Филемон и отпустил живот на свободу. – Давление у меня в порядке. От бани русскому человеку одно здоровье, больше ничего!» Он облокотился руками на лавку, повернувшись к ней спиной, чтобы она еще постегала его веником и смыла остатки мыльной пены. Ей вдруг стало тошно от этой красной сгорбленной спины с угольно-черными родинками, расставленных кривых ног в редких прилизанных волосах, хлопьев пены на ягодицах… «Что-то мне душно здесь, Ваня, – пролепетала она. – Вытирайся, да пойдем чай пить. Аленушку пора укладывать…» – «Душно? – струсил Филемон. – Чего тебе душно? Пойдем, пойдем, раз такие дела…» Пили чай на террасе: она, Филемон и Татьяна с Аленушкой. В саду с мягким шелестящим звуком срывались с веток и падали на землю яблоки. Каждое падение заставляло ее вздрагивать. На столе образовалось круглое пятно света от низко висящего розового абажура, доставшегося им от прежних хозяев дачи. В этом пятне светились мокрые зернышки красной икры, белый хлеб с большими дырками, крупно нарезанный яблочный пирог с золотыми, чуть подгоревшими боками. Голос Татьяны, уговаривающий Аленушку допить сливки, звучал подобно утиному кряканью. Аленушка давилась над стаканом и выпускала изо рта сливочные пузыри. «Ай-яй-яй, – прокрякала Татьяна и голой костлявой рукой вытерла Аленушкин подбородок. – Вот бабушка сейчас наши сливочки – ам! Вот придет чужая нехорошая девочка и наши сливочки – ам!» Аленушка задышала тяжело, как лягушка, и ее слегка вырвало на кружевную грудку. «О-ох! – задребезжал Филемон. – О-ох, внученька… Давай, Женя, тряпочку! Внученьку опять…» Она было побежала в кухню за тряпкой, но вдруг остановилась от страха: прямо на ее глазах раздувшееся животное с лиловыми, трясущимися щеками лезло на другое животное, поменьше, с выпученными глазами и огромным зеленым бантом в голове, делающим его похожим на лягушку. Между этими двумя суетилась голая костлявая рыба с расходящимися во все стороны ребрами и вставшими дыбом ломкими волосами. Рыба при этом оглушительно крякала и разевала узкий голый рот с обломками белых костей внутри. Она прислонилась к притолоке и зажмурилась. Голова медленно и торжественно зазвенела, как пасхальный колокол. «Давай, Женя, тряпочку, – угрожающе произнес знакомый голос. – Тряпочку нам давай. Ты чего?» Она открыла глаза. В круглом пятне абажурного света сидели и смотрели на нее складчатый, красный после бани Филемон, голая до ключиц, бескровная Татьяна и насосавшаяся сладких жиров, замученная, огромная Аленушка с бело-розовой рвотой на кружевной грудке. Она спохватилась, нашла тряпку и, почему-то дрожа от страха, подала ее Филемону. Их руки слегка столкнулись. Ей показалось, что он сейчас ударит ее, показалось, что в руке его лежит острое, вспотевшее, чем он сейчас перережет ей вены. Она быстро отступила и заискивающе улыбнулась. Татьяна подхватила Аленушку и побежала умывать ее на кухню. Филемон протянул ей обратно ненужную тряпку. «Эхе-хе, хе-хе, – пробормотал он и, уже не прячась, погрозил ей маленьким острым ножом. – Эхе-хе-хе, Евгень Васильна…»
Ночью она почти не спала. Вставала, подходила к окну, смотрела на скользкую, еле держащуюся на небе, переполненную соком луну. На громко храпящего Филемона боялась даже оглянуться. Казалось, что, несмотря на громкий храп, он наблюдает за ней из темноты. Под одеялом было немного спокойнее. Одеяло было защитной крепостью. Но как только она заворачивалась в него, глаза сразу же начинали слипаться. А спать было нельзя. Филемон только и ждал, чтобы она заснула. Для чего? Она и сама не знала. То ей начинало казаться, что он не только не убьет ее, но, напротив, полезет к ней ласкаться («Сказал: поженюсь – и поженился», – вспоминалось ей), и надо будет тихо лежать под тяжестью его большого мохнатого живота, то казалось, что он выгонит ее на улицу, чтобы она сторожила их дом вместо цепной собаки (какое-то воспоминание, связанное с цепной собакой, мучило ее, но она не понимала какое), то – и это было самое страшное – она почти чувствовала прикосновение его маленького острого ножа с налипшими на нем волосками…
На рассвете она надела халат и начала беззвучно бродить по дому. Вошла в детскую комнату. Вместо Аленушки на кровати лежала мертвая разбухшая кукла и притворялась спящей. Кукла не хотела превращаться обратно в человека, не хотела расти, потому что знала, что ее ждут одни несчастья и насмешки. И она, ужасаясь, пожалела ее и погладила по холодной голове своей закапанной старческими коричневыми пятнами рукой. Потом крадучись поднялась наверх по скрипучей узкой лестнице, остановилась перед дверями, за которыми спали Татьяна и приехавший вечером на электричке аккуратный несговорчивый зять. Сначала ей послышалось хрипенье. Потом тихий булькающий звук женского горла, напоминающий плавное «рл-нрл-рл-нрл». Она поняла, что зять душит или уже задушил Татьяну, но ей было страшно вмешаться, и она решила еще постоять и послушать. «Рл-нрл-рл» прервалось, и кто-то закрякал Татьяниным голосом. Слов она не поняла, хотя Татьяна произносила их очень отчетливо. Зато тихие ответы зятя не только разобрала, но и сразу почему-то запомнила. «С любой в принципе женщиной можно получить физическое удовольствие, – раздельно произнес зять и что-то перекусил, щелкнув зубами. – В принципе, я считаю, с любой. Но можно ли с любой женщиной остаться жить семейной жизнью – это большой и большой вопрос. Принципиальный, я считаю». И он опять что-то перекусил. Татьяна гулко крякнула в ответ. «Я в принципе не собираюсь уходить от этого разговора, – продолжал зять. – Потому что время само за себя говорит. И если я буду уверен, что в моем доме весь порядок будет подчиняться моим принципиальным требованиям, то я готов хоть завтра начать думать по поводу этого решения. – Он еще немножко подушил ее, потому что Татьяна опять хрипнула. – Мы в принципе можем расписаться, если этот шаг не отзовется в моей жизни беспорядком или неповиновением».
Из Татьяниного горла полилось «рл-нрл-рл», и тогда зять сказал: «Согласен», и они оба замолчали.
Не выдержав, она тихонько приотворила дверь, заглянула в образовавшуюся щелку. Зять с висящей на боку длинной прядью волос, которую он днем зачесывал через голову, чтобы закрыть лысину, лежал на бескровной, худой Татьяне и несильно душил ее, то приподнимаясь, то опускаясь. Ее приближения они не заметили и, голубовато-бледные от наступающего утра, продолжали свой разговор. Все это вызвало у нее смешанное чувство ужаса и отвращения, хотя в глубине души вспомнилось, что когда-то она сама желала, чтобы Татьяна и этот человек вот так лежали по ночам в прибранной ею комнате. Сдерживая громкое дыхание, она спустилась вниз, забралась под одеяло и крепко заснула.
Проснулась очень скоро, лихорадочно вскочила, нагрела на кухне ведро воды и пошла за сарай, в глухие крапивные заросли. «Вот здесь и помоюсь», – сказала она себе и начала торопливо раздеваться. Раздевшись догола и распустив по плечам жидкие пегие волосы, она начала осторожно поливать себя водой из темно-синей в белых крапинках кружки. Вода была слишком горячей, и все ее тело покрылось мурашками. Потом взяла кусок хозяйственного мыла, быстро, крепко намылилась и опять зачерпнула воды из ведра.
– Женя! – послышался где-то совсем близко дребезжащий голос Филемона. – Евгень Васильна! Ты куда запропастилась?
Она в ужасе опустилась на корточки, вжала голову в задрожавшие колени. Лопухи и крапива скрывали ее от него. Земля закачалась от приближающихся шагов. Филемон шарил в траве большой палкой с тяжелым медным набалдашником, разыскивая свою Бавкиду. Бавкида, раскорячившись, сидела на земле в сизой пленке хозяйственного мыла. Зубы ее стучали от страха. Она поняла, что он зашел за сарай и сейчас увидит ее. Тогда она беззвучно сказала себе: «Спаси и пронеси, Господи!» – и отползла прямо в крапиву, не чувствуя ожогов. В пяти шагах от нее стоял маленький лиловый Филемон в летней белой панамке, белой ночной рубахе и туфлях на босу ногу. Он не видел ее своими мутными больными глазами.
– Женя! – пробормотал он, волнуясь. – Да куда ж она подевалась!
Потом он снял со стенки ключ и начал открывать сарай. Она вспомнила, что это был лагерный барак, а никакой не сарай – что сарай это просто так, для отвода глаз, чтобы дачные соседи не приставали с расспросами, а на самом деле они только что приехали в Узбекистан из Москвы и Филемон заступил на место начальника женского лагеря. Она вспомнила, что осталась одна с только что родившейся Ларисой, что у нее пропало молоко за время переезда, что она нагрела воды в большом чугунном чане, потому что Ларису надо искупать и самой помыться. Дом, который для них предназначался, был еще не готов, и поэтому они поселились временно в маленьком, летнем, свалив все свои чемоданы прямо в угол. Филемон уже распорядился, чтобы того, кто был ответствен за их прием и жилье, как следует «пропесочили», и велел ей перетерпеть несколько дней. Приехали они вчера, она измучилась от криков голодной дочери, от мигрени, которая, бывало, наваливалась на нее и не отпускала по целым неделям. Их встретили на станции, повезли в дом к какому-то жирному, словно перевязанному невидимыми ниточками поперек жира, узбеку, там усадили на пуховые перины прямо на пол, кормили жирным пловом, поили вином и горячим чаем, узбек улыбался улыбкой, похожей на опрокинувшийся месяц, и на груди его торопливо звенели медали. «Да-а, – ложась спать, сказал ей Филемон, растягивая в зевоте бульдожью челюсть. – Да-а… Наведу я им здесь порядок. Распоясылись…»
Он постоял еще немного, пошарил палкой. Потом снял свою панамку и вытер ею глаза. Она никогда не видела, чтобы он плакал.
– Женя, – всхлипывая, сказал Филемон. – Ты где? Что ты меня пугаешь? – Подбородок его мелко задрожал.
Она поняла, что он притворяется, желая вытащить ее из крапивы. «Нет уж, хватит, – пробормотала она самой себе. – Нет уж, ты у меня покрутишься…»
Филемон повернулся и, всхлипывая, ушел в дом будить Татьяну и зятя. А она, пригибаясь, переползла к той части забора, где была большая, заставленная фанерными щитами дыра, и вырвалась на свободу. Прямо за забором начинался еловый лес.
«У меня никто не убежит, – сказал Филемон и стукнул по столу волосатой рукой. – Здесь лесов нет! Бежать некуда! Чтоб завтра были на месте!» Она, перемывая посуду, одобрительно кивнула. Филемон «песочил» стоящего перед ним угреватого человека в форме. Обжигаясь, ел приготовленный ею борщ – хороший, густой, кровянистый борщ, в котором плавали кусочки желтого жира. Человек в форме смотрел в его тарелку злыми, затравленными глазами. «Понял меня? – прохрипел Филемон, опрокидывая в рот рюмку и переводя дыхание, словно он только что вынырнул со дна реки. – Все! Можешь идти». Она вытерла руки чистым полотенцем, подсела к нему: «Кто убежал-то, Ваня?» – «Две суки. Еврейка одна и русская. Вчера еще. Найдут. Ну, уж я их пропесочу! Запомнят меня! – Его ясные голубые глаза навыкате налились кровью. – Ну, уж запомнят!» Ребенок заплакал в соседней комнате. Она пошла туда и вернулась. «Зубик-то ты наш видел? – пропела она. – У Ляли второй зубик прорезался!» – «Ишь ты, – одобрительно хмыкнул Филемон и потрепал ее по руке. – Зубик, говоришь… Поглядим…» Они постояли над детской кроваткой, полюбовались на маленький беличий зубик в детском ротике. «Ишь ты… – повторил Филемон и нахмурился. – А одна-то из этих стерв брюхатая ушла. Беременная, мне доложили. На шестом месяце». – «Ну? – удивилась она. – Ребенка, значит, даже не пожалела. Сама пропадет и его погубит. Мать тоже мне!» – «Пойдем, Женя, прокатимся! – зевнул Филемон. – Заворачивай девку. Ветерком подышим!» Он сидел впереди, рядом с шофером. Она сзади. Степь была покрыта темно-красными маками, горела огнем. «Ишь ты, – сказал он, оборачиваясь к ней и улыбаясь во всю ширину челюсти. – Помнишь, как в Большом в царской ложе сидели? Такой же вроде цвет…» Ночью он навалился на нее своим сытым мохнатым животом. Она угодливо, боясь разонравиться ему, притворно-радостно задышала. «Ты моя чернушечка, – засыпая, пробормотал он через несколько минут. – Ишь ты… Убью сук. Сказал – и убью. На дереве повешу. Распоясылись…»
К полудню ее нашли и привели домой. Она покорно вышла из леса – голая, вся в багровых крапивных ожогах, безжизненно опустив свои большие, плоские от работы руки. Зять с одной стороны и веснушчатый милиционер – с другой нерешительно подталкивали ее к калитке, и милиционер, хмурясь, делал неловкие движения, стараясь как-то заслонить ее, хотя, по счастью, именно в этот момент на аллейке никого не было, кроме прислонившейся к забору бескровной Татьяны, которая при виде матери затряслась, как в ознобе, и стала стаскивать с себя кофту.
– Тут такое дело, – сказал, хмурясь, милиционер, не глядя на Татьяну. – Тут, я понимаю, медицинская помощь нужна. Дом для умалишенных. Или еще что-нибудь. Но мы тут вам не подмога.
– Мама, – прыгающими губами выдохнула Татьяна. – Ты чего?
– Незачем в принципе задавать ненужные вопросы, – отчетливо сказал зять и разозлился. – Нужно ввести ее в дом.
Она услышала то, что он сказал, и затрясла головой.
– Сама войду, сама войду, – залопотала она. – Обедать пора, сама, сама…
Поддерживаемая Татьяной, поднялась по ступенькам террасы и в дверях увидела Его. Толстый, испуганный Филемон глядел на свою голую, растрепанную, в красных пятнах по всему телу Бавкиду и пятился, оседая и закрывая лицо волосатыми руками. Бавкида подавилась от ужаса и чуть не упала. Зять и Татьяна подхватили ее.
– Папа! – истерично крикнула Татьяна. – Дай ей одеться! Дай что-нибудь! Нельзя же так!
– Сейчас, сейчас, – засуетился Филемон, оседая и пятясь. – Что же это такое, батюшки мои!
Он стащил с вешалки какой-то старый плащ и осторожно, боясь дотронуться до голой старухи, передал его дочери. Татьяна дрожащими руками натянула на нее плащ и, плача, сказала:
– Что делать-то будем?
– Увезти, увезти, – испуганно задрожал Филемон. – Как же так? Лечиться надо. Врачи, они свое дело знают… Лечиться надо… А то что же… Заболела наша бабушка… Беда-то…
Вдруг Бавкида упала на колени перед Татьяной. Зять не успел подхватить ее.
– Служить вам буду. Ноги твои мыть буду. Не прогоняй.
– Ма-а-ма! – разрыдалась Татьяна. – Господи! Иди в комнату, ложись. Спи. Мама!
Стуча зубами, она вошла в комнату и, не снимая плаща, забралась в постель. «Сплю, сплю, – забормотала она. – Непорядок какой… Сплю».
Филемон плакал и вытирал трясущиеся бульдожьи щеки седыми кулаками.
– Ты уж тогда меня-то отвези в город, – умолял он Татьяну. – Или уж вы, Борис, окажите милость, помогите до Москвы престольной добраться. Я с больным человеком в одном доме не могу находиться. Мне вид ее может спазмы сосудов вызвать.
– Папа, – рассудительно говорила взявшая себя в руки Татьяна. – Горячку не надо пороть. Понаблюдаем ее пару дней. Я все равно здесь. Боря здесь сегодня и завтра. Жалко же. Может, это минутное помешательство, возрастное.
– В принципе, может такое быть, – подтвердил зять. – Мне говорили, у нас в отделе у одного товарища был такой же эпизод с теткой. Прошел в принципе бесследно…