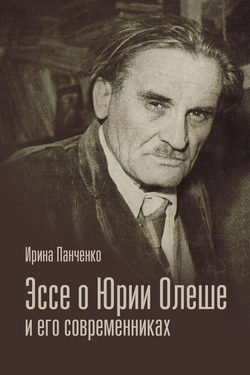Читать книгу Эссе о Юрии Олеше и его современниках. Статьи. Эссе. Письма. - Ирина Панченко - Страница 4
Носитель дара, мятущийся и грешный…
К 100-летию со дня рождения Ю. К. Олеши
ОглавлениеМгновенно вспыхнувшая слава Юрия Олеши и столь же стремительный её закат заставляют нас и сегодня по-прежнему искать ключ к его драматической судьбе.
…Дар слова у юноши из польской дворянской семьи проявился рано. Свои стихи пятнадцатилетний ученик одесской Ришельевской гимназии переписал от руки в тетрадь, озаглавил её "Виноградные чаши"[1] и подарил учителю словесности, который тетрадь сохранил.
Золотой медалист, эрудит, увлекающийся историей и латынью, Олеша стал одной из центральных фигур молодёжных литературных кружков «Зелёная лампа», «Коллектив поэтов», участники которых сознательно готовили себя в профессионалы. Олеша не только писал стихи, он пробовал себя в прозе, драматургии, публицистике, рисовал карикатуры. Друзья Олеши находились под обаянием его ума, вкуса, артистизма.
В то время в Одессе появилась умеренная (провинциальная в хорошем смысле слова) «богема», без петербургской «истерики» и «надрыва». Это была среда, в которой начинающие литераторы эстетствовали, подражая Блоку, Гумилеву, Северянину, развивая в себе виртуозную наблюдательность. Олеша не избежал подражания кумирам тех лет, но модернистская поэзия не заслоняла классику. Он всегда помнил, что жил в городе, овеянном гением Пушкина. Олеша посвятил Пушкину цикл стихов: «Бульвар», «Пиковая дама», «Каменный гость»… С дерзостью юности он утверждал своё духовное родство с великим предшественником: «Моя душа – последний атом / Твоей души. Ты юн, как я…» («Пушкин»,1918)[2].
Олеша принадлежал к литературной молодёжи с либеральными взглядами, не обладавшей сколько-нибудь устоявшимся мировоззрением. Но он навсегда впитал гуманистические ценности мира уходящего: романтические надежды, художественный вкус, тонкость чувств, мечтательность, нежность… и верность искусству («оно обнимало мою жизнь, как небо»)[3]. Юношески восторженное отношение к революции не поколебало эти ценности, отстаивать которые он будет в первом своём знаменитом романе, в первой значительной пьесе.
Тщательный анализ произведений Олеши одесского периода необходим для понимания зрелого творчества писателя. Между тем не собраны и доныне стихи, написанные им в молодости и рассыпанные по одесским журналам. Исследователи прошли мимо «Рассказа об одном поцелуе»[4] – раннего образца художественной прозы Олеши. Рассказ повествует о пикантном любовном приключении «золотоволосого юноши» и прекрасной незнакомки. Дерзкий поцелуй оголённого плеча незнакомки на глазах зрителей во время антракта в театре, прогулка вдвоём в лунном свете, поцелуи в будуаре красавицы – вот содержание взволнованно-приподнятого, истинно юношеского рассказа, романтический колорит которого восходит к литературе XIX века. Завязка действия происходит в театре, чью барочную прелесть с видимым удовольствием описывает автор: зеркала, «балюстрада из мрамора», ложи с «лепными амурами», лестницы, покрытые «пурпурным ковром» (здесь явно витал образ знаменитого одесского оперного театра), и, конечно, зрители, украшенные драгоценностями, в платьях из «темного мягкого бархата и шелка», «в вечерних смокингах с блестящими отворотами». Прекрасная незнакомка, поразившая воображение золотоволосого юноши, из их числа. Но главное в рассказе – острота поэтического зрения, которая предвосхищает будущего Олешу. Первая встреча героев происходит «в партере, похожем на раскрытую коробку конфет». «На большую раковину была похожа суфлёрская будка» на сцене. «У косяков стояли в аккуратных бачках, как будто загримированные, капельдинеры». У меломанов автор подмечает «оскаленные воротники, затягивающие, как петли, чахлые шеи стариков». И наконец, в рассказе встречаем такую блестящую метафору: «Скрипачи… одновременно размахивали локтями, вытягивая тонкие, похожие на золотые дрожащие рапиры, ноты». С помощью этой метафоры Олеша делает видимым звук!
«Рассказ об одном поцелуе» был напечатан в журнале «Южный огонёк» с подзаголовком «Главы из романа». Работая в РГАЛИ, я обнаружила такой автограф Олеши: «Мною в 1919 г. был выпущен отдельным выпуском в 32 стр. роман «Тайна Веры Холодковой» под женским псевдонимом вроде Вербицкая (Варвицкая-?)». В том же автографе Олеша пишет, что он в году 1915-16 «напечатал в одесской газете (между прочим «Гудок») для детей, но от имени взрослого рассказ «Случай», не помню за какой подписью»[5]. Можно предположить, что «Рассказ об одном поцелуе» – это главы из раннего романа «Тайна Веры Холодковой». Однако ни об этом романе, ни о рассказе «Случай» ничего не знала О. Г. Суок-Олеша, нигде не упоминают о них и олешеведы. Приходится надеяться, что найдутся настойчивые исследователи, которые обнаружат в одесских изданиях и одесской периодике произведения, названные Олешей, ведь именно ему принадлежат слова: ничего не должно погибнуть из написанного.
Революционный ураган мгновенно смыл одесскую субкультуру. В Одессе не осталось ни издательств, ни журналов. «Был в Одессе. Совершенно мёртвый город», писал И. Бабель в 1927 году. Вместе с талантливыми и энергичными земляками (В. Катаев, И. Бабель, Э. Багрицкий, И. Ильф, Е. Петров, С. Кирсанов…) Олеша, полный «высокомерия юности», «затаённых гордых мечтаний», приезжает в 1922 году в Москву завоёвывать столицу и мировую славу.
И он её завоевал. «Из инкубационного периода мировой славы. Юр. Олеша»[6], – горделиво напишет он в 1929 году на письме друзей Берлинского театра, просивших прислать им пьесу «Заговор чувств». Всё лучшее было создано Олешей в этот небольшой отрезок времени – с 1924 по 1929 годы, в этот промежуток, когда талант художника в Советской России был ещё общественно значим, когда партийный диктат в искусстве ещё не стал тотальным, когда молох приближающегося террора только разворачивался.
…Днём Олеша «стоял у конвейера» железнодорожной газеты «Гудок», писал по материалам рабкоров под псевдонимом Зубило бойкие стихотворные фельетоны, а вечерами прямо тут, в редакции, или за деревянной перегородкой, в крошечной комнатке при типографии, где и жил, отматывал бумагу от огромного газетного рулона и весело, вдохновенно сочинял сначала сказку «Три Толстяка», потом свою главную книгу «Зависть», её драматургический вариант «Заговор чувств», изящные рассказы, которые позже войдут в сборник «Вишнёвая косточка» (1931, 1933). Самые известные среди новелл – «Лиомпа», «Цепь», «Любовь», «Вишнёвая косточка», «Альдебаран».
Олеша-Зубило стал знаменит сразу. Первая книга Олеши в Москве – это книга его фельетонов, она так и называлась «Зубило» (1924). Рабочие бережно хранили газету, не перегибая страниц, на которых были напечатаны его фельетоны. У него появились подражатели среди рабочих поэтов и (вот градус популярности!) даже аферисты лже-Зубилы, выдававшие себя за писателя. Появилось два пионерских отряда имени «Зубилы». Вторая книга Олеши называлась «Салют» (1923–1926). В неё кроме фельетонов вошли стихи на злободневные темы.
Лавры стихотворца-импровизатора[7] (7) Олеша заработал у рабочих на съездах железнодорожников. Об этом написал в своих воспоминаниях сотрудник «Гудка» И. Овчинников: «Делегаты съезда, до отказа заполнявшие зрительный зал (обычно клубов КОР или Кухмистерова) делились по среднему проходу на две половины: левую и правую. Предлагалось правой, например, половине сказать какое-нибудь слово, а левой – рифму к нему: дорога-немного, флажок-дружок, вагон-самогон и т. д. Таких срифмованных пар набиралось десятка два. Олеша стоит в стороне на эстраде с карандашиком и помечает у себя что-то на листке. Но вот сказана последняя рифма, Олеша выступает вперёд, на авансцену, и начинает без запинки читать стихи, построенные точно на тех самых рифмах, которые только что предложил зал. Эффект получался ошеломляющий»[8].
Вагон-самогон… Только невзыскательные транспортники тех лет умудрялись этим восхищаться, но эпоха была такова, что, погонись Олеша за конъюнктурой, он мог бы легко стать известным пролетарским писателем, избежать последующих нападок ЛЕФа и РАПП, мог бы пожинать лавры этого звания до конца своих дней: ведь когда он ездил от газеты «Гудок» в командировку, ему предоставляли отдельный «свой» вагон[9]. У него был бесплатный билет для проезда по железным дорогам страны[10]. Но Олеша не соблазнился такой перспективой. Уроки классиков, уроки символистов и акмеистов начала века были надёжно усвоены. «Зверея от помарок» (эти слова Б. Пастернака повторял Олеша), он писал свою оригинальную прозу.
Однако и сейчас ещё живёт заблуждение, что истоки литературного мастерства Олеши восходят к его работе в газете «Гудок». В тысячестраничную антологию русской поэзии «Строфы века» (1997) составитель Е. Евтушенко помещает не какое-либо из лучших стихотворений Олеши одесского периода, не его прекрасную и трагическую символистскую поэму «Беатриче» (1920)[11], а стихотворный фельетон Зубила «Страшная ночь»[12].
В отличие от фельетонов, которые Олеша писал один за другим, «Три Толстяка», «Зависть» создавались совершенно иначе: «пишу мало, трудно», – признавался Олеша.
И вот в 1927 году роман «Зависть» завершен. Олеша читает его в небольшом кругу литераторов главному редактору одного из лучших толстых журналов в Москве «Красная новь» А. К. Воронскому.
Роман Олеши начинался фразой, ставшей теперь хрестоматийной: «Он поёт по утрам в клозете». Как реагировал на такое начало Воронский, у которого был слух на хорошую литературу, расскажет много лет спустя в книге «Алмазный мой венец» очевидец события В. Катаев, который вывел в этой книге Олешу под именем Ключика (разумеется, Катаев не назовет ни фамилии редактора, расстрелянного в 1937 году, ни названия журнала, но при этом текст сделает прозрачным, а событие узнаваемым). Крамольная первая фраза романа, относившаяся к большевику Андрею Бабичеву, привела Воронского «в восторг»: «он даже взвизгнул от удовольствия…Чтение длилось до рассвета, и никто не проронил ни слова»[13]. Редактор был в таком восторге, что не захотел ни за что расстаться с драгоценной рукописью «Зависти», он уехал с ней, «прижимая к груди»[14].
Воронский немедленно публикует роман в двух номерах «Красной нови», для чего ему пришлось переформировать уже готовые к печати номера журнала. Об Олеше заговорила вся Москва. «Зависть» вызвала шквал споров, дискуссий, разноголосицу мнений… Олеша недаром подчёркивал, что вошёл в литературу «сенсационно». Это было правдой.
Роман «Зависть» – самое глубокое, самое художественно-изощрённое произведение Олеши. Роман был посвящен современности. В нём Олеша рассказал о противостоянии донкихотов, защитников «старинных чувств», интеллигентов богемного склада деловым людям, «спецам», прагматикам, сторонникам практической целесообразности. Критик-эмигрант Марк Слоним утверждал, что содержание «Зависти» концентрируется вокруг конфликта между человеком и эпохой. Эпоха требует от человека, чтобы он включился в работу нового гигантского социального механизма, пожертвовав чувствами, личным счастьем, трансцендентальными ценностями[15].
Сложность прочтения романа заключалась в амбивалентности героев. Рыцари вечных ценностей Иван Бабичев и Николай Кавалеров – аморфны, бездеятельны, болезненно самолюбивы и в тоже время одарены художественным видением мира, способностью чувствовать прекрасное. Их антагонисты – большевик Андрей Бабичев и студент Володя Макаров – относятся к породе героев, о которых Леонов в романе «Соть» писал, что у них душевные раны заживают скорее, чем порезы на пальцах, они из тех, кто мог бы повторить: «Пускай хоть триста человек кончают самоубийством, но раз гудок – иди и пускай станок в ход» (16). Новые люди полны энергии, жизненного напора, уверенности в своём будущем. Они – победители. Эта линия романа позволила американскому литературоведу Эдварду Брауну поставить роман «Зависть» рядом с романом Евгения Замятина «Мы»[16].
Психологическая парадоксальность романа заключалась в том, что, презирая «победителей», дон-кихоты остро завидуют их жизненной силе, хотя чувствуют, что те вытесняют их на свалку истории. В ткани романа была растворена философская идея столкновения бескорыстной красоты и функциональной пользы, духовного и рационального.
Роман «Зависть» был демонстративно зрелищен. Цитаты из романа хочется приводить бесконечно: ваза «напоминает фламинго». Под порывами ветра «ваза-фламинго бежит, как пламя, воспламеняя занавески, которые тоже бегут под потолок»; «на вышках, как молнии, били флаги»; она «легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней – тень падающего снега» и, наконец, самая знаменитая, хрестоматийная метафора: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев».
После успеха романа была тут же опубликована романтическая сказка Олеши «Три Толстяка», написанная ещё в 1924 году. В сказке был дворец, подземный ход, необыкновенные приключения, тайна, борьба цирковых актёров с жестокими правителями-Толстяками. И чудесная девочка-кукла, «точно розовый свежий букет, перевитый лентами». «Сверкали паркеты. Она отражалась в них розовым облаком». «Можно было подумать, что это маленькая цветочная корзинка плывёт по воде»… Сказка воплощала прозрачную и вечно-прекрасную мысль о человеческом сердце, которое не должно быть ни железным, ни ледяным, а только добрым.
Эту сказку ждала долгая и счастливая жизнь. Она бессчётное количество раз переиздавалась с прекрасными иллюстрациями. Её инсценировку осуществили во МХАТе и Ленинградском БДТ им. Горького. Балет по этой сказке был поставлен в Московском академическом Большом театре, опера – в Ленинградском академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова (в 1950-е). Сказка была превращена в кинофильм (в 1970-е), положена в основу кукольного спектакля, а известный литературовед А. Белинков превратил её даже в сатирический памфлет для взрослых[17].
Из новелл Олеши особенно оригинальна «Лиомпа». Это рассказ о «вечных» проблемах: об эгоцентризме старости, о смерти, о детстве, устремленном в будущее. Олеша нашёл своё воплощение замысла с помощью приёма материализации, казалось бы, ходячих идиом: «сужается круг жизни», «жизнь уходит» и «жизнь только начинается».
От тяжело больного мрачного старика Пономарева «уходят вещи». Они уходят постепенно. Круг сужается медленно. Сначала уходит возможность быть богатым или красивым, потом – совершить путешествие, жениться. Исчезли служба, почта, улица, лошади… Почти нереальными для него становятся такие простые и обыденные вещи, как железнодорожный билет, пальто, коридор, башмаки. «Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи». Из всего огромного их количества «смерть оставила ему только несколько»: флаконы с лекарством, подсов да страшные посещения и взгляды знакомых. «Он потерял право выбирать вещи… Уходящие вещи оставляли умирающему только имена».
Он подзывает к постели маленького соседского ребёнка и сообщает ему, что когда умрёт, заберёт с собой всё: «ничего не останется. Ни двора, ни дерева, ни папы, ни мамы».
Пономарев предчувствует, что умрёт, если вспомнит имя крысы, шуршащей на коммунальной кухне. «Это единственное бессмысленное и страшное имя». В бреду, из подсознания, как бы из небытия, приходит к старику это воспоминание:
«– Лиомпа! – вдруг закричал он ужасным голосом».
Смерть не дала старику забрать с собой вещи. Умный мальчик Александр сам оказывается изобретателем вещей – он сделал модель летающей машины, а другой маленький мальчик, которого пугал Пономарев, «только вступил в познавание вещей». «Вещи неслись ему навстречу. Он улыбался им, не зная ни одного имени… пышный шлейф вещей бился за ним». Такую прекрасную философскую притчу о неумолимости смерти и вечно торжествующей жизни написал в 1929 году тридцатилетний Олеша.
Триумфальное вхождение Олеши в послереволюционную культуру произошло накануне установления в Советском Союзе нового «климата». Весной 1929 был принят первый пятилетний план, провозглашена коллективизация деревни, потерпела поражение во внутрипартийной борьбе группа Н. И. Бухарина, началась чистка в Академии наук, без суда сослали директора Пушкинского дома С. Ф. Платонова, сменили правление МХАТа, «реорганизовали» Государственную
Академию художественных наук, разгромили формальную школу в литературоведении, силами РАПП начали крупномасштабную травлю в прессе писателей Б. Пильняка, Е. Замятина, М. Булгакова, А. Платонова и др. Это были акции, направленные против культуры в целом, против её автономного существования от государства и от партии.
Чувствовал ли Олеша сгущавшийся вокруг мрак? Об этом говорит текст его пьесы «Заговор чувств», в которой Николай Кавалеров – альтер эго автора – терзается сомнениями: «Я боюсь, я не знаю… А, может быть, я ошибся! И может быть, я прозевал, пропустил другое… Я думаю, я думаю… мне трудно, помогите мне… Вы говорите: век благословляет меня… А если новый век меня проклянет? Мне страшно…»[18].
Своей раздвоенностью и тревогой наделяет Олеша и главную героиню следующей пьесы «Список благодеяний» (1930). Символом раздвоенности становится в пьесе тетрадь, разделённая на две половины, в одной из которых актриса Гончарова ведёт список благодеяний, в другом – список преступлений советской власти. Гончарова произносит рискованный афоризм: «в эпоху быстрых темпов надо думать медленно». И ещё более крамольно звучат её слова об отношении к государственной идеологии: «Мыслью я воспринимала полностью понятие коммунизма. Мозгом я понимала, что торжество пролетариата естественно и закономерно. Но ощущение моё было против, я была разорвана пополам»[19].
Не таких произведений ждали от Олеши «победители».
Усилившая в 1929 свои позиции среди других литературных групп РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), одержимая жаждой реванша пролетариата над интеллигенцией, проводит в жизнь пролеткультовскую идею создания особой «пролетарской литературы». Она энергично руководит «литературным процессом», яростно занимается перевоспитанием интеллигенции. «Литературная газета» от 5 ноября 1930 г. сообщила, что рабочие московского завода «Красный пролетарий» взяли шефство над группой писателей (А. Жаровым, А. Безыменским, Дж. Алтаузеном, Г. Никифоровым, В. Катаевым, Ю. Олешей, И. Уткиным), чтобы «приблизить их творчество непосредственно к цеху», призывая их «немедленно включиться в жизнь завода», «в борьбу за выполнение пятилетки в четыре года». Та же газета от 9 декабря 1930 года рассказывала о дальнейшей судьбе этой государственной инициативы: «Приказом заводоуправления за № 158 подшефным писателям были выданы расчётные книжки и табельные номера», и одновременно завод «Красный пролетарий» создает «специальный рабочий совет, который должен обсуждать наиболее крупные произведения подшефных писателей до их напечатания». Главное требование подобных «советов» тех лет – доступность и простота (фактически, до примитива) формы произведения.
Об уровне тогдашней пролетарской аудитории может дать представление обсуждение пьесы «Заговор чувств» рабочей общественностью перед её постановкой в Ленинградском БДТ. Журнал «Современный театр» поместил тогда же на своих страницах заметку «Голос рабочего зрителя: «Заговор чувств» – непонятный и неинтересный спектакль»[20].
А. Топоров, занимавшийся в 1920-х гг. исследованием восприятия современной литературы крестьянами, зафиксировал обсуждение романа Олеши «Зависть» в тогдашней крестьянской среде. Наиболее колоритной оказалась оценка крестьянина Щиткова, который по поводу начала романа, ради которого автор перебрал 300 вариантов, заявил следующее: «Мыслимо ли, чтобы человек, у которого есть десятая доля ума, пел песни во время испражнения! Так делают одни только пьяные…»[21]. Общий вывод рассуждений Щиткова гласил: «Зависть» – произведение никуда не
годное»[22].
Ещё одним свидетельством «голоса народа» является коллективное «Открытое письмо рабочего литкружка Дворецстроя»[23], которое было опубликовано после выхода в свет художественно малоудачного, но честного рассказа Олеши «Кое-что из секретных записок попутчика Занда» (1932)[24] (25). В рассказе писатель Занд хочет «совершенно перестроиться», стать «поэтом восходящего класса», но мучается из-за того, что никак не может отказаться от своего авторского «я», от своей индивидуальности, сквозь призму которой художник видит мир. В своём письме литкружковцы шаблонно упрекали Олешу «в отрыве от масс», в том, что «в ваших произведениях, тов. Олеша, до сих нет рабочего класса, не показано наше производство».
Интересную подробность удалось мне обнаружить, листая подшивку журнала «30 дней» за 1932 год. Оказалось, что рабочий литкружок, члены которого так сурово и «авторитетно» поучали известного в стране писателя Олешу, начал свою работу всего… три месяца (!) назад[25]. До чего же прочно агитпроп внушил крестьянам и рабочим идею классового превосходства и тем самым якобы неоспоримого «права» поучать интеллигенцию, не обладая для этого ни знаниями, ни культурой!
Литкружковцы настойчиво рекомендовали писателю в качестве панацеи идеологический рецепт эпохи «повернуться лицом к пролетариату». Литкружковцы даже не замечали, что текст их письма явился непреднамеренной пародией олешевского рассказа, в котором рефлексирующий отчаявшийся Занд, думающий о самоубийстве, ищет душевного понимания у работника редакторского отдела большевика Базилевича, человека «заурядной наружности», живущего «обыкновенной жизнью» (где есть «быт, и мороз, и галоши») с «ничем не примечательной женой», а в ответ слышит только казённую фразу: «Вам нужно слиться с массой!». Причём, эту фразу догматик Базилевич (это у Олеши ещё один тип большевика после Андрея Бабичева в «Зависти»), не знающий сомнений и растерянности, произносит «мгновенно, не задумываясь ни на секунду».
Редакция журнала вместе с текстом рассказа поместила «дискуссионные» мнения читателей о рассказе, в которых на все лады варьировалась фраза Базилевича: «Нам нужно, чтобы Вы, т. Олеша, слились с массой»[26]. И Олеша смиреннопослушно реагировал на «пролетарскую критику» так, как от него ждали: «Необходимость перестройки мне ясна»[27], а сам продолжал работать над трагической пьесой, «прозаическим подмалёвком» которой считал «Секретные записки попутчика Занда». Он опубликовал тогда же из пьесы, которая так и осталась незавершенной, два отрывка под названиями: «Смерть Занда»[28] и «Чёрный человек»[29].
После смерти Олеши творческая интеллигенция дорожила каждой написанной им строчкой. Были попытки сделать незаконченную пьесу достоянием читателя: в 1964 по материалам рукописного архива Олеши опубликовали ещё один отрывок из этой драмы: «Смерть Занда»[30], позже была предпринята и реконструкция «Смерти Занда» при участии сотрудницы РГАЛИ И. Озёрной, первый раз в 1985-м с предисловием В. Шкловского[31], а текстологически более тщательно в 1993 году[32]. Мне известен машинописный вариант ещё одной реконструкции, сделанный А. Белинковым в 1960-е годы, до его бегства из СССР заграницу. Нигде в печати я не встречала упоминаний об этой работе Белинкова.
Олеша хотел писать, но стоило ему что-нибудь начать, как раздавались голоса: «эта тема не нужна, эта несвоевременна, эта демобилизующа, эта реакционна…». Подобные оценки получили и опубликованные отрывки из пьесы «Смерть Занда». Такой диктат являлся для Олеши «чудовищной силы потрясением». «Но выход ли это? – растерянно спрашивал он. – Ведь они (темы) остаются в мозгу… Образуется кладбище тем»[33].
Варварство эпохи заключалось в том, что проводилось организованное упрощение культуры, и от Олеши, по сути, требовали, чтобы он перестал писать свои изысканные по слогу и смыслу произведения, отказался от своей стилевой манеры, стал автором массовой литературы, навсегда остался Зубилом, понятным каждому, только вчера записавшемуся в литературный кружок при заводском клубе. «Приветствуем писателя Олешу. Он не бросает своё зубило», – писали рабочие депо станции Саратов Рязано-Уральской железной дороги в «Литературной газете» 23 июля 1932 года.
Как сам Олеша относился к этим требованиям?
Очевидно, когда писатель работал в «Гудке», идея создания доступного каждому читателю искусства, приносящего непосредственную «пользу», казалась ему убедительной. Тем более, что идея прямого практического вмешательства искусства в жизнь являлась крайностью программы духовного вождя молодёжи тех лет В. Маяковского. «На последних страницах «Известий» появились рекламы, подписанные величайшим лириком эпохи», – эту фразу Олеши находим уже в полуироническом контексте черновиков «Зависти», которые не были использованы писателем в окончательном варианте романа[34]. В надписи на книге «Зубило», подаренной Олешей 30 июня 1924 г. М. А. Булгакову, слышен отголосок идеологии тех лет:
«Мишенька, я никогда не буду писать отвлечённых лирических стихов. Это никому не нужно. Поэт должен писать фельетоны, чтобы от стихов была практическая польза для людей, которые получают 7 рублей жалованья. Не сердитесь, Мишунчик, Вы хороший юморист (Марк Твен – тоже юморист).
Через год я подарю Вам ещё одно «Зубило». Целую. Ваш Олеша»[35].
Идея служебной «пользы» искусства витала в воздухе той поры. Её проповедовали теоретики не только левого искусства – конструктивисты и лефовцы, авторы теории «социального заказа». К ней, в сущности, была близка и РАПП, низводившая искусство до уровня репортёрского «показа» действительности, считавшая, что искусством можно «управлять», как производством или армией, с помощью «выбрасывания» приказов-лозунгов: то за «одемьянивание» поэзии, то за упразднение метода романтизма («Долой Шиллера!»), то «за показ в литературе ударников, награжденных орденами Ленина и Трудового Красного знамени» («за высококачественную литературу об ударниках») и т. п.
Олеша не был членом ни одной из многочисленных литературных групп 1920-х годов[36]. Он говорил: «Я как-то привык рассматривать себя одиноким среди попутчиков»[37]. Несмотря на заявление Олеши о своей, якобы независимой позиции, на самом деле, как мы видели на примере истории с рассказом «Кое-что из секретных записок попутчика Занда», такая зависимость (и прежде всего от РАПП) существовала. В публичных выступлениях Олеши конца 1920-х – начала 1930-х гг. заметно стремление то подчиниться требованиям РАПП, то отгородиться от них.
Серьезно принимая участие в газетной полемике, Олеша в кругу друзей отшучивался. Лев Славин запомнил его шутку, относящуюся, очевидно, к тому времени: «Толстой бежал в опрощение, а я – в упрощение».[38]
Но шло время. Олеша стал признанным писателем, а требование «перестроиться» всё не теряло своей актуальности и всё тяготело над «попутчиком» Олешей. Причём «перестройка» и «опрощение» стали как бы синонимами. Олеша стал приспосабливаться к «железным» требованиям эпохи. Он то говорил о необходимости жертвовать формой ради доступности вещи, «ради доходчивости идеи», то предостерегал от «пренебрежительного отношения к форме». Теоретически он формулировал готовность пожертвовать своим даром, а вот мог ли следовать этим формулировкам?…
К 1929 году относится найденная мной в архиве записка Олеши: «Писатель должен реконструировать своё умение так, чтобы вещи его были абсолютно доступны всем. Довольно изысканности, высокомерия. Я отворачиваюсь от всего, что писал до сегодняшнего дня, от вычурности, инфернальности и прочей чепухи… Дело не в форме, а в чистой и глубокой мысли»[39].
В 1930 году Олеша признавался в своей борьбе с «тяготением к чистому искусству, в тяготении, изживаемом с трудом»[40], и в том же году ораторствовал: «Страшно раздвинуты были ножницы между пониманием искусства массами и пониманием его верхушкой. Мы должны эти ножницы раз и навсегда сдвинуть с тем, чтобы разрезать ими тех, кто говорил, что искусство должно существовать только ради искусства»[41].
В 1931 году Олеша в «Литературной газете» ратует за «собственный, никем не продиктованный метод», за «разнообразие творческих приёмов»[42]. В 1932 он сознаётся, что ему «до воя, до слёз» хочется стать певцом восходящего класса – пролетариата»[43], и ради этого он готов на многое: «Я хочу перестроиться. Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Вы не поверите, быть может, до чего это противно. Это – слабость, от которой я хочу отказаться»[44]. Но уже через месяц Олеша иронизирует: «Я, конечно, перестроюсь, но как у нас делается перестройка? Вырывается глаз у попутчика и вставляются глаза пролетария. Сегодня – глаза Демьяна Бедного. Завтра – Афиногенова, и оказывается, что глаза Афиногенова с некоторым бельмом»[45]. Ещё через три месяца Олеша, размышляя над созданием «Магнитостроя литературы» (под которым понимался будущий Монблан пролетарской литературы), писал: «Нужно создать Магнитострой литературы. Замечательно. Но нужно подумать и об архитектуре этого Магнитостроя. Если пренебрежительно относиться к форме (а это у нашей критики есть), то… он, конечно, не будет «Магнитостроем», а так – небольшой фабрикой мочалы»[46]. Олеша знал цену беллетристике, которая создавалась под крылом РАПП, но признавался в этом только себе. Он писал в дневниковых записях той поры: «Как пекут романы! Как противно стало читать эти романы! Неделя не проходит со дня объявления очередной кампании, и будьте любезны – появляется серия рассказов с сюжетом, с героем, с типами – с чем угодно: колхозное строительство, чистка, строительство нового города. Необходимо, мол, литературе отражать современность… Но современна ли такая форма отражательства»[47].
Однако себе Олеша в это время наивно отводит роль литературного наставника пролетарских писателей: «Я думаю, что моя писательская функция…, моя линия – продумать вопросы искусства для того, чтобы подготовить путь для грядущего пролетарского художника. Я эту функцию считаю громадной. Я полагаю, что именно эта моя главная функция…»[48].
О том, до какой степени заблуждался Олеша, до какой степени избранная им миссия была не нужна ни «восходящему классу», ни партийной власти, свидетельствуют приведённые выше факты, и то событие, которое предшествовало постановке пьесы «Список благодеяний». В РГАЛИ среди материалов, освещающих жизненный путь Юрия Олеши, я обнаружила не совсем обычный документ. По значению, пожалуй, он мог бы поспорить с пропуском Олеши на завод «Красный пролетарий» и расчетной книжкой, если бы они сохранились. Речь идёт о пригласительном билете, выданном Юрию Олеше как подсудимому на общественный суд над драматургами, не пишущими женских ролей. «Заседание суда, – сообщалось в билете, – состоятся 26 и 27 декабря 1930 года в зрительном зале теа-клуба. Начало ровно в 11 часов 30 минут вечера». На билете рукой Олеши написано: «Гремел две ночи напролёт»[49].
В журнале «Рабочий и театр» об этом «воспитательном мероприятии» был помещен отчёт под знаменательным названием «Под судом»[50]. Автор отчёта Б. Филиппов рассказал, что рядом с Олешей «на скамье подсудимых» находились В. Катаев и Е. Яновский. Неявившихся драматургов (П. Киршона, А Файко, Б. Ромашова, В. Биль-Билоцерковского, В. Вишневского и др.) «судили заочно».
Одним из общественных обвинителей на этом суде выступал народный артист республики В. Мейерхольд.
Писатели были «приговорены к общественному порицанию». В течение одного года «подсудимым предложено написать пьесы, достойным образом отражающие роль женщины в социалистическом строительстве». В конце заметки Б. Филиппов делает такой вывод: «Необходимо отметить, что шуточная форма суда… была опрокинута… В результате шуточный суд превратился в подлинный общественный суд над драматургами».
Такие суды станут репетицией и прелюдией более страшных судов, которые будут происходить в годы террора без общественных обвинителей, когда приговоры будут выноситься вообще без судов по решению «троек» и «особых совещаний»…
Уже через три-четыре года сюжеты, подобные сюжету «Зависти», «Заговора чувств», «Списка благодеяний», «Секретных записок Занда» станут цензурно немыслимыми в государстве, переродившемся в тоталитарное. Олеша интуитивно словно предчувствовал это: «Литература
окончилась в 1931 году. Я пристрастился к алкоголю», – запишет он для себя[51]. В. Каверин зафиксирует в своём дневнике тех лет горькие и пророческие слова Олеши: «Так вы думали, что «Зависть» – это начало? Это – конец»[52]. Это было сказано приватно за несколько лет до 1-го Всесоюзного съезда писателей, после которого Олеша для печати снова повторит «эпохальное»: «Может быть, сейчас мы должны отказаться от сладости удовлетворять собственный вкус ради того, чтобы утверждать идею в наиболее доходчивом виде»[53].
Под видом дискуссий тех лет о путях перестройки «попутчиков», о том, каким должно быть искусство победившего пролетариата, по сути, шёл разговор о праве художника на внутреннюю свободу или готовности категорически отказаться от неё («наступить на горло собственной песне»). Позиция автора этого афоризма Маяковского не расходилась с его высказыванием. И он был не одинок. Поэт В. Луговской писал, что он ради «дела» готов «позабыть своё имя и званье, / На номер, на литер, на кличку сменять».[54] (Здесь В. Луговской явно полемизирует с романом «Мы» Е. Замятина).
Но были Е. Замятин, А. Ахматова, О. Мандельштам, олицетворявшие противоположную позицию. Надежда Мандельштам рассказывает, что в 1920-х – начале 1930-х «находились толпы доброхотов, которые искренно и дружески старались помочь Мандельштаму «перестроиться» (как в Китае), преодолеть себя и стать человеком. Этим занимались интеллигентные мальчики, сообразившие, что будущее за марксизмом. Прилефовские деятели Шкловский, Бобров…»[55]. Однако, «осознав в юности значение внутренней свободы, Мандельштам не мог отказаться от неё с такой легкостью, с какой это делали толпы «попутчиков». Ранняя интеллектуальная зрелость Мандельштама закрыла ему возможность мирного сожительства с новой идеологией»[56].
Олеша, как мы видели, не обладал единой и стойкой линией. Он бросался из одной крайности в другую: то соглашался идти «с ротой в ногу», то восставал против идеологической муштры. В 1930 году в публичных выступлениях он говорит, что попутчики «должны разоблачать самих себя», «должны расставаться с «высокой» постановкой вопроса о своей личности»[57] и в том же году он завершает пьесу «Список благодеяний», в которой присутствует многозначительная символика. Героиня спектакля актриса Гончарова (её играла Зинаида Райх) повторяет сцену встречи Гамлета с Гильденштерном: «…вы думаете, что на мне легче играть, чем на дудке! Назовите меня каким угодно инструментом. Хоть вы и можете меня расстроить, но не можете играть на мне»[58]. Устами Гончаровой автор говорил о том, что яркой личности нет места в современной жизни, поэтому талантливая личность должна потускнеть. А во время беседы с актёрами после читки своей пьесы в 1931 году Олеша, подтверждая свою близость к образу Гончаровой, скажет: «Я не могу писать вещь, где бы не стоял в качестве какого-то "я"»[59].
В окончательном варианте для постановки в Гос. театре им. Мейерхольда острота пьесы была значительно приглушена, но и в таком виде спектакль получил почти сплошь отрицательные отзывы.
Сравнение публичных деклараций Олеши с его же художественными произведениями свидетельствует о способности писателя к социальному конформизму. Это подтверждают и воспоминания А. Старостина, которому запомнилось такое высказывание Олеши: «…говоришь не всегда то, о чём думаешь, а вот пишешь всегда то, что думаешь. – Во всяком случае, – добавил он (Олеша) после небольшой паузы, я пишу, опираясь только на это правило»[60]. В сценарии «Строгий юноша», в газетных статьях второй половины 1930-х – начала 1950-х Олеша будет неоднократно нарушать это сомнительное «правило». Но и официальное давление на Олешу, как и на всех остальных представителей культуры, во сто крат усилится. Не случайно уже тогда, в начале 1930-х, Олешу в его творческих замыслах настойчиво будут преследовать образ нищего, образ сумасшедшего, с которыми он отождествлял себя. С. Бондарин запомнил слова Олеши: «Я никогда не страшился репутации сумасшедшего. Может быть, именно это даёт мне или сохраняет чувство свободы… Давно сказали мне: «Юра, тебя хотят держать при РАПП как своего сумасшедшего». Это так. Это навсегда определило моё общественное положение»[61]. Уход в нищенство, маска «сумасшествия» (как и уход в монастырь) издревле были в России формой бегства от общества, которое не приемлешь. Не случайно подсознательно Олеша искал такой безнадежный выход….
Благожелательность к Олеше прессы 1920-х годов быстро закончилась, появились зловещие статьи-доносы, в которых эстетические оценки были заменены идеологическими. Ещё в 1928 году теоретик ЛЕФа Осип Брик заподозрил Олешу в «симуляции невменяемости», «в тайной контрреволюционности», а в Кавалерове увидел «вредителя» социалистического строительства, «врага», которого «надо добить»[62].
Друзья Олеши поведут себя, мягко говоря, ревниво и не по-дружески. В 1933 году, давая интервью В. Соболеву для «Литературной газеты», В. Катаев скажет, что не считает художественные средства Олеши оригинальными, что, по его мнению, творчество Олеши «не выйдет за пределы одного языка»[63]. В том же 1933-м В. Шкловский назовет творчество Олеши «миром без глубины», иначе говоря, бросит обвинение в формализме[64].
В 1934 году Р. Миллер-Будницкая обвинит Олешу в «идеализме и западничестве»[65].
В страшном 1937 году бывший лефовец В. Перцов «выявит» в «Зависти» «художественную защиту индивидуализма», перерастающую «в идеологию буржуазной контрреволюционности», а в образе Кавалерова обнаружит «зарождение одного из тех гнусных типов человеконенавистничества, из которых подготовлялись впоследствии кадры троцкистских бандитов»[66].
Этот список можно было бы продолжить. (Обратим внимание на такой многозначительный факт. Когда в стране после Великой Отечественной войны была развернута компания против «космополитизма», то многажды битый со всех сторон Олеша будет снова помянут уже в «новом контексте». А. Тарасенков упомянет писателя среди провинившихся в «буржуазном космополитизме»[67].
И хотя пресса, безошибочно угадывая дух времени, изощрялась в разнообразных обвинениях Олеши, в начале 1930-х Олеша всё ещё продолжал испытывать наивное и слепое доверие к власти. Готовность выполнить государственный заказ эпохи и в тоже время невозможность отказаться от внутренней свободы художника с исповедальной силой прозвучали в знаменитой речи Олеши 1934 года на Первом Всесоюзном съезде советских писателей:
«…была первая пятилетка создания социалистической промышленности. Это не было моей темой. Я мог поехать на стройку, жить на заводе среди рабочих, описать их в очерке, даже в романе, но это не было моей темой, не было темой, которая шла бы от моей кровеносной системы, от моего дыхания. Я не был в этой теме настоящим художником. Я бы лгал, выдумывал, у меня не было бы того, что называется "вдохновением"»[68]. Олеша сказал, что теперь, после съезда, к нему вернулась молодость. «Возвращение молодости» – так и были названы публикации этой речи Олеши в «Правде» и «Литературной газете» 24 августа 1934 года.
Но это была только иллюзия. Идеологическая лоботомия не проходит даром. Молодость не вернулась. Олеша ораторствовал, а его уже подстерегал кризис, творческое бессилие, внутреннее раздвоение… Он печально говорил Оренбургу: «Я больше не могу писать. Если я напишу: "Была плохая погода – мне скажут – что погода была хорошей для хлопка…"»[69]. Олеша ещё до съезда вступил в полосу творческого кризиса, пришёл к мыслям о том, как «чрезвычайно ничтожна» его деятельность[70], ещё тогда появились сомнения в своих силах, чувство мучительной раздвоенности. В этом он признается в мае 1934 года письме к Зинаиде Райх, которая вместе с Мейерхольдом ждала от Олеши новой пьесы: «Мне очень трудно, поверьте мне. Мне не удаётся работа, иногда мне кажется, что уже никогда я не смогу писать… Поверьте, что только эта тревога заставляет меня как бы отсутствовать… Я не умею объяснить всем трудности моего состояния. Я, кажется, уже говорил Вам о том, что мне снился афишный столб, и я стоял перед ним и искал своей афиши. Там было много афиш о чужих пьесах и не было моей. У меня очень тревожное состояние. Может быть, это разрядится чем-то очень хорошим. Я верю в это»[71].
И он ещё напишет в 1934 году сверхлояльную пьесу-утопию «Строгий юноша» для кинематографа, которая станет, по сути, самоповтором, вариантом «Зависти», только теперь он уберет все острые углы, все конфликты, всякую амбивалентность (время давило, в тот год, в канун писательского съезда арестовали Мандельштама), даже вложит в уста своего героя-комсомольца фразу о власти ума людей творчества, науки, «наших вождей». Но и здесь не угодит режиму. Уже снятая на студии «Украинфильм» картина будет запрещена в 1936 году к прокату с обвинением в «проповеди философии пессимизма и буржуазной идеи технократии»[72]. Очевидцы расскажут, как побледнел Олеша, прочитав постановление о запрещении проката фильма «Строгий юноша», на который он возлагал большие надежды. Фильм показали по ТВ только в начале 1990-х.
Он еще напишет в духе времени, в духе соцреализма (т. е. безлико и лживо), множество газетных заметок, рецензий, небольших очерков, репортажей, даже рассказов, сценариев в соавторстве и без, но всё это будет большей частью литературной рутиной, подёнщиной ради заработка, ради хлеба, всё это пройдёт незамеченным, потому что не будет там Олеши-художника.
В 1936–1937 годах, когда исчезнет всякое право выбора, когда даже дискуссии о творческой свободе станут немыслимыми, Олеша даст вовлечь себя в вакханалию политических приговоров, где уже не его, а он, подобно многим и многим, станет предвзято судить обвиняемых партийно-государственным режимом. После появления в «Правде» в рамках дискуссии против формализма статьи «Сумбур вместо музыки», явно по распоряжению правления Союза писателей (ведь такие мероприятия всегда режиссировались), Олеша выступит на общем собрании московских писателей 16 марта 1936 года и в своей речи будет искать способ похвально отозваться о Д. Шостаковиче, но в то же время, прячась за штамп «музыка, непонятная народу», будет – по партийной указке – послушно осуждать гениального композитора: «…когда появлялись новые вещи Шостаковича, я всегда восторженно хвалил их… На отрезке искусства партия, как и во всём, права (Аплодисменты). И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то пренебрежительной (Аплодисменты). К кому пренебрежительной? Ко мне. Эта пренебрежительность к «черни» и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича – те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас… Интересы народа руководителям дороже, чем интересы того искусства, так называемого изысканного, рафинированного, которое нам иногда кажется милым и которое в конце концов является так или иначе отголоском упадка искусства Запада»[73].
Эта позиция Олеши была типична для тех лет. Стоит сравнить речь Олеши с выступлением Мейерхольда на общем собрании ГОСТИМа в декабре 1937 года после появления в «Правде» разгромной статьи П. Керженцева «Чужой театр». Правда, В. Мейерхольд обвинял не других, а себя: «…партия правильно ставит вопрос – народу нужно искусство простое, нужно снимать с искусства всякую шелуху, всякие изощрения, всякие импрессионизмы, экспрессионизмы, акмеизмы и т. п…. Никаких выкрутасов и изысков. Это самое важное, что мы должны на сегодняшний день сказать… Ленин нас учил… мы торжественно обещаем товарищу Сталину к двадцатилетию Великой Октябрьской революции…» и т. п.[74].
Слишком осторожная критика Шостаковича Олешей не понравилась верноподданным идеологам. И это недовольство не замедлило вылиться в редакционную статью «К итогам дискуссии»[75], в которой Олеша будет подвергнут «проработке». Ну а самокритика и покаяние Мейерхольда, которыми он хотел спасти театр и отвести беду от себя, и вовсе не возымели действия. Режиссёр, как и его театр, уже были обречены.
Однако не очень удачный опыт конформизма не прошёл для Олеши, как и многих других советских писателей, даром. В речи 1937 года «Фашисты перед судом народа» он уже с казённым пафосом клеймит обвиняемых в троцкизме, не нарушая правил тогдашней идеологической кампании: «Люди, которых сейчас судят, вызывают омерзение… Мерзавцы, жалкие люди, шпионы, честолюбцы, завистники хотели поднять руку на того, кому народ сказал: ты сделал меня счастливым, я тебя люблю. Это сказал народ! Отношение народа к Сталину рождает такое же волнение, какое рождает искусство!»[76]. Ценно свидетельство А. Синявского, который в книге «Основы советской цивилизации» писал: «Несколько лет тому назад, собирая из старых газетных материалов коллаж, посвящённый 37-му году, мы с тоской обнаружили, что тогда опозорились все. Буквально все. Раздавить гадину в лице очередных врагов народа призывали и Юрий Олеша, и Платонов, и Зощенко, и Паоло Яшвили, и Бабель, и Тынянов, и ещё, и ещё – и все они с гневными статьями и с художественными особенностями… А рядом печатались коллективочки, где среди россыпи имён опять же и Зощенко, и Тынянов, и Паустовский, и Павел Антокольский, и Пастернак…»[77]. Действительно, это было время, когда газеты ежедневно печатали обращения трудящихся с призывами покарать смертью «троцкистско-зиновьевско-бухаринских убийц», когда на тысячах собраний миллионы советских граждан приветствовали сообщения о расстрелах врагов, когда интеллигенция – вольно и невольно – пошла в услужение тоталитарному режиму.
Есть ли у нас сегодня право судить Олешу за эти его выступления? Ведь и отказ принять участие в подобных ритуалах был чреват самыми непредсказуемыми последствиями… Думаю, что конформистские речи Олеши, его сценарий «Строгий юноша» – это явления того же печального ряда, что и «Батум» М. Булгакова; стихи А. Ахматовой, прославлявшие Сталина; «Ода Сталину» и уничтоженные вдовой воронежские стихи О. Мандельштама, посвященные «строителям» Беломорско-Балтийского канала…
Правда, компромиссы не сломили ни Булгакова, ни Ахматову. У них хватило сил на «Мастера и Маргариту», на «Реквием». Олеша оказался слабее. Он сумел оставить только устные остроты, записанные другими, да отрывочные, порой удивительно прекрасные, дневниковые записи.
В годы террора, когда литераторам дозволяли быть лишь послушными соавторами государственного мифа, трансляторами партийной доктрины, когда царил страх, когда арестовывали, ссылали, убивали близких и дальних (Бабеля, Кольцова, Пильняка, Дикого, Мейерхольда, Райх, Лифшица…), Олеша не мог, не был в состоянии писать прозу, но его раздавленное и сжатое «я», не утерявшее окончательно своей независимости, нашло свой способ духовного противостояния режиму.
В кафе «Националь», неподалёку от Красной площади и Кремля, Олеша возрождает дух кабаре с его миражностью полухмеля, экспромтом, театральностью, вольным словом. В «Национале» за столиком Олеши, где собираются актеры, литераторы, художники, царили навряд ли мыслимые тогда ещё где-либо формы неофициального, карнавального общения. Играя, импровизируя, соря остротами, изощряясь в застольном красноречии, Олеша удовлетворял свою неистребимую потребность в творчестве и одновременно помогал преодолевать себе и другим «психологию заключённого», которую в те годы прививали всем гражданам страны. В эпоху, когда интеллигенция жила «под собою не чуя страны», когда ее речи были «за десять шагов не слышны», афоризмы и экспромты Олеши расходились по всей столице, их запоминали, пересказывали друг другу. «Тоталитаризм и богемная вольница несовместимы»[78], – справедливо пишет киевский литературовед М. Петровский. – Сталинским режимом богема была уничтожена – «либо физически, либо зачислением на государственную службу»[79]. Но Олеша сделает себя исключением из этого правила. Шутки и презрительные суждения Олеши были далеко небезобидны, в них был вполне прочитываемый подтекст. Например, он предлагал: «В шахматы надо ввести новую фигуру. Название ей я уже придумал – дракон. Этот предлагаемый мною дракон, ходит куда хочет и бьет любую фигуру, какую хочет»[80]. Олеша замечает, что «теперь все говорят языком Зощенко. Министр культуры говорит языком Зощенко»[81]. Слушатели Олеши запомнили, что «писателю надо платить не за то, что он пишет, а за то, что он живёт»[82] (83); «Когда Гофман пишет "вошел черт" – это реализм, когда Караваева пишет: "Липочка вступила в колхоз" – это фантастика»[83].
Тайной пружиной этого типа острот было противостояние советской власти. Олеша до конца остался верен этому малому, но по-своему несгибаемому сопротивлению.
Автор рискованных речей ходил по лезвию ножа. Сегодня стало известно содержание литературных архивов КГБ, прочитаны следственные дела писателей, допрашиваемых и пытаемых в застенках. Оказалось, что оговоров Олеши требовали на допросах от Мейерхольда, Кольцова, Бабеля, Стенича… Вот только одна небольшая цитата из досье Бабеля: «Его (Олеши – И. П.) беспрерывная декламация в кабаках была как бы живой агитацией против литературного курса, при котором писатели, вроде Олеши, должны прозябать… На отдельных представителей советской литературы он публично набрасывался с криками: «…Я требую одного – чтобы мне было дано право на отчаяние!»…Он носил себя, как живую декларацию обид, наносимых «искусству» советской властью; талантливый человек – он декларировал об этих обидах горячо, увлекая за собой молодых литераторов и актеров"[84].
Поэт и переводчик В. Стенич на допросах и вовсе выдвинул страшное обвинение – он заявил, что Олеша «всегда в беседах подчёркивал своё стремление лично совершить террористический акт. Например, зимой 1936 года, когда мы проходили мимо здания ЦК ВКП(б), Олеша сделал злобный клеветнический выпад против Сталина, заявив: "А всё-таки я убью Сталина"»[85].
Олеша ходил под Богом. Его чудом не арестовали (может, спасла репутация городского сумасшедшего, пьянчуги?), физически не уничтожили, но он ушёл в «литературное молчание», двадцать лет не переиздавали его прежних произведений. Он писал казённым языком тех лет газетные заметки по заказу редакций (в том числе и о футбольных матчах, и о сборе металлолома, и о первых выборах в Верховный Совет СССР на избирательном участке в Москве, где баллотировался Сталин, и об изобилии товаров в магазинах Москвы, и…), он стал правщиком и перелицовщиком чужих вещей, пил и бросал пить, лечился и снова начинал пить. Он отдавал себе отчёт в той беде, которая произошла с ним: «Однажды я заметил, что теряю желание писать, в смысле сочинять что-либо о вымышленных людях и их вымышленной жизни. Это нежелание было непреодолимым, я понял: это катастрофа в моей писательской судьбе, конец. Однако умение писать меня не покидало. И даже когда я…» (Фраза в дневнике оборвана – И. П.)[86].
После смерти Сталина Олеша обращается вновь, как когда-то в 1930-х и 1940-х, к жанру дневниковых записей, некоторые из которых увидят свет при его жизни.
Возрождается интерес к его творчеству. Осенью 1955 года Гослитиздат решит поставить в план сборник избранных сочинений Олеши и (вот ирония судьбы!) составление однотомника и вступительную статью к нему поручат написать… В. Перцову, к тому времени доктору филологических наук. Перцов так вспоминал своё сотрудничество с писателем: «Олеша слушал с особенным вниманием ту часть статьи, которая относилась к «Зависти»…. и сказал, что мне удалось, как он выразился, "выгнуть кривизну"»[87]. Олешинский отзыв нельзя понять иначе, как ироничный, но Перцов понял его по-своему: «Едва ли нужно говорить, как был доволен автор статьи (т. е. сам Перцов – И. П.) этим отзывом…»[88].
Стотысячный тираж «Избранных сочинений» (1956) Олеши (с тем самым предисловием Перцова) разошелся мгновенно. Переиздание мелькнуло проблеском новой славы писателя.
В это же время Олеша пытается работать над письменной, литературной фиксацией своих изустных метафор и острот, которые вспыхивали в полутрезвых диалогах-монологах «Националя» и часто гасли в памяти самого писателя. Но даже на дневниковую фиксацию таких образов его уже решительно не хватает. Он добровольно растратил свой талант, он устал, рано постарел. Вдова писателя Ольга Густавовна Суок рассказала мне об Олеше последних лет жизни: он хотел бы жить на палубе корабля или хотя бы под лестницей гостиницы, чтобы «быть, как нигде». И всё же Олеша делает всё новые и новые попытки «к литературе».
После смерти Олеши составители в 1965 году издадут его отрывочные записки под выспренним названием «Ни дня без строчки», но это лживое название – ежедневных-то строчек как раз и не было! По свидетельству В. Катаева Ключик (Олеша) хотел назвать эту книгу «гораздо лучше и без претензий»: «Прощание с жизнью»[89]. В самой книге «Ни дня без строчки» мелькает часто выражение Олеши «прощание с миром». Нынешние издатели этой книги, расширив её объём за счет тех записей Олеши, которые по цензурным соображениям не могли быть опубликованы в 1965 году, выпустили труд под названием «Книга прощания»[90].
«Ни дня без строчки» Олеши – это книга заметок, в которых, по слову Е. Евтушенко, «напряженно билась жилка сохранившегося таланта»[91], это подтверждение олешевской мысли о том, что он должен писать, «хотя бы и так»[92], если уже не способен на цельную и законченную вещь. В книге мерцают искры погибшей олешевской эстетики 1920-х годов.
Олешу мучил сюжет рассказа-притчи о себе самом: «Жизнь подходит к концу. Я сделал немного. Я просто назвал несколько вещей иначе. И вот пришла смерть с косой и садится напротив. И говорит: «А назови меня как-нибудь иначе…». И я мучаюсь – и не могу назвать её иначе…"[93]. «Ни дня без строчки» и «Книга прощания» – это свидетельства отчаянного сопротивления Олеши старости, творческому бессилию, одиночеству, смерти, забвению, несчастливой судьбе…
После смерти Олеши о нём выйдет в Москве несколько книг. М. Чудакова сосредоточится исключительно на эстетическом очаровании прозы Олеши, не ссылаясь ни на кого из предшественников, не вступая в спор ни с одним из современников[94]. Коллективный сборник «Воспоминания о Юрии Олеше», на который мы ссылались выше, не без трудностей появится в 1975 году. Книга В. Перцова, в которой он будет усиленно «выпрямлять кривизну» своих и чужих оценок Олеши предшествующих лет, замалчивая все мучительные противоречия писателя, драматизм его судьбы, выйдет в 1976 году[95]. Завершенная в 1968 году тысячестраничная рукопись книги А. Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», вывезенная автором в том же году во время бегства на Запад, увидит свет в Мадриде в 1976 году, а в Москве – лишь в 1997 году.[96]Сильный в разоблачении социального зла Белинков пафос своей книги обрушит на тоталитаризм и ту советскую интеллигенцию, которая тоталитаризму не сопротивлялась, капитулировала перед властью. Олеше в этой книге достанется незавидная «роль мальчика для битья» (так объяснял свою позицию мне, тогда аспирантке, в личной беседе с ним в Москве в 1967 году А. Белинков). Между тем книга-памфлет Белинкова столь талантлива, жанр художественного литературоведения («литературоведческий роман»), в котором она написана, столь нов, нетрадиционен, что неискушённые в олешеведении принимают её за «блестящее исследование творческой биографии Олеши»[97]. Ближе к истине окажется А. Смирнов, который, рецензируя книгу «Сдача и гибель…», сделает вывод, что для Белинкова «на поверку Олеша – только полигон», а сама книга написана «о тираноборчестве автора и верноподданичестве героя; о белинковской ненависти к тирании и предательству и о соглашательстве с ними конформиста. То есть книга о себе. О состоянии своей души, противоположном состоянию души героя (Юрия Олеши)»[98].
Несомненно, Белинков был прав, когда писал о гибели таланта Олеши: после 1929 года шла его непрестанная «гибель», но безоговорочной «сдачи» не было. Творческий дар Олеши сопротивлялся насилию.
В прекрасной и проникновенной статье писателя Б. Ямпольского «Да здравствует мир без меня», посвященной последним годам жизни Олеши и названной его же словами из книги «Ни дня без строчки», содержится полемика с Белинковым: «Есть на свете люди – литературоведы, – которые пытаются выдать сейчас Олешу чуть ли не за эталон приспособленчества. Какая ужасная слепота и несправедливость! Да, он был раздавлен… Но он был высечен из цельного благородного камня, в нём не было ни капли, ни одного капилляра подлизы, карьериста, ему доступны были прекрасные видения»[99].
В неожиданном ракурсе расшифровал книгу Белинкова исследователь А. Гольдштейн. Он написал свою статью в такой же «поп-артовской» манере, в какой написана книга Белинкова. Вслед за Белинковым Гольдштейн расширяет общепринятые для русского литературоведения границы дозволенного, не щадит в своих откровенных и гротескных суждениях ни автора книги «Гибель и сдача…», ни его «подзащитного». Гольдштейн считает, что Белинков «все семьсот страниц делал вид, что проклинал Юрия Карловича Олешу, бывшего писателя, любимого некогда интеллигенцией, он смеялся над ним, издевался над ним, нет, не над ним, разумеется, а в его испитом, потускневшем лице над литературой и общественным строем»[100]. Вместе с тем, Гольдштейн предполагает, что Белинков «написал свою главную книгу даже не столько о советском общественном строе и даже не столько о советской литературе…, сколько написал он огромную цеховую книгу о советской литературной критике и литературоведении»[101]. «Он написал свою главную книгу о гадюшнике, клоповнике, змеёвнике, зверинце, бестиарии, пандемониуме советской литературной критики и советского же литературоведения, населённых изумительными мерзавцами»[102]. Гольдштейн видит сходство судьбы неудачника Олеши с судьбой неудачника Белинкова, а саму книгу «Сдача и гибель…» считает изживанием авторских комплексов, подарком психоаналитикам.
Проанализировав ранее не попавшие в печать дневниковые записи Олеши, В. Гудкова также вступает в полемику с Белинковым. Она считает, что его книга нанесла серьёзный урон Олеше, за которым после появления книги Белинкова «закрепилась репутация испуганного капитулянта, отступника от вечных ценностей, предателя идеалов. Причём отступившего будто бы вне реальной опасности, без веских причин»[103]. Между тем внимательное чтение неизвестных читателю страниц Олеши (Замечу, что А. Белинков был членом комиссии по литературному наследию Ю. К. Олеши, назначенной Союзом писателей. Он имел свободный доступ к архиву) позволяет сделать В. Гудковой совсем иной вывод: «В неизвестных дневниках Олеши царят не метафора, краска, образ, как было бы привычным предположить, а ощущение задавленности, социального бессилия, внятного, пусть и наедине с самим собой, протеста»[104].
Олеша – это вдохновение, фантазия, эстетизм, волшебное зрение, бескорыстие, остроумие, дерзость. Социальная слепота, раздвоенность, конформизм, творческое бессилие, мучительная рефлексия, униженность, отчаяние – это тоже Олеша. Он – носитель дара, мятущийся и грешный, – верил и сомневался, заблуждался и прозревал, мечтал укрыться от жестокой эпохи и по-своему ей сопротивлялся. Нам важно понять его без прокрустова ложа заданных концепций во всей сложной противоречивости: таким, каким он был, – сильным и слабым, безоглядным и ранимым, чрезвычайно зависимым от исторического времени, в котором жил.
Сегодня всё лучшее, созданное писателем, продолжает жить. Олеша говорит с нами из Вечности.
Статья И. Панченко опубликована в литературном альманахе «Побережье» (1999. № 8. С. 174–192).
1
Розанова Е. Забытая тетрадь. Ранние стихи Ю. Олеши // Вопросы литературы. 1965. № 11. С. 251–252.
2
Олеша Ю. Пушкин // Огоньки. 1918. № 1.
3
Олеша Ю. Художник и эпоха // Советский театр. 1932. № 3. С. 31.
4
Олеша Ю. Рассказ об одном поцелуе // Южный огонёк. 1918. № 5.
5
Олеша Ю. Автограф // РГАЛИ. Фонд № 358. Опись № 1. Ед. Хр. 22.
6
Олеша Ю. Автограф // РГАЛИ. Фонд № 358. Опись № 1. Ед. Хр. 23.
7
Опыт публичных выступлений Олеша приобрёл в 1922 г.: «Сценическая карьера моя началась в городе Харькове, где я работал в кавказском ресторане «Верден» на Сумской улице в качестве конферансье, исполнителя «Буримэ» и отгадчика мыслей (вместе с Георгием Нежинским)». См.: Автограф Ю. Олеши. Альбом Кручёных № 2. РГАЛИ. Фонд № 358. С. 32.
8
Овчинников И. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше // М.: Сов. писатель, 1975. С. 46.
9
Катаев В. Алмазный мой венец. В кн.: Трава забвения // М.: Вагриус, 1999. С. 138.
10
«Юрий Олеша очень много ездил. У него был бесплатный билет по всем железным дорогам страны. Олеша работал фельетонистом газеты «Гудок», подписывался «Зубило». Есть два пионеротряда имени «Зубилы». См.: Из недописанных биографий // Экономическая жизнь. 1934. 18 августа.
11
Олеша Ю. Беатриче (Поэма). Публикация Панченко И. Послесловие Скуратовский В. // COLLEGIUM (Киев). 1994. № 1. С. 157–160.
12
Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Евтушенко Е., науч. ред. Витковский Е. // Минск-Москва: Полифакт,1997. С. 335–336.
13
Катаев В. Алмазный мой венец. В кн.: Трава забвения. С.184.
14
Катаев В. Там же.
15
Slonim Mark. Soviet Russian literature. Writers and Problems // N.Y., Oxford Univ. Press, 1964. P. 113–124.
16
Brown Edward. Russian Literature since the Revolution // N.Y., Lnd., Collier Books, 1963. P. 25, 84–93.
17
Белинков А. Поэт и Толстяк. (Главы из книги «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» – И. П.) // Байкал (Бурятская республика РСФСР). 1968. № 1. Февраль. С предисл. Чуковского К.; № 2. Март. Продолжение. Публикация отрывков книги Белинкова А. была прервана по цензурным соображениям, её окончание в № 3 не появилось.
18
Олеша Ю. Заговор чувств. Драма в пяти действиях и семи картинах. Машинописный экземпляр, хранившийся в 1960-х гг в архиве О. Г. Суок-Олеши (Москва, Лаврушинский переулок 17/19, кв. 73). С. 69.
19
Олеша Ю. Список благодеяний // М.: Федерация, 1931. С. 96.
20
Голос рабочего зрителя: «Заговор чувств» – непонятный и неинтересный спектакль // Современный театр. 1929. № 15. С. 238–239.
21
Топоров А. Крестьяне о писателях. Опыт, методика и образцы крестьянской критики современной художественной литературы // М.-Л.: Госиздат, 1930. С. 169–181.
Впервые: Коммунары «Майского утра» о книге Юрия Олеши «Зависть» // Настоящее (Новосибирск). 1929. №№ 5–7.
22
Там же.
23
Открытое письмо рабочего литкружка Дворецстроя // 30 дней. 1932. № 3. С. 65–66.
24
Олеша Ю. Кое-что из секретных записок попутчика Занда // 30 дней. 1932. № 1. С. 11–17.
25
«Литкружок Дворецстроя очень молодой. Существует три месяца. До уровня заводских кружков, существующих уже полтора-два года и имеющих уже достаточный опыт, мы придём ещё после длительной и упорной работы над собой и в массах…» Г. Тихомиров. Литкружок Дворецстроя // 30 дней. 1932. № 6. С. 69.
26
Отклики читателей // 30 дней. 1932. № 1. С. 18.
27
Ответ Ю. Олеши литкружку Дворецстроя // 30 дней. 1932. № 5. С. 67.
28
Олеша Ю. Смерть Занда // Лит. газета. 1930. 19 октября.
29
Олеша Ю. Черный человек // 30 дней. 1932. № 6.
30
Олеша Ю. Смерть Занда // Театр. 1964. № 1.
31
Олеша Ю. Смерть Занда // Современная драматургия. 1985. № 3.
32
Олеша Ю. Смерть Занда // Театр. 1993. № 1.
33
Олеша Ю. // 30 дней. 1932. № 5. С. 67.
34
Автору статьи посчастливилось работать с черновиками «Зависти» в 1960-х гг при жизни вдовы Ю. К. Олеши, когда архив писателя находился в его квартире в Лаврушинском переулке 17/19. В 1979 г. архив Олеши поступил на хранение в РГАЛИ (Фонд № 358).
35
Олеша Ю. Автограф // Российская государственная библиотека. Архив М. А. Булгакова. Фонд № 562.
36
В одной из аннотаций к «Зависти» тех лет об авторе было написано: «Юрий Карлович Олеша – молодой ещё писатель, формально не примыкающий ни к одной литературной группировке…» // Металлист. 1928. № 16. С. 20.
37
Олеша Ю. // Советский театр. 1932. № 2. С. 32.
38
Славин Л. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше. С. 18.
39
Олеша Ю. Автограф // РГАЛИ. Фонд № 358. Опись № 1. Ед. Хр.2.
40
Олеша Ю. // Стройка. 1930. № 3. С. 17.
41
Олеша Ю. Выступление на первой Всероссийской конференции драматургов, композиторов, авторов малых форм // Лит. газета. 1930. 9 октября.
42
Олеша Ю. // Лит. газета. 1931. 24 января.
43
Олеша Ю. Говорят драматурги // Рабочий и театр. 1932. № 2. С. 6.
44
Олеша Ю. Художник и эпоха // Советский театр. 1932. № 3. С. 30–31.
45
Олеша Ю. О глазах Демьяна // Советский театр. 1932. № 3. С. 30.
46
Олеша Ю. О Магнитострое литературы // 30 дней. 1932. № 5. С. 67.
47
Олеша Ю. Книга прощания // М.: Вагриус, 1999. С. 36.
48
Олеша Ю. О наставничестве // Советский театр. 1932. № 2. С. 31.
49
Олеша Ю. Автограф // РГАЛИ. Фонд № 358. Опись № 1. Ед. Хр.21.
50
Филиппов Б. Под судом // Рабочий и театр. 1931. № 2. С. 15.
51
Олеша Ю. Книга прощания. С. 36.
52
Каверин В. Несколько лет. Дневник писателя // Новый мир. 1966. № 11. С. 156.
53
Олеша Ю. // Труд. 1934. 28 августа.
54
Луговской В. Мускул. // М., 1929. С. 15.
55
Мандельштам Н. Воспоминания. Книга вторая // Париж: YMCA PRESS, 1987. С. 343.
56
Там же. С. 338.
57
Олеша Ю. // Стройка. 1930. № 3. С. 17.
58
Олеша Ю. Список благодеяний. С. 101.
59
Протокол беседы после читки Ю. К. Олешей пьесы «Список благодеяний» от 18 марта 1931 г. Из архива О. Г. Суок.
60
Старостин А. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше. С. 65.
61
Бондарин С. Встречи со сверстником. В кн.: Гроздь винограда // М.: Сов. писатель, 1964. С. 182.
62
Брик О. Симуляция невменяемости // Новый ЛЕФ. 1928. № 7. С. 1–3.
63
Катаев В. Интервью Соболеву В. Изгнание метафоры // Лит. газета. 1933. 17 мая.
64
Шкловский В. Мир без глубины // Лит. критик. 1933. № 5. С. 118–121.
65
Миллер-Будницкая Р. Новый гуманизм // Лит. современник. 1934. № 12. С. 104–109.
66
Перцов В. О книгах, вышедших десять лет тому назад // Лит. газета. 1937. 26 июня.
67
Тарасенков А. О национальных традициях и буржуазном космополитизме // Знамя. 1950. № 1. С. 155–156.
68
Олеша Ю. Повести и рассказы // М.: Худ. литература,1956. С. 428.
69
Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 3–4 // М.: Сов. писатель, 1963. С. 420.
70
Олеша Ю. Говорят драматурги // Рабочий и театр. 1932. № 2. С. 6.
71
Из письма Ю. Олеши к 3. Райх. 1934. См.: «Любовь тянет за собой такие странные слова…» Из переписки Ю. К. Олеши с В. Э. Мейерхольдом и 3. Н. Райх // Экран и сцена. Еженед. приложение к газете «Советская культура». 1991. 21 февраля. С. 15.
72
Постановление треста «Украинфильм» о запрещении фильма «Строгий юноша» 10 июня 1936 г. Подпись: М. Ткач // Кино. 1936. 28 июля.
73
Великое народное искусство. Из речи тов. Ю. Олеши // Лит. газета. 1936. 20 марта. Надо заметить, что это был не первый опыт участия Олеши в обвинительных кампаниях. 29 ноября 1930 г. в связи с процессом Промпартии в «Лит. газете» было напечатано выступление Ю. Олеши «В нашем словаре имеются и грозные слова».
74
Мейерхольд В. Выступление на общем собрании ГОСТИМа // Московский наблюдатель. 1992. № 4. С. 42.
75
К итогам дискуссии. Ред. статья // Лит. критик. 1936. № 5. С. 6–8.
76
Олеша Ю. // Лит. газета. 1937. 26 января.
77
Синявский А. Основы советской цивилизации // М.: Аграф, 2002. С. 396.
78
Петровский М. Ярмарка тщеславия, или что есть кабаре // Московский наблюдатель. 1992. № 9. С. 18.
79
Там же.
80
Овчинников И. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше. С. 52.
81
Ямпольский Б. Да здравствует мир без меня // Континент. 1976. № 6. Цит. по кн.: Ю. Олеша. Зависть. Три Толстяка. Рассказы. Материалы к биографии Ю. К. Олеши. Школа классики. Книга для ученика и учителя. М.: ACT, Олимп, 1998. С. 376.
82
Поляновский М. Незавершённый сценарий Юрия Олеши //Лит. газета. 1969. 5 марта. Речь шла о сценарии 1935 г. с условным названием «Девушка и смерть». В этой заметке Поляновский приводит воспоминания Ф. И. Гоппа, который запомнил процитированные нами слова Олеши.
83
Ямпольский Б. Да здравствует мир без меня. С. 376.
84
Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ // М.: Парус, 1995. С. 53–54.
85
Шнейдерман Э. Бенедикт Лифшиц: Арест, следствие, расстрел // Звезда. 1966. № 1.
86
Олеша Ю. Книга прощания. С. 184.
87
Перцов В. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше. С. 253–254.
88
В. Там же. С. 254.
89
Катаев В. Алмазный мой венец. В кн.: Трава забвения. С. 12.
90
Олеша Ю. Книга прощания // М.: Вагриус, 1999. 477 С.
91
Евтушенко Е. Комментарий. Строфы века. С. 335.
92
Олеша Ю. Книга прощания. С. 251.
93
Глан И. В сб.: Воспоминания о Юрии Олеше. С. 291.
94
Чудакова М. О. Мастерство Юрия Олеши // М.: Наука, 1972. 10 °C.
95
Перцов В. «Мы живём впервые». О творчестве Юрия Олеши // М.: Сов. писатель, 1976. 239 С.
96
Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. Предисл. М. Чудаковой. М.: РИК «Культура», 1997. 539 С.
97
Сергеев П. Орешек Зубиле не по зубам // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1998. 9-10 мая.
98
Смирнов А. Тираноборчество и клоунада: смертельный трюк // Новый мир. 1997. № 8. С. 220, 223.
99
Ямпольский Б. Да здравствует мир без меня. С. 393.
100
Гольдштейн А. Отщепенский «соц-арт» Белинкова. В кн.: Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики // М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 253.
101
Там же. С. 254.
102
Там же. С. 255. Волны презрения, которыми облил коллег по цеху А. Белинков, столь велики, что, по мнению Гольдштейна, «этим старым девкам хорошо было бы коллективно удавиться. Ослепить себя, как Эдип, чтобы не видеть больше текстов в упор, если бы у них оставалась крупица совести на всех вместе взятых, на этих старых блядей и даже, с позволения сказать, проблядей…» (Там же. С. 254).
103
Гудкова В. О Юрии Карловиче Олеше и его книге, вышедшей в свет без ведома автора: Предисл. к кн.: Олеша Ю. Книга прощания. С. 12.
104
Там же. С. 13–14.