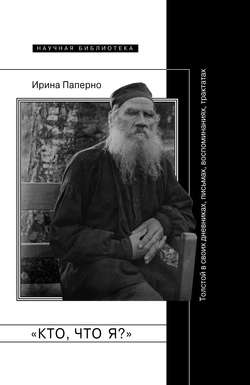Читать книгу «Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах - Ирина Паперно - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
«Чтобы сам бы легко читал себя…»: ранние дневники Толстого
«История вчерашнего дня» (1851)
ОглавлениеВ марте 1851 года Толстой взялся за дело, которое он давно уже обдумывал: написать полный отчет об одном прожитом дне – историю вчерашнего дня. Его выбор пришелся на 25 марта: «не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен <…>, а потому, что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. – Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления <…> проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что недостало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать» (1: 279). Это был эксперимент: Толстой знал, что написать такую историю невозможно, и тем не менее он принялся за дело[21].
Здесь впервые появляется метафора книги жизни, к которой Толстой будет возвращаться вплоть до самой смерти, особенно в дневниках[22].
Как оказалось, за двадцать четыре часа работы, растянувшейся на три недели, Толстой продвинулся не дальше утра. Объем текста достиг печатного листа («История…», опубликованная только после смерти Толстого, занимает около двадцати шести страниц типографского текста). На этом Толстой остановился. К этому моменту он, по-видимому, понимал, что предпринятое им дело обречено на провал не только по причине исчерпаемости материальных ресурсов («не достало бы чернил на свете <…> и типографщиков»), но также из-за ограничений, заложенных в самом процессе повествования.
«История…» начинается в самом начале дня: «Встал я вчера поздно, в 10 часов без четверти». За этим следует объяснение причины, соотносящее это событие с событием, произошедшим накануне: «…а все от того, что лег позже 12». Здесь рассказ прерывается замечанием (в скобках), включающим это второе событие в общую систему правил: «(Я дал себе давно правило не ложиться позже 12 и все-таки в неделю раза 3 это со мною случается)». Затем следует уточнение обстоятельств, приведших к этому поступку: «Я играл в карты» (1: 279). Этот отчет о событиях вчерашнего дня прерывается очередным отступлением – размышлениями повествователя о том, почему люди играют в карты. Через полторы страницы Толстой возвращается к описанию карточной игры.
Повествование продвигается с трудом, толчками – не столько как рассказ о событиях и поступках, сколько как исследование умственной деятельности героя-повествователя, а именно тех размышлений, которые сопровождали как его действия, так и акт повествования о них. На последней странице неоконченной «Истории…» мы находим героя в постели – он так и остался на пороге вчерашнего дня.
Так что же такое время? В «Истории…» день начинается утром, стремительно движется к вечеру накануне и затем не спеша возвращается к начальной точке, к утру. Время течет назад, совершая круг. Толстой написал не историю вчерашнего дня, а историю позавчерашнего дня.
Эта же схема окажется в действии в 1856 году, когда Толстой начнет работу над историческим романом. По словам Толстого (в одном из предисловий к «Войне и миру»), его первоначальным замыслом было написать роман о декабристах, время действия которого происходило бы в настоящем (то есть в 1856 году), когда постаревший декабрист возвращается в Москву из сибирской ссылки. Но прежде чем приступить к делу, Толстой почувствовал необходимость прервать ход повествования: «невольно от настоящего перешел к 1825 году» (то есть к восстанию декабристов). Затем, чтобы понять своего героя в 1825 году, он обратился к сформировавшим его событиям Отечественной войны 1812 года: «я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года» (13: 54). «Но и в третий раз я оставил начатое» – с тем, чтобы наконец остановиться на 1805 годе (начало наполеоновской эпохи в России)[23].
В этом случае повествование снова двигалось не вперед, а назад. И в «Истории вчерашнего дня», этом фрагменте истории личности, и в историческом романе Толстой обратил начальный момент повествования в конечный пункт развития предшествующих событий, обусловленных причинно-следственными связями. Как казалось Толстому, когда он писал предисловие к «Войне и миру», такова неизбежная логика исторического повествования.
В «Истории вчерашнего дня» эффект преломления времени проявляется не только в сдвиге описываемого дня в сторону предшествующего. В самом описании время отнюдь не идет вперед, а расщепляется, чтобы вместить совокупность одновременных действий. Вот закончилась игра в карты. Повествователь, стоя возле стола, за которым велась игра, продолжает беседу с хозяйкой (по большей части безмолвную). Пора прощаться, но прощание дается молодому человеку тяжело – как и рассказ о прощании:
Я посмотрел на часы и встал. <…> Хотелось ли ей кончить этот милый для меня разговор, или посмотреть, как я откажусь, и знать, откажусь ли я, или просто еще играть, но она посмотрела на цифры, написанные на столе, провела мелком по столу, нарисовала какую-то, не определенную ни математикой, ни живописью фигуру, посмотрела на мужа, потом между им и мной. «Давайте еще играть 3 роберта». Я так был погружен в рассматривание не этих движений, но всего, что называется charme, который описать нельзя, что мое воображение было очень далеко и [неразборчиво] не поспело, чтобы облечь слова мои в форму удачную; я просто сказал «нет, не могу». Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться, – т. е. не весь я, а одна какая-то частица меня. – Нет ни одного поступка, который не осудила бы какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу: что за беда, что ты ляжешь после 12, а знаешь ли ты, что будет у тебя другой такой удачный вечер? – Должно быть, эта частица говорила очень красноречиво и убедительно (хотя я не умею передать), потому что я испугался и стал искать доводов. – Во-первых, удовольствия большого нет, сказал я себе: тебе она вовсе не нравится и ты в неловком положении; потом, ты уже сказал, что не можешь, и ты потерял во мнении…
– Comme il est aimable, ce jeune homme.
Эта фраза, которая последовала сейчас за моей, прервала мои размышления. – Я стал извиняться, что не могу, но так как для этого не нужно думать, я продолжал рассуждать сам с собой: Как я люблю, что она называет меня в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я любил бы и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко меня звать по имени, по фамилии, и по титулу. Неужели это от того, что я…… – «Останься ужинать», сказал муж. – Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости (1: 282–283).
Этот рассказ, хотя и переданный в прошедшем времени, по памяти, близок к непосредственной записи переживаемого – он стремится быть чем-то вроде стенографического отчета о сознании человека, наблюдающего себя самого.
Можно сказать, что это поток сознания в присутствии наблюдателя.
Как внешний наблюдатель автор может только догадываться о том, что происходит в сознании его героя. Однако как историк самого себя, описывающий «задушевную сторону жизни одного дня», автор сталкивается с другой трудностью – передачей множественности внутреннего мира: расхождением между речью, мыслью и движениями тела, амбивалентностью желаний и той диалектической драмой, которая стоит за мотивами поступков. Еще одно осложнение – это расслоение «я» на героя и повествователя, действующих в разное время. К тому же повествователь занят не только рассказом о событиях своей жизни, но и рассуждениями о самом процессе повествования, а также об общих проблемах историографии собственной личности. (А повествователь «Истории вчерашнего дня» занят этим даже тогда, когда спит.) И он то и дело сетует на то, что не все можно выразить словами. Можно ли передать такую множественность в повествовании?
21
«История вчерашнего дня» впервые опубликована в 90-томном собрании сочинений (1935) с комментарием А. Е. Грузинского (1: 341–343). Одним из первых обратил внимание на этот текст Виктор Шкловский, считавший его значительным для Толстого. См.: Шкловский В. «История вчерашнего дня» в общем ходе трудовых дней писателя Толстого // Он же. Художественная проза: размышления и разборы. М.: Советский писатель, 1959. С. 421–425; Шкловский В. Лев Толстой. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 75.
22
Метафора книги жизни имеет широкое хождение в европейской культуре. См. об этом: Curtius E. R. Das Buch als Symbol // Idem. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter [1948]. Auflage 11. Bern: Francke Verlag, 1993; Blumenberg H. Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt am Main: Surkamp, 1981. Об использовании этой метафоры Толстым речь пойдет в Главе 6 настоящей книги.
23
Вступления, предисловия и варианты начала «Войны и мира» (не датировано) (13: 53–55). Об этих аспектах истории создания романа писал Эйхенбаум в книге «Лев Толстой: шестидесятые годы»; см.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 460–461.