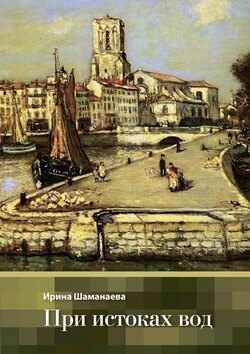Читать книгу При истоках вод - Ирина Шаманаева - Страница 4
Глава третья
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Оглавление– Смотреть или на меня, или в книгу. Слушать, что я говорю. Открывать рот, только когда велю. Кто отвлекается и болтает на уроке – тот получает линейкой по пальцам. Все понятно? – Господин Блондо покачнулся, глотнул из большой фляги и устало, хотя было еще утро, закрыл глаза. Но когда Фредерик молча ему кивнул, учитель приоткрыл правый глаз, так что вышло очень похоже на подмигивание. – А теперь приступим к занятию. Вот тебе «Басни» Лафонтена. Открывай первую. Что там у нас?
– «Ворона и Лисица», господин учитель.
– Мы разберем на ее примере сразу несколько грамматических явлений и выучим новые слова. Сначала я буду читать, а ты – следить. Потом твоя очередь. Пока ты читаешь в первый раз, можешь ошибаться, спотыкаться, врать напропалую, и я не назову тебя тупицей, а буду терпеливо поправлять. Можешь задавать мне любые вопросы, и я на них отвечу. На второй раз ты имеешь право сделать не больше пяти ошибок и задать не больше трех вопросов. Ну а на третий раз ты мне прочтешь эту басню идеально, и значение любого слова, на которое я тебе покажу указкой, объяснишь правильно. Господин пастор, переведите, чтобы он понял все до последней точки и запятой.
Жан-Мишель перевел.
– Понял? – Фредерик опять кивнул. – А если ты не справишься…
– Тогда линейкой?..
– За еще один самовольный выкрик с места – непременно.
– Простите, господин учитель.
– Так-то лучше. Нет, линейка только за нарушение дисциплины. За тупость у меня другое наказание. Если ты превысишь разрешенное количество ошибок на втором чтении и хотя бы раз ошибешься на третьем, то к оговоренной плате за урок прибавится еще несколько сантимов – по сантиму за каждый раз, когда ты оплошал. А со своим отцом потом разбирайтесь как знаете: лишит он тебя карманных денег или сэкономит на твоих походах в кондитерскую, мне наплевать. – И господин Блондо опять потянулся за флягой.
Пастор Декарт удивленно посмотрел на учителя, который проводил первый урок с его сыном, – не забыл ли он, случайно, что отец, о котором он так небрежно говорит в третьем лице, тоже сидит в этой комнате? Но на равнодушном испитом лице ничего не отразилось. Жан-Мишель решил пока не вмешиваться. Что бы ни придумал этот странный человек, главное, чтобы он знал свое дело. А педагогическую хватку Блондо, очевидно, имел. Жан-Мишель сам начал свою карьеру в Ла-Рошели с преподавания в воскресной школе и по вечерам давал неуспевающим лицеистам частные уроки латыни – и не так давно возобновил эти занятия, потому что на пасторское жалованье нельзя было оплачивать услуги домашнего учителя, даже совершенно опустившегося, такого как Блондо. Словом, пастор мог отличить плохого педагога, которым будут помыкать все кому не лень, от хорошего, того, кто крепко возьмет ребенка за руку и поведет туда, куда нужно.
Для Фредерика потянулись дни, наполненные правилами, спряжениями, пересказами, переписываниями текстов, длинными столбцами новых слов, которые нужно было учить наизусть к каждому занятию. Пастор Декарт условился с господином Блондо, что он будет заниматься с Фредериком по четыре часа каждый день, исключая воскресенья и праздники. Занятия не должны будут прерываться и на лето, разве что можно будет сделать их пореже – не каждый день, а, скажем, по понедельникам и четвергам.
– Не знаю, господин пастор, – скептически хмыкнул господин Блондо, – хватит ли этого времени, чтобы подготовить вашего сына к школе. Он не знает почти ничего, и произношение у него такое, что я вам обещаю – в школе ему придется сидеть за последней партой вместе с черномазыми.
Жан-Мишель пока не имел достаточно аргументов для спора, хотя был уверен, что Блондо преувеличивает, чтобы продлить свой контракт. Да, Фредерик пока еще неважно говорит по-французски, но он учится и старается, и его прогресс очевиден – чего не скажешь о черных и цветных ребятишках из портового квартала, чьи семьи приехали с Антильских островов и обосновались в Ла-Рошели уже не в первом поколении, да так с тех пор и живут в невежестве и нищете. Кого-то из них, бывших рабов, привезли во Францию хозяева, а кто-то, особенно цветные, в начале века сами бежали с острова Сан-Доминго, спасаясь от революции и развязанной чернокожими резни9. Жан-Мишель знал, что еще каких-то сорок-пятьдесят лет назад здешним купцам принадлежали крупные плантации сахарного тростника на Сан-Доминго, и его это удручало, это была та страница истории Ла-Рошели, которую он предпочел бы, не глядя, перелистнуть. Он был воспитан матерью и дедом, профессором Сарториусом, в отвращении к рабству, и ему было неприятно думать, что деды и прадеды многих его здешних друзей тоже владели рабами. Хорошо, что его собственные французские предки бежали отсюда еще до начала масштабной работорговли, да и в любом случае были слишком небогаты для этого.
– Доживем до лета – посмотрим, – дипломатично ответил пастор господину Блондо, возвращаясь из прошлого в настоящее.
Тот смерил своего нанимателя живым и цепким взглядом, неожиданным для спившегося человека.
– Хотите быстрее – работайте сами.
– Как это понимать? Вы отказываетесь от уроков?
– Нет. – Господин Блондо явно получал удовольствие от напряжения, в котором он держал своего собеседника. – Но каждый день в тот самый час, когда я заканчиваю делать свое дело, вы, господин пастор, должны начинать делать свое. Верните ребенку родной язык, черт вас всех побери! Помогите мне его из него вытащить! Я один всю Францию ему не заменю. Выпустите его из этой комнаты с закрытыми ставнями! Вам не приходило в голову, что уличные игры с приятелями дадут ему не меньше, чем Лафонтен? – Учитель скрестил руки на груди, шумно почесал у себя под мышками. И добавил, наслаждаясь озадаченным видом пастора: – А может быть, и больше.
Амели с первого взгляда возненавидела Блондо. Она, конечно, сознавала, что больше половины этой неприязни предназначается Жану-Мишелю, и она не адресует свои нехристианские чувства мужу напрямую только ради спокойствия семейного очага. Но даже если бы Блондо оказался прилично одетым, вежливым и обходительным господином, он все равно едва ли добился бы у нее симпатии. А этот субъект был просто невыносим. Когда он появлялся в доме, Амели отворачивалась и деликатно прикрывала нос оборкой чепца, однако ее чуткие ноздри все равно обоняли запах давно не стиранной одежды и кислой отрыжки вчерашней выпивкой. За вечно мокрые и грязные следы от его башмаков, которые тянулись из прихожей в кабинет пастора и в библиотеку, превращенную в классную комнату, мадам Декарт хотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Но больше всего учитель был ей неприятен своим апломбом. Даже совершенно опустившийся, грязный, вечно пьяный или с похмелья, он отказывался вести себя как человек, которому сделали великое одолжение, и держался в доме Декартов прямо-таки с королевской надменностью, позволяя себе насмехаться над хозяйкой, быть запанибрата с хозяином и штрафовать своего ученика за немецкие слова. Пасторша терпела его только потому, что жалованье он запросил по сравнению с другими частными учителями довольно скромное, меньше, во всяком случае, чем брал за свои уроки латыни сам Жан-Мишель. Все-таки понимает, что в другие приличные дома его не пустили бы дальше передней!
Жан-Мишель утверждал, что господин Блондо прекрасный педагог, и что платить за ошибки Фредерика ему теперь приходится все реже и меньше – позавчера он добавил к обычной плате за урок всего десяток сантимов, а ведь мальчик весь урок занимался тем, что пересказывал учителю по-французски свои любимые немецкие сказки. И сделал так мало ошибок! «За тебя на его месте мне пришлось бы выложить целый луидор», – полушутя-полусерьезно упрекнул он жену. Амели не поддержала разговор. Она предпочитала делать вид, что никакого Блондо в жизни их семьи не существует.
Когда у Фредерика заканчивался урок французского, из школы приходила Мюриэль. Блондо уходил, дети с матерью, если сам Жан-Мишель в это время был в церкви или в музее, садились за обед, а потом наступало время немецкого языка. Роль классной комнаты на этот раз выполняла гостиная, Амели брезговала заходить в библиотеку после господина Блондо. И еще два часа мать занималась с детьми, точнее, они по очереди читали книги, которые регулярно появлялись в доме благодаря заботам бабушки Фритци. Мюриэль со временем разлюбила эти занятия, ее увлекла французская школа, ей хотелось играть с новыми подругами, а не сидеть над скучными книжками и перечислять матери формы немецких неправильных глаголов. Кроме как с матерью, ей не с кем было говорить по-немецки, и смысла в этой унылой зубрежке она больше не видела. Амели говорила, что в августе, когда отцу дадут отпуск и на полтора месяца его заменит другой пастор, они все вместе поедут в Потсдам и навестят всех родственников, и Шендельсов, и Картенов. И что с того? Дедушка Мишель, дядя Райнер, тетя Адель, бабушка Фритци – все они могут говорить и по-французски, а что до дедушки Фридриха и дяди Карла-Антона, с которыми девочка не была знакома, то судя по тому, что до сих пор они никак не проявили себя в ее жизни, может, с ними и разговаривать не обязательно!
Особенно трудно стало удерживать детей в «классной комнате» с приходом настоящей весны. Даже Фредерик, вообще-то на редкость прилежный мальчик, что нехотя признавал даже его наставник, все больше витал в облаках. За окнами носились стрижи, горланили чайки, ветер приносил сюда, на север города, в квартал коллежа, школ и монашеских конгрегаций, запах моря и звал к настоящей жизни, о которой невозможно было узнать из сказок Гофмана. И Мюриэль, и Фред гораздо охотнее побегали бы по высокой и узкой крепостной стене в Старом порту, поглазели бы на иностранные корабли, поиграли на пляже!
Мать пыталась быть строгой, но и она была бессильна перед солнцем и морем, перед свободой, которую обещали совсем уже близкие школьные каникулы. Однако не в ее характере было сдаваться так быстро. Она заканчивала урок немецкого языка и открывала крышку своего нового маленького клавесина. Это был пасхальный подарок Жана-Мишеля. Пастор не говорил прямо, что купил клавесин в знак извинения перед женой за то, что нанял Блондо, подразумевалось, что инструмент необходим Амели, чтобы учить детей музыке. Мюриэль чуть-чуть оживлялась. Фредерик, наоборот, еще больше сникал. После мучительного часа, посвященного гаммам и экзерсисам, мать раскрывала ноты песенного цикла Карла Лёве на стихи Фридриха Рюккерта и пела под собственный аккомпанемент:
O süße Mutter,
Ich kann nicht spinnen,
Ich kann nicht sitzen
Im Stüblein innen,
Im engen Haus.
Es stockt das Rädchen,
Es reißt das Fädchen,
O süße Mutter,
Ich muß hinaus!
И песня о девушке, которая не может спокойно усидеть дома за прялкой и просит «милую мать» отпустить ее из тесной комнаты на волю, потому что там, на улице, бурлит и сияет весна, наконец-то заставляла Амели догадаться, что ее дети чувствуют то же самое. Она со вздохом закрывала клавесин и звонила в колокольчик. Новая служанка, мадам Робине, вдова лет шестидесяти пяти, являлась, шаркая ногами, выслушивала распоряжения хозяйки и через полчаса накрывала в столовой полдник для детей, где, правда, кроме жидкого кофе и оставшегося от завтрака и обеда сухого хлеба больше ничего не было. Мюриэль и Фредерик были рады и этому. Главное, что после полдника мать отправляла их переодеться в приличную одежду, сама надевала шляпку и летнее пальто в талию, и они выходили на улицу Вильнев.
– Куда пойдем – вверх, вниз или направо? – спрашивала Амели.
«Вверх» – означало к Ботаническому саду и особняку де ла Трамбле, больше известному как Губернаторский отель. До революции в этом большом красивом доме располагалась резиденция королевского наместника, ведавшего делами Шаранты. В Ботаническом саду было красиво, но заняться там было особо нечем – детям ни поиграть, ни побегать, да еще в любой момент можно было столкнуться с кем-нибудь из друзей Жана-Мишеля или с ним самим. С тех пор как в одном крыле особняка Трамбле открыли музей естественной истории и перенесли туда «кабинет редкостей» Лафая и остальные коллекции из мэрии, а в другом разместили библиотеку, все натуралисты города ходили туда как на службу. Мадам Декарт была не рада их видеть, хотя они всегда раскланивались с ней и обменивались вежливым «как поживаете?», а старый доктор Шарль-Мари Дессалин д’Орбиньи, отец большого семейства и дедушка многочисленных внуков, каждый раз ласково трепал по голове Фреда и говорил милые шутливые комплименты Мюриэль. А потом он лез в карман сюртука и доставал пригоршню теплых, прилипших к своим оберткам сладко-соленых карамелек. Амели не могла запретить ему одаривать детей конфетами, но могла запретить детям их брать, так что мальчик и девочка старательно отводили глаза и скучными голосами отвечали: «Спасибо, мсье, мы не голодны». Доктор качал головой и уходил, думая про себя, что протестанты, даже лучшие из них, все-таки странные люди.
Сладости в доме пастора Декарта позволялись детям только по праздникам. Амели считала, что есть их чаще, во-первых, неблагочестиво (разве чревоугодие не является теми воротами, через которые в этот мир незаметнее и проще всего проникает дьявол?), а во-вторых, вредно для детских зубов. Ей не хотелось обижать доктора, она помнила то, что ей рассказал Жан-Мишель – как во время страшной холеры 1832 года Шарль-Мари д’Орбиньи в собственном доме открыл лазарет для холерных больных. Вместе с женой Марианной они принимали и выхаживали всех, от кого отказались врачи и сестры в муниципальных и частных больницах. И потом не трезвонили об этом направо и налево – о самоотверженности супругов д’Орбиньи стало известно только несколько лет спустя, когда один из их пациентов написал об этом в газету «Эхо Ла-Рошели». Амели соглашалась, что уважением всего города старый врач пользуется по праву. Но это не повод позволять, чтобы в воспитание ее детей вмешивались католики!
К счастью, Фред и Мюриэль редко предлагали идти «вверх», предпочитали пути, которые вели «вниз» или «направо». Тогда они либо коротким путем спускались к набережной Мобек, а оттуда уже направлялись к башням и укреплениям, либо их дорога на пляж Конкюранс пролегала по нарядным улицам Амло – с роскошным особняком Бернонов, Мерсье – с аркадами, под которыми были не страшны ни дождь, ни ветер, ни летний зной, Домпьер – с «отелем Флерио», или, чаще всего, Августинцев – с католическим монастырем, старинной аптекой и прекрасным, как итальянские маленькие палаццо, домом первого в истории Ла-Рошели мэра-протестанта Франсуа Понтара, называемым еще «домом Генриха Второго». Затем по улице Пале, Дворцовой, названной так в честь Дворца Правосудия, Амели с детьми спускалась к улице Шеф-де-Виль, пересекала ее и попадала на площадь за аркой Часовой башни, не очень большую, но изящную и соразмерную, с пышными балконами в стиле ла-рошельского Ренессанса. Встреченные знакомые раскланивались с мадам Декарт и улыбались ее детям. Она, почти всегда занятая своими мыслями, не сразу замечала приветствия и порой отвечала на поклон слишком поздно, когда прохожий уже отворачивался и шел своей дорогой. Так что репутация женщины холодной и надменной, которая за эти годы приклеилась к мадам Декарт, была все-таки ею не очень заслужена.
Если они шли по улице Домпьер, особняк Луи-Бенжамена Флерио де Бельвю Амели старалась миновать как можно быстрее, хотя дети вечно засыпали ее вопросами об этом доме за высокими воротами и об его хозяине. Их отец, конечно, заронил в них этот интерес, больше некому. Амели саму интриговала личность господина Флерио де Бельвю, хоть она и не любила его и почему-то считала, что это он настроил против нее Жана-Мишеля. Никаких определенных оснований так думать у нее не было. Просто ей казалось, что человек, полностью посвятивший себя науке, должен не одобрять тех молодых друзей и соратников, которые понапрасну расточают себя на жен и детей. Жан-Мишель всегда так им восхищался, так его превозносил! Амели подозревала, что неспроста именно его, а не милейшего старого доктора Шарля-Мари д’Орбиньи он считал образцом для подражания.
Иногда Амели силилась представить, как Флерио де Бельвю столько лет живет один в этих огромных гулких комнатах. Его мать умерла больше тридцати лет назад, отец и старший брат – еще раньше. Слуги не считаются, это не семья. Изредка к нему приезжает из Парижа племянник, отставной морской офицер, с женой и сыном, но надолго младшие Флерио здесь не задерживаются – чего они позабыли в этой глуши? Других родственников у него, кажется, не осталось. Очевидно, племянник и унаследует огромное состояние, которое заработал на торговле сахаром с острова Сан-Доминго и солью с острова Ре отец господина Флерио, ловкий авантюрист, удачливый торговец и плантатор. Точнее, унаследует то, что останется от этого состояния. Амели знала от Жана-Мишеля, что Луи-Бенжамен Флерио де Бельвю считает богатство своей семьи нажитым не слишком праведным путем и на себя его почти не тратит, только на свои научные дела. Зато щедро отчисляет деньги на музей, госпиталь, школу, на протестантскую церковь, к которой сам принадлежит, на академию и театр, на помощь бедным, на благоустройство улиц и набережных… Амели не догадывалась, что Жан-Мишель потому и уважал его больше других – просто с ним он чувствовал более тесное родство за эту его деятельную любовь к Ла-Рошели.
Размышляя о судьбе Флерио, мадам Декарт невольно вспоминала и своего свекра Мишеля Картена, совсем, по слухам, замуровавшего себя в старом доме на Кенигин-Луизенштрасе в Потсдаме. Раз в неделю ездит в Берлин и читает лекции по реформатской теологии в университете, раз в неделю служит в церкви, а все свободное время за закрытыми дверями пишет трактат «О христианском воспитании». Вспомнила она его и на этот раз. Странно, конечно, что она сравнивает этих людей. Общего между ними только то, что они французы и реформаты. Флерио лет на двадцать старше профессора Картена, а главное, он уж точно не затворник. Жан-Мишель говорил, что его почти невозможно застать дома. То он заседает в мэрии, то в префектуре, то работает в одном из многочисленных научных обществ (два из них он сам создал и возглавил). Если же его ничего другое не отвлекает, то уезжает на маленький остров Экс – нашел там какой-то окаменелый подводный лес у побережья, и очевидцы говорят, при низком отливе можно даже подойти к нему и достать из воды то, что тысячи лет назад было стволами и ветками.
Пастор Декарт совсем недавно рассказал об этом лесе Фреду и Мюриэль. У них заблестели глаза. «Папа, а можно нам его увидеть? Папа, а можно нам его потрогать?» Жан-Мишель засмеялся и сказал, что если они представляют себе настоящий лес, с листьями или хвоей, которые шевелит морское течение, а между ветвей вместо птиц мелькают большие и маленькие рыбки, то они будут разочарованы, потому что ископаемые деревья, пролежавшие столько лет в морской воде, стали похожи просто на бурые камни. Отец назвал эти камни непонятными и скучными словами: «бурый уголь», «кремнезем». Но дети все равно не унимались, и отец пообещал, что летом, перед тем как ехать в Потсдам, он возьмет их на остров Экс, в настоящую научную экспедицию.
– Добрый день, мадам. Как вы поживаете?
Амели вздрогнула. Перед ней стоял сам Флерио. Вышел из ворот своего дома, как раз когда они проходили по улице Домпьер. Мадам Декарт даже не узнала его в первую секунду, потому что привыкла видеть его в черном фраке с орденской звездой по каким-нибудь торжественным поводам – в церкви, например, или на праздничных заседаниях Общества естественной истории и Библейского общества, куда члены этих обществ приходили с женами, а вместо чтения ученых докладов там говорили поздравительные речи и подавали скромное угощение и вино. Сегодня на Луи-Бенжамене был легкий светло-коричневый сюртук, шею обвивал белый шелковый платок. Флерио выглядел моложе своих лет, настроение у него по какой-то причине было превосходное, и он вызывал у Амели меньше робости, чем обычно.
– Благодарю, мсье, у нас все хорошо, – сказала она. – А у вас?
– Все в порядке, спасибо, – ответил Флерио и пошел рядом с ней и детьми. Он шагал так быстро и легко, что это Амели пришлось ускорить свои шаги, несмотря на пятидесятилетнюю разницу в возрасте между ними. – Направляетесь к морю?
– Да, мсье, мы спустимся на пляж, погода сегодня превосходная.
– Тогда нам по пути до улицы Шодрие и даже немного дальше. Я иду в префектуру за необходимыми мне справками из департаментского архива. Не стал бы навязывать свое общество, мадам, но кое-что меня извиняет: мне хочется вам первой рассказать новость, которая должна вам понравиться.
Каждый раз, когда Амели видела Флерио в обществе, вид у него был очень серьезный и даже неприступный. Но сегодня его небольшие живые темно-карие глаза глядели на нее почти весело. Он щурился от яркого солнца – не как небожитель, а как обычный человек. И поскольку Амели молчала и ждала, что он еще скажет, он заговорил снова:
– Я только вчера вернулся из Парижа и нашел на письменном столе среди почты приглашение на внеочередное заседание Филоматического общества Ла-Рошели. Оно собиралось тем же вечером, а я, к счастью, приехал днем, и поэтому успел на нем побывать. Его председатель, господин де Руасси, говорил о том, что до сих пор в нашем городе уделялось непростительно мало внимания тому из искусств, которое стоит ближе других к Божественному началу, – то есть музыке. Заседание прошло в обстановке редкого единодушия между нами и закончилось тем, что все присутствующие вступили в новое, только что образованное Филармоническое общество. Разумеется, к нему могут присоединиться и те, кто не является членами Филоматического общества. Уверен, что пастор Декарт…
– И что это будет означать для города и для всех любителей музыки в Ла-Рошели? – нетерпеливо перебила его Амели.
– У города будет концертный зал, мадам, в нем будут проходить концерты, – немного удивился Флерио. – Мы объявим подписку и соберем средства, чтобы купить необходимые инструменты, арендуем для музыкальных представлений подходящий зал, к примеру, театральный, будем приглашать лучших певцов и музыкантов, а со временем в Ла-Рошели появится и свой оркестр. Неужели вы не рады? Ваш супруг однажды мне сказал, что вы знаете и любите музыку и сами хорошо играете.
– О, конечно, я рада, – попыталась изобразить оживление Амели.
– Вы не верите, что это произойдет достаточно быстро? – проницательно взглянул на нее Флерио. – В Обществе хватает таких стариков, как я. Мы понимаем, что у нас немного времени, и постараемся не затягивать дело, чтобы после нас оно не заглохло. Я думаю, наш концертный зал откроется к Рождеству.
Концертный зал!.. Как давно она не слышала по-настоящему великой музыки – Баха, Генделя, Глюка, Гайдна… Перед ее взглядом возник потсдамский королевский театр, она вспомнила вишневый бархат кресел, белую лепнину и сусальную позолоту на стенах, мерцающий свет люстры на тысячу свечей, благоговейное молчание, которая нарушалось только сухим потрескиванием вееров в руках у дам в тяжелых бархатных платьях да приглушенным покашливанием стариков в латаных фраках. Потом и эти звуки стихали, и в полнейшей тишине в зал падали первые аккорды увертюры, от которых сердце сжималось, падало куда-то и снова взлетало выше сводов театра, выше шпиля, венчающего купол, к солнцу и облакам!.. Уехав из Потсдама, она больше ни разу не испытала ничего подобного.
Здесь, конечно же, будет по-другому. Разве все эти здешние торговцы, которые разбираются лишь в сортах вина и умеют только считать деньги (Амели была готова признать, что это у них, по крайней мере, получается) могут подняться на высоты и заглянуть в бездны, которые подвластны лишь германскому музыкальному гению? Нет, даже и стараться не будут. Они станут исполнять и слушать свои французские бездумные оперетки, которые помогут им на один вечер отвлечься от бухгалтерии с цифрами. А потом отправятся в ресторан, будут пить вино, которое сами же продают, есть устрицы и самодовольно обсуждать увиденное в святом убеждении, что они просвещенные и культурные люди. Пожалуй, Амели готова была согласиться с мадам Адмиро, женой префекта, которая давным-давно ей сказала: «Музыки достаточно и в церкви, милочка».
Флерио искоса на нее посмотрел и перевел разговор на другое.
– Это и есть тот мальчик, которого я подержал на руках в день, когда его крестили? Очень вырос и, по-моему, вылитый отец. И его сестра уже настоящая юная барышня.
Мать незаметно ущипнула Фредерика и Мюриэль. Они одновременно поклонились, будто марионетки. Мальчик насупился, он терпеть не мог, когда в его присутствии о нем говорили в третьем лице. Флерио так вел себя от застенчивости, а не по какой-то другой причине, рядом с маленькими детьми он робел еще сильнее, чем в присутствии женщин, но Фредерик, разумеется, не мог этого знать. А мать тем временем рассказала, что он готовится к поступлению в школу. Флерио заговорил о Гизо, министре образования в правительстве его величества короля Луи-Филиппа. Стараниями этого Гизо во Франции появились доступные начальные школы. Вот и в Ла-Рошели теперь открылись две новые. Старый ученый заметил, что считает министра замечательным человеком не только потому, что он протестант. Он просветитель, убежденный в облагораживающей миссии образования и науки. По мнению Гизо, провинциальные общества, созданные для накопления знаний по различным областям науки – те зерна, из которых взойдут ростки нового, просвещенного мышления. Сам Гизо тоже ученый, прекрасный историк и писатель, и ему, Флерио, немного жаль, что он не получил хорошей подготовки в области изящной словесности и не может должным образом оценить его литературный стиль и научные идеи.
9
Речь идет о событиях, связанных с восстанием чернокожего населения во французской колонии на Сан-Доминго и с провозглашением в 1804 году независимой республики Гаити. Революция сопровождалась массовой резней белого и цветного населения.