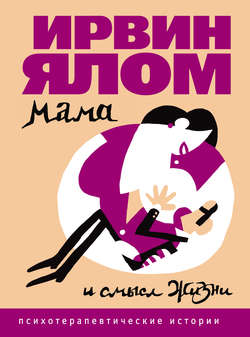Читать книгу Мама и смысл жизни. Психотерапевтические истории - Ирвин Ялом - Страница 5
Cтранствия с Полой
ОглавлениеКогда я был студентом-медиком, меня учили высокому искусству – смотреть, слушать, прикасаться. Я смотрел на алые гортани, выпирающие барабанные перепонки, змейки кровавых ручейков в сетчатке глаза. Слушал шипение сердечных шумов, бульканье труб кишечника, какофонию респираторных хрипов. Ощущал скользкие края печени и селезенки, упругость кист яичника, мраморную твердость рака простаты.
В университете меня учили изучать пациентов. А вот учиться у пациентов я стал гораздо позже, на другой стадии своего образования. Возможно, это началось с моего профессора, Джона Уайтхорна, который часто говорил: «Слушайте своих пациентов; учитесь у них. Чтобы поумнеть, нужно вечно учиться». И он имел в виду больше, чем банальную истину, что хороший слушатель узнает о пациенте гораздо больше. Он в буквальном смысле предписывал нам учиться у пациентов.
Джон Уайтхорн – чопорный, неуклюжий, вежливый, с блестящей лысиной, окаймленной коротко стриженным полумесяцем седых волос, – тридцать лет руководил факультетом психиатрии университета Джонса Хопкинса и делал это безупречно. Он носил очки в золотой оправе, и у него не было ни одной лишней черты – ни одной морщинки: ни на лице, ни на коричневом костюме, в котором он ходил каждый день (мы подозревали, что у него в гардеробе два или три одинаковых костюма). Лишней мимики и жестов у него тоже не было. Когда он читал лекцию, двигались только его губы, все остальное – руки, щеки, брови – оставалось удивительно неподвижным.
На третьем году моей ординатуры в психиатрической клинике мы – я и пять моих однокурсников – каждый четверг во второй половине дня делали обход вместе с профессором Уайтхорном. А до этого мы обедали у него в кабинете, отделанном дубовыми панелями. Еда была простая и всегда одна и та же – сэндвичи с тунцом, мясной нарезкой и холодными крабовыми котлетками, за ними следовал фруктовый салат и пекановый пирог, – но подавалась она всегда с южной элегантностью: льняная скатерть, сверкающие серебряные подносы, английский тонкостенный фарфор. За обедом мы долго и неспешно беседовали. Хотя нам всем нужно было делать обходы, хотя пациенты требовали неотложного внимания, поторопить доктора Уайтхорна нам не удавалось, и в конце концов даже я, самый гиперактивный изо всей группы, научился говорить времени «подожди».
В эти два часа мы могли задавать профессору любые вопросы. Помню, я спрашивал его о таких вещах, как происхождение паранойи, ответственность врача за самоубийство пациента, несоответствие между возможной излечимостью пациента в результате терапии и спущенной сверху предопределенностью. Профессор отвечал подробно, но не скрывал, что предпочитает другие темы: меткость персидских лучников, достоинства и недостатки греческого и испанского мраморов, грубые промахи, допущенные в битве при Геттисберге, усовершенствованная самим профессором периодическая таблица элементов (по первому образованию он был химик).
После обеда д-р Уайтхорн принимал в том же кабинете четырех или пятерых своих пациентов, а мы молча наблюдали. Невозможно было заранее предсказать, насколько затянется каждая беседа. Иные длились пятнадцать минут, другие продолжались – два-три часа. Ясней всего я помню летние месяцы, прохладный затемненный кабинет, оранжевые и зеленые полосы на парусине тента, закрывающего свирепое балтиморское солнце, опоры тента, обвитые магнолией, мохнатые цветки которой свисали прямо за окном. Из углового окна можно было разглядеть край теннисного корта для сотрудников клиники. У меня ныло под ложечкой, так мне хотелось поиграть. Я ерзал, представляя себе подачи и удары с лета, а тени на корте все росли и росли. И лишь когда сумрак проглатывал последние полосы корта, я оставлял надежду поиграть и полностью переключался на беседу д-ра Уайтхорна с пациентами.
Он не торопился. У него было много времени. Больше всего на свете его интересовали профессия и любимые занятия пациента. В один из четвергов воодушевленный вопросами профессора южноамериканский плантатор целый час рассказывал о кофейных деревьях, а через неделю это мог быть профессор истории, рассказывающий о гибели Великой Армады. Можно было подумать, что для доктора Уайтхорна нет важней задачи, чем понять взаимосвязь между высотой над уровнем моря и качеством кофейных бобов, или узнать, какая политическая подоплека шестнадцатого века стояла за Великой Армадой. Он так незаметно перемещался в личную сферу рассказчика, что я всегда изумлялся, когда пациент-параноик, подозревающий все и вся, вдруг начинал откровенно говорить о себе и своем психотическом мире.
Позволяя пациентам обучать его, доктор устанавливал контакт с личностью, а не с болезнью пациента. Его стратегия неизменно подкрепляла как самооценку пациента, так и его желание открыться.
Казалось бы, лукавый собеседник. И все же никакого лукавства. Не было двуличия и лживости: доктор Уайтхорн искренне желал учиться. Он был собирателем, и таким способом за многие годы накопил поразительное богатство любопытных фактов. «Вы только выиграете, и ваши пациенты тоже, – говорил он, – если вы позволите им достаточно долго рассказывать о своих жизнях, своих интересах. Узнайте, как они живут, – и вы не только приобретете новые знания, но в конце концов узнаете все, что нужно, об их болезни».
Через пятнадцать лет, в начале семидесятых – когда д-р Уайтхорн уже умер, а я стал профессором психиатрии – женщина по имени Пола, больная раком груди, вошла в мою жизнь, чтобы довершить мое образование.
Я убежден, что она с самого начала взяла на себя роль моей наставницы, хотя тогда я об этом не знал, а она этого никогда так и не признала.
Пола записалась на прием, узнав от социального работника онкологической клиники, что я хочу создать терапевтическую группу для неизлечимых пациентов. Когда Пола впервые вошла в мой кабинет, меня сразу поразила ее внешность: достоинство осанки, сияющая улыбка, которая заставила меня собраться, копна коротких, жизнерадостно-мальчишеских, ослепительно-белых волос, и что-то такое, что я могу назвать лишь сиянием, казалось, исходило от ее мудрых, жгуче-синих глаз.
Она приковала мое внимание первыми же словами.
– Меня зовут Пола Уэст, – сказала она. – У меня рак в терминальной стадии. Но я не раковая пациентка.
И действительно, на протяжении всего пути рядом с ней, в течение многих лет, я никогда не воспринимал ее как пациентку. Она продолжила коротко и точно описывать свою историю болезни: рак груди, обнаруженный пять лет назад; хирургическое удаление этой груди; рак другой груди, удаление и этой груди тоже. Затем химиотерапия со всем ужасным комплектом: тошнота, рвота, полная потеря волос. А потом лучевая терапия, до максимального уровня, до предела. Но ничто не могло остановить продвижение рака: в череп, позвоночник, глазницы. Рак Полы требовал пищи, и хотя хирурги все время швыряли ему жертвенные подношения – груди, лимфоузлы, яичники, надпочечники, – он был ненасытен.
Воображая себе обнаженное тело Полы, я видел грудную клетку, исполосованную шрамами, без грудей, без плоти, без мускулов, словно шпангоуты выброшенного на берег галеона, а ниже, под грудью, живот с рубцами от операций, и все это покоится на толстых, бесформенных, утолщенных стероидной терапией бедрах. Короче говоря, пятидесятипятилетняя женщина без грудей, надпочечников, яичников, матки и, я уверен, без либидо.
Мне всегда нравились женщины с упругими, грациозными телами, полной грудью и явной чувственностью. Но когда я встретил Полу, случилась удивительная вещь: я счел ее прекрасной и влюбился.
Мы встречались раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, на основании не отвечающего никаким нормам контракта. Сторонний наблюдатель мог бы назвать это психотерапией, потому что я записывал Полу к себе в журнал приема, а она садилась в кресло, предназначенное для пациентов, и проводила там ритуальные пятьдесят минут. И все же наши роли были размыты. Например, никогда не возникал вопрос об оплате. С самого начала я знал, что у нас не обычный терапевтический контракт между больным и врачом, и я никогда не спешил упоминать о деньгах в присутствии Полы: это было бы вульгарно. И не только о деньгах, но и о других столь же неделикатных темах – плотской жизни, адаптации в браке, светских отношениях.
Жизнь, смерть, духовность, покой, трансцендентность – вот о чем мы говорили. Это единственное, что заботило Полу. Больше всего мы говорили о смерти. Еженедельно в моем кабинете встречались не двое, а четверо: я, Пола и две смерти – ее и моя. Она стала для меня любовницей смерти, познакомила меня с ней, научила меня думать о ней и даже помогла с ней подружиться. Я начал понимать, что смерть была оболгана прессой. Понимать, что, хоть в смерти и мало радости, она вовсе не чудовищное зло, швыряющее нас в какое-то невообразимо ужасное место. Я научился демифологизировать смерть, дабы увидеть ее в истинном свете – как событие, как часть жизни, как конец дальнейших возможностей. «Это нейтральное событие, – говорила Пола, – а мы научились окрашивать его страхом».
Каждую неделю Пола входила в мой кабинет, вспыхивала широкой улыбкой, которую я обожал, тянулась к своей большой соломенной сумке, извлекала из нее дневник, клала его на колени и делилась со мной образами, размышлениями и снами прошедшей недели. Я вслушивался и пытался реагировать адекватно. Каждый раз, когда я выражал сомнения в том, что полезен ей, Пола озадачивалась, а потом через мгновение уже улыбалась, как бы ободряя меня, и вновь возвращалась к своему дневнику.
Вместе мы заново пережили всю ее схватку с раком: первоначальный шок и неверие, телесные увечья и постепенное приятие. Со временем она привыкла говорить: «У меня рак». Она рассказывала о том, как любовно ухаживали за ней муж и близкие друзья. Это я мог понять: ведь Полу трудно было не любить. (Конечно, я открылся ей в своей любви гораздо позже, но Пола мне не поверила.)
Потом она рассказывала об ужасных днях, когда рак возвращался. «Это мой путь на Голгофу, – говорила она, – а испытания, которые переживают все пациенты с рецидивами, – это остановки на крестном пути: кабинеты лучевой терапии, где над тобой нависает всевидящее око из страшного суда, безликий торопливый персонал, смущенные друзья, равнодушные доктора и самое страшное – оглушительная тишина секретности». Она плакала, рассказывая, как позвонила своему хирургу, который на протяжении двадцати лет был ее другом, и медсестра сообщила ей, что доктор больше ее не примет, потому что ничем не может помочь. «Что такое с врачами? Почему они не могут понять, насколько важно просто быть рядом? – спрашивала Пола. – Почему не осознают, что именно в момент, когда они уже ничего не могут сделать, они и нужны больше всего?»
Я узнал от Полы, что ужас перед смертельной болезнью многократно усиливается отчужденностью других людей. Дурацкий спектакль, исполняемый теми, кто пытается замаскировать приближение смерти, усугубляет изоляцию умирающего пациента. Но смерть нельзя спрятать, она обнаруживает себя повсюду: медсестры говорят приглушенными голосами, доктора во время обхода начинают уделять много внимания совсем другим частям тела, студенты-медики входят в палату на цыпочках, члены семьи героически улыбаются, посетители старательно изображают жизнерадостность. Одна раковая больная рассказала мне, что узнала о том, что скоро умрет, когда лечащий врач вдруг закончил ее осмотр не обычным игривым шлепком по попе, а теплым рукопожатием.
Много страшнее смерти для умирающего человека полная изоляция, которая сопровождает ее. Мы пытаемся идти по жизни парами, но умираем в одиночку – никто не может умереть вместе с нами или вместо нас. Живые избегают умирающих, отчуждаются от них, и это служит прообразом окончательной – смертельной – отчужденности и изоляции. «Есть два проявления предсмертной изоляции, – учила меня Пола. – Когда пациент отсекает себя от живущих, потому что не хочет втаскивать семью и друзей в свой собственный ужас, открывая им свои страхи или зловещие мысли. И когда друзья сторонятся умирающего, потому что чувствуют себя беспомощными, неловкими, не знают, что говорить и делать, боятся подойти слишком близко и увидеть предвестие собственной смерти».
Но изоляция Полы кончилась. Даже если я ей ничем не смогу помочь, уж верен ей я буду точно. Пусть другие ее покинули – я ее не покину. Как хорошо, что она меня нашла! Разве я мог знать, что настанет время, когда Пола сочтет меня своим Петром, многажды отрекшимся от нее?
Она не могла найти подходящих слов, чтобы описать горечь от переживания изоляции и одиночества, рассказать о периоде, который она часто называла своим Гефсиманским садом. Однажды она принесла мне литографию работы своей дочери, где несколько стилизованных силуэтов побивали камнями святую – крохотную, скорченную фигурку женщины, чьи тонкие руки не могли противостоять граду камней. Эта картина до сих пор висит у меня в кабинете, и каждый раз, глядя на нее, я вспоминаю слова Полы: «Я – эта женщина, бессильная предотвратить свою смерть».
Выбраться из Гефсиманского сада Поле помог священник епископальной церкви. Знакомый с мудрым афоризмом из «Антихриста» Ницше: «Тот, кто знает, ЗАЧЕМ жить, может вынести любое КАК», священник помог ей воспринять страдание по-другому. «Твой рак – это твой крест, – сказал он ей. – Твое страдание – это служение».
Эта формулировка – «божественное озарение», как назвала ее Пола, – все изменила. Пола рассказывала и о том, как научилась принимать свое служение, и о взятой на себя задаче – облегчать страдание людей, больных раком. И я начал понимать свою роль: это не Пола – объект моей работы, а я – объект ее работы, ее служения. Я мог ей помочь, но не поддержкой, не интерпретацией и даже не заботой или верностью. Моя роль заключалась в том, чтобы позволить себя учить.
Возможно ли, что человек, чьи дни сочтены, чье тело изъедено раком, может проживать «золотые дни»? Для Полы – возможно. Именно она открыла мне, что честное принятие смерти обогащает восприятие жизни, усиливает удовлетворение от нее. Я отнесся к этому скептически. Я подозревал, что значение слов о «золотых днях» преувеличено – типичные для Полы красивые слова о духовности.
– Золотые? В самом деле?! Пола, посуди сама, что «золотого» в умирании?
– Ирв, – укорила меня Пола, – это неправильный вопрос. Попробуй понять, что «золото» – не в умирании, а в том, чтобы жить полной жизнью перед лицом смерти. Подумай, как остры и драгоценны последние впечатления: последняя весна, последний полет пушинок одуванчика, последнее облетание лепестков глицинии. И еще, – говорила Пола, – золотой период – это время великого освобождения. Это время, когда ты можешь сказать «нет» всем этим банальным обязательствам и посвятить себя тому, что тебе дороже всего, – общению с друзьями, смене времен года, игре морских волн.
Пола резко критиковала работы Элизабет Кюблер-Росс, «верховной жрицы смерти» от медицины, которая, ничего не зная о золотой стадии, выработала негативистский клинический подход к смерти. Стадии умирания в формулировке Кюблер-Росс – отрицание, гнев, попытки «заключить сделку с судьбой», депрессия, принятие – каждый раз сердили Полу. Она настаивала, и я уверен в ее правоте, что такое жесткое разделение эмоциональных реакций на категории дегуманизирует и пациента, и врача.
Золотой период Полы был временем глубокого и напряженного изучения себя самой: ей снилось, что она бродит по огромным залам, что обнаруживает у себя в доме новые, ранее не используемые комнаты. И еще этот период был временем подготовки: ей снилось, что она убирает дом, от подвала до чердака, наводит порядок в письменных столах и шкафах. Она эффективно, заботливо подготавливала и своего мужа. Временами она чувствовала себя лучше и могла бы в это время ходить за покупками, готовить, но намеренно не делала этого, чтобы муж научился сам себя обслуживать. Однажды она рассказала мне, что очень гордится им, потому что он впервые сказал «когда я буду на пенсии» вместо «когда мы будем на пенсии». Во время таких разговоров я сидел с круглыми глазами и не верил своим ушам. Да правду ли она говорит? Может ли такая добродетель существовать вне диккенсовского мира, где живут Пеготти, крошка Доррит, Том Пинч и Боффины? В литературе по психиатрии редко обсуждается такая черта личности, как добродетель, разве что иногда ее называют защитой личности от темных низких импульсов, и сначала я сомневался в мотивах Полы и пытался незаметно нащупать бреши и вмятины в этой маске святости. Но ничего не найдя, я вынужден был заключить, что это не маска, прекратить поиски и погрузиться в источаемую Полой благодать.
Пола была уверена, что подготовка к смерти жизненно необходима и требует целенаправленного внимания. Узнав, что рак распространился на позвоночник, Пола подготовила тринадцатилетнего сына к своей смерти, написав ему письмо. Оно тронуло меня до слез. В последнем абзаце она говорила, что у человеческого зародыша легкие не дышат, а глаза не видят. Так эмбрион готовится к существованию, которое пока не может себе вообразить. «И мы тоже, – рассуждала она, – разве не готовимся к существованию, которое по ту сторону нашего познания, по ту сторону даже наших фантазий?»
Я никогда не понимал верующих людей. Сколько я себя помню, мне казалось очевидным, что религиозные системы создаются для утешения и успокоения тревог человеческой жизни. Однажды, лет в двенадцать или тринадцать, когда я работал в продуктовой лавке своего отца, я поделился своим скептицизмом с ветераном Второй мировой войны, только что вернувшимся с европейского фронта. В ответ он протянул мне мятую, выцветшую картинку с Девой Марией и Иисусом, которую всегда носил с собой во время боевых действий в Нормандии.
– Переверни, – сказал он. – Читай вслух.
– В окопах атеистов нет, – прочитал я.
– Верно! В окопах атеистов нет, – медленно повторил он, тыча в меня пальцем при каждом слове. – Христианский Бог, еврейский Бог, китайский Бог, какой угодно – но Бог! Клянусь Богом! Без него никак.
Мятая картинка, подаренная незнакомцем, заворожила меня. Она пережила Нормандию и неизвестно сколько еще разных битв. Может быть, подумал я, это знак, может быть, божественное провидение наконец меня нашло. Два года я носил эту картинку в бумажнике, время от времени доставал и размышлял над ней. А потом как-то раз спросил себя: «Ну и что? Что с того, что в окопах атеистов нет? В любом случае это подтверждает мою скептическую позицию: конечно, вера возрастает, когда увеличивается страх. В том-то и дело: страх порождает веру. Нам нужен Бог, мы хотим, чтобы он был, но, как бы сильно мы ни хотели, желание не станет действительностью. Вера, сколь угодно горячая, чистая, всепоглощающая, ничего не говорит о реальности существования Бога». На следующий день, зайдя в книжный магазин, я вытащил из бумажника теперь уже не обладающую для меня силой картинку и очень осторожно – она заслуживала уважения – вложил ее в книгу под названием «Спокойствие духа», в надежде, что, может быть, другой метущийся разум найдет ее и извлечет из нее больше пользы.
Хотя мысль о смерти давно наполняла меня ужасом, я научился предпочитать этот первобытный ужас некоторым верованиям, чья главная убедительность крылась в их полной абсурдности. Я всегда ненавидел непоколебимую формулировку «Верую, ибо абсурдно». Но, как терапевт, я держу подобные мысли при себе. Я знаю, что религиозная вера – мощный источник утешения, и никогда не пытаюсь разубедить людей, если не могу предложить взамен ничего лучшего.
Мой агностицизм трудно было пошатнуть. Ну, может быть, пару раз в школе во время утренней молитвы мне становилось не по себе при виде всех учителей и одноклассников, которые стояли со склоненными головами и что-то шептали, обращаясь к патриарху на небесах. «Неужели все, кроме меня, сумасшедшие?» – удивлялся я. А потом в газетах появились фотографии Франклина Делано Рузвельта, ходившего в церковь каждое воскресенье, – и это заставило меня задуматься, к верованиям Ф.Д.Р. нельзя было не относиться серьезно.
А как же убеждения Полы? Как же ее письмо к сыну, уверенность, что нас ждет цель, которую мы даже не можем предугадать? Фрейда развлекла бы метафора Полы, и с точки зрения религии я бы с ним полностью согласился. «Исполнение желаний в чистом виде, – сказал бы он. – Мы хотим быть, мы страшимся небытия и выдумываем приятные сказочки, в которых все наши желания исполняются. Ожидающая впереди неведомая цель, вечность души, рай, бессмертие, Бог, перевоплощение – все это иллюзии, призванные подсластить горечь смертности».
Пола всегда деликатно реагировала на мой скептицизм и мягко напоминала мне, что, какими бы невероятными ни казались мне ее взгляды, опровергнуть их я не могу. Несмотря на все свои сомнения, я любил метафоры Полы и слушал ее проповеди терпеливей, чем любые другие в своей жизни. Может быть, это был простой товарообмен – я отдавал уголок своего скептицизма за то, чтобы теснее прижаться к ее благодати. Временами я даже слышал из собственных уст фразочки типа «Кто знает?», «В конце концов, доказательств нет», «Разве мы когда-нибудь узнаем доподлинно?» Я завидовал ее сыну. Понимал ли он, как ему повезло? Как бы я хотел быть сыном такой матери.
Примерно в это время я пошел на похороны матери своего друга. Священник рассказал утешительную историю: «Люди собрались на берегу и печально машут, провожая уходящий корабль. Корабль уменьшается, скрывается вдали, виднеется только верхушка мачты. Когда и она исчезает, зрители бормочут: «Он ушел». Но в это самое время где-то далеко другая группа людей пристально глядит на горизонт и, завидев верхушку мачты, восклицает: «Он пришел!»
«Дурацкая басня», – фыркнул бы я до знакомства с Полой. Но теперь я стал снисходительней. Оглядев собравшихся на похоронах, я на мгновение ощутил единство с ними – мы были связаны иллюзией. У всех нас на душе стало светлей от мысли о корабле, который приближается к берегам новой жизни.
До встречи с Полой я первый готов был высмеивать чокнутых калифорнийцев. Чудачества «нью-эйдж» можно перечислять бесконечно: таро, «Книга перемен», массажи и йоги, реинкарнация, суфизм, контакт с духами, астрология, нумерология, иглоукалывание, сайентология, роль-финг, холотропное дыхание, терапия прошлых жизней. Люди всегда нуждались в этих умилительных верованиях, думал я раньше. Эти верования отвечают их глубинным стремлениям, и некоторые люди слишком слабы, чтобы без них обойтись. Бедные детишки, пусть утешаются своими сказочками! Но теперь я выражал свое мнение более деликатно. Теперь с моих губ сходили обтекаемые фразы: «Кто знает?», «Может быть!», «Жизнь сложна и непознаваема».
Несколько недель прошло с тех пор, как мы начали встречаться, и у нас с Полой начали рождаться конкретные планы по созданию группы для умирающих пациентов. Сейчас такие группы уже никого не удивят, о них часто рассказывают в журналах и по телевидению, но в 1973 году прецедентов не было: умирание подвергалось такой же цензуре, как порнография. Поэтому нам приходилось импровизировать на каждом шагу. Даже самое начало было огромным препятствием. Как собрать такую группу? Где искать участников? Не печатать же объявление в газете: «Разыскиваются умирающие»?!
Но обширная сеть знакомств Полы – в церкви, в больницах, клиниках и организациях по уходу за больными на дому – начала приносить потенциальных участников группы. Стэнфордское отделение почечного диализа направило к нам первого человека – Джима, девятнадцатилетнего юношу с тяжелым поражением почек. Он знал, что ему остается жить недолго, но совсем не жаждал познакомиться со смертью поближе. Джим старался не смотреть в глаза мне и Поле и, по правде говоря, вообще избегал любых форм контакта с кем бы то ни было. «Я человек без будущего, – говорил он. – Разве я гожусь в мужья или в друзья? Какой смысл говорить, выносить на поверхность боль отвержения? Я уже достаточно говорил. Меня достаточно много раз отвергали. Я и без людей прекрасно обхожусь». Мы с Полой видели его лишь дважды, на третью встречу он не пришел.