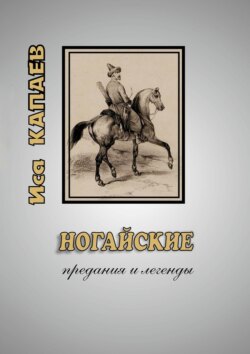Читать книгу Ногайские предания и легенды - Иса Капаев - Страница 2
Уплывающие тени
Повесть по мотивам ногайских
преданий
Череп
ОглавлениеЧереп хранился в мастерской моего друга – художника, который ничего не знал о его происхождении: достался он ему от студента графического факультета, приходящего поработать в его мастерской. Каким образом он попал к студенту – неизвестно, об этом они никогда не говорили: поработав две-три недели в этой мастерской, студент защитил диплом и уехал по распределению куда-то в Западную Сибирь. Череп остался у моего друга.
Каждый раз, приходя сюда, я пристально вглядывался в него. Он стоял на полке между книгами и репродукциями великих мастеров. Странное это было сочетание: Гоген, Рембрандт, Ван Гог, Павел Васильев, Петров-Водкин и среди них – этот безымянный череп. В этом странном сочетании я всё время старался усмотреть какой-то смысл, но не находил его. Мне всё казалось, что появление черепа в мастерской не случайно.
Стены мастерской были увешаны картинами моего друга, и я понимал, что он подражает тем самым мастерам, чьи репродукции стояли у него на полках, а самое главное, что это не было подражанием какому-то одному мастеру. В его картинах можно было найти характерные черты каждого: с миру по нитке. Поэтому-то картины и не волновали меня, а пробуждали лишь умозрительные заключения, таким же умозрительным образом они, по-видимому, и были созданы. В них прочитывался кругозор автора, и не больше. Быть может, я ошибался, кто знает, ведь среди посетителей мастерской я встречал и таких, кто восхищался картинами, и таких, кто сыпал комплименты только для того, чтобы не обидеть хозяина. Я тоже хвалил картины, потому как говорить напрямую считал бесполезным, да и не хотел обидеть друга – он был очень самолюбивым человеком… На его просьбы об искреннем отзыве отвечал согласием, но знал, что эта искренность может его оскорбить. Уже сколько раз у нас бывали споры – и какие ожесточённые! – о ранних работах. Вдобавок ко всему я знал, что он не считался с чужим мнением и уважал только собственное, больше того, он учил себя быть одержимым, поэтому так упорно постигал секреты великих мастеров, молился на них, а мнение таких, как я – земных людей, было для него пустым звуком. Поэтому, наверное, мы никогда и не говорили с ним об искусстве. Дружили мы давно и много времени проводили, вместе. Конечно, без разговоров о живописи не обходилось, но я всегда вёл себя сдержанно, торопясь, поскорее переменить тему; когда же это не удавалось, всем своим видом показывал, что не расположен говорить о том, в чём мало смыслю.
Если же с нами был кто-то ещё, я замолкал, а когда во время таких бесед мой друг, распалясь, доказывал что-то очередному оппоненту, отсаживался от стола и смотрел на череп.
В поле моего зрения, когда я разглядывал этот посмертный лик человека, попадали картины друга и, конечно же, книги с репродукциями – такое вот созерцание и навело меня однажды на одну занимательную мысль. Мне вдруг показалось, что картины друга похожи на череп: сделанные по всем известным; ему художественным законам, они были лишены одухотворённости и живой плоти. В картинах угадывались образы, уже воплощённые когда-то великими мастерами, так же, как в костяной нерукотворной чаше мне виделись черты живых людей, которых, увы, уже не было на свете. Сказать об этом вслух было бы, наверное, жестоко, хотя мой друг постоянно твердил о том, что именно критика побуждает творца к сознательным поискам. Только вот кому как… Я сам однажды резко покритиковал начинающего литератора, думая, естественно, что он избавится, от своих недостатков, а получилось так, что он совсем забросил работу и в своём отречении от литературы обвинял, как выяснилось позже, именно меня. Я и сегодня чувствую свою вину перед этим человеком и, если случается выступать арбитром, стараюсь быть более милосердным. Даже о беспомощных поделках не говорю прямо. Что же до моего друга, то я знал, что он не бездарь и, раз ищет себя – то, наверное, найдёт. Хотелось верить, что такой неистовый труд не пропадёт даром, поэтому и помалкивал о своем искусствоведческом откровении.
А между тем этот череп не давал мне покоя. Картины ладно… В них были отражены сугубо личные впечатления моего друга. А вот череп – это то, что остается от живого человека и соотносится, я думаю, с каждым представителем рода человеческого. Во все времена люди предавали умерших земле, и все религии освящали этот обряд. Может быть, поэтому присутствие этой посмертной маски среди живых было кощунством, хотя… Хотя мы знаем, что скульпторы, художники, медики обращаются с останками человека запросто, ведь они им просто необходимы, чтобы изучать живую природу.
Я впервые в жизни увидел настоящий череп. Хотя, впрочем, помню, как в школе на уроке анатомии нам показывали скелет человека, и я ужаснулся: «Неужели от твоей головы останется лишь это?» Эта мысль, невыносимая для каждого человека, впервые посетила тогда и меня. Да и сейчас, глядя на этот череп, я чувствую, как мне становится не по себе, хоть я и стараюсь отогнать от себя этот малодушный страх.
Этот череп был мал, и каждый раз, бывая в мастерской, я обмеривал мысленно головы присутствующих, стараясь представить размер их скелетов – прямая противоположность деятельности известного ученого, восстанавливающего по черепу облик человека. Я, конечно, не знал его тайн, но, к своему удивлению, обнаружил, что размеры головы вовсе не соответствуют размеру тела. Бывало, человек ростом за метр восемьдесят, а голова у него меньше, чем у самого что ни на есть коротышки.
Череп был цвета слоновой кости, с какими-то грязными рыжими пятнами, двух передних зубов не было, и установить причину этого было невозможно; самым же устрашающим в нём были, наверное, пустые глазницы. С правой стороны темени была вмятина, и как она появилась, я тоже не мог догадаться. Может быть, от этой раны и погиб человек, а может, вмятина появилась намного позже, во время извлечения из земли, или же ещё позднее. Мне оставалось только предполагать…
Двери мастерской никогда не закрывались, и, кто бы ни заходил туда, обязательно останавливал свой взор на этом черепе.
– Ох ты! Настоящий? – непременно был первый вопрос. Хозяин ухмылялся в усы:
– Подделка, – хмуро шутил, но быстро менял тон и объяснял: – Ну, разумеется, настоящий.
Тогда посетитель подходил к полкам, брал в руки череп и, разглядывая его, пересыпал речь всякими дежурными восторгами.
Меня до крайности раздражали эти церемонии. Случалось, что завсегдатаи мастерской от нечего делать брали череп в руки и начинали вертеть, постукивать по нему пальцем.
– Не тронь! Оставь человека в покое! – так и хотелось выкрикнуть мне.
Конечно, я сдерживал себя, но раздражение не проходило, поскольку, как ни странно, у меня уже начинали складываться какие-то отношения с этим человеком, о том, кто он такой, я задумался сразу же, да и не будь этой душевной связи, я никогда бы не согласился с тем, что человеческая плоть – живая или мертвая – может быть бездушной. Конечно, я понимал, что эти кости подобны куску высохшего дерева или закаменевшей липы, но мне казалось, что вокруг них – как память о владельце – обитает какой-то живой дух. Бывало и так, что за целый вечер я бросал в его сторону один-единственный взгляд и, начисто забыв о существовании черепа, уходил домой. Но уже потом, дома, я долго не находил себе места – меня беспокоило отсутствие этого лика. А гораздо позже, анализируя то состояние и что-то поняв, я стал замечать, что в мою душу закрадывается обида, которую я сам нанёс этому лику прошлого своим невниманием.
Однако до подобного рода отношений было ещё далеко, они только зарождались, когда я впервые остался наедине с этим костяным предметом. В мастерской часто встречались друзья и то пили чаи, вспоминая какие-то замечательные деньки, то перемывали друг другу косточки, разжигая в себе былые обиды и воздавая себе самим и своим ближним за какие-то заслуги и прегрешения.
В тот раз, если мне не изменяет память, мы отмечали день рождения одного нашего товарища. Произносилось множество тостов, цитировались стихи, пелись песни, а под конец были танцы – и наши национальные, и современные. Никто из компании танцевать не умел, но подогретые – и весьма! – чувства требовали выхода, и каждый танцевал как мог. Так, по крайней мере, было со мной, и поскольку мои товарищи знали, что от этих моих танцев до состояния, когда я не в силах следить за своими действиями, один шаг, то, беспокоясь за меня, оставили ночевать в мастерской. Уложив меня на диване и забыв потушить свет, они разошлись по домам.
В ту ночь мне снился какой-то фантастический сон: я путешествовал по незнакомому мне краю. Никогда не виданные очертания гор, неживая безлюдная равнина, усеянная большими валунами. Я пробирался через валуны, искал затерянный в этой долине ногайский аул. Я не сомневался, что он расположен именно здесь – читал о нём в исторических справках, – и хотя в действительности жители этого аула ещё в позапрошлом столетии переселились в Турцию, мне давно хотелось побывать в этих местах. Во сне я и очутился там, где этот аул был или есть до сей поры, но поиски его были мучительны. Я ходил между валунами и каждую минуту ожидал увидеть и узнать его очертания. Во время этих поисков встретился мне незнакомый старик в чёрной бурке и белой войлочной папахе. Он спросил меня, зачем я пришёл сюда. Я ответил, что ищу аул, который должен быть где-то здесь. Тогда старик повёл меня к себе. Возле большого, величиной со скалу, валуна стояла его сакля с плоской крышей.
– Вот это и есть тот аул, который ты ищешь, – сказал мне старик, показывая на свой, единственный на всю округу, дом.
Потом мы со стариком вошли в саклю. Она показалась мне очень странной. И наружность старика, и его одежда говорили о том, что он – человек прошлого. Из прошлого была и его допотопная сакля, внутри которой, однако, я увидел телевизор, стоящий возле старинного тахтамета. Старик скинул с плеч бурку, остался в длиннополой черкеске с пустыми газырями и без кинжала, он снял также сапоги и, взобравшись на тахтамет, сел, по ногайскому обычаю, на корточки и то же велел сделать мне. Я охотно скинул туфли и взобрался на тахтамет. Приглядевшись к старику, я понял, что мы уже когда-то встречались – лицо его было мне знакомо, но где и когда – так и не вспомнил. Пока я гадал об этом, в саклю вошла девушка в длинном старинном платье тёмно-вишнёвого цвета с тостуйме1 на груди и плоской крымской шапке. Меня поразило ее бледное удлинённое лицо, миндалевидные глаза и длинная белая шея. И её я где-то видел. Старик велел девушке принести нам поесть. Она стояла на месте и из-под бровей стыдливо посматривала на меня… Теряясь в догадках, я проснулся…
В первые секунды я не мог сообразить, где нахожусь. Знакомые стены с картинами и книжными полками вернули меня в сегодняшний день, но тут же, как в тумане, блеснуло явившееся мне во сне лицо девушки, и я испугался, закрыл глаза, а когда вновь открыл их – увидел стоящий на полке череп. Я одёрнул себя и твердо решил подавить эти мистические представления, но в глазах моих снова промелькнуло лицо девушки, и снова потребовалось усилие, чтобы отогнать от себя этот лик.
* * *
В подтверждение моих догадок, хозяин мастерской убеждённо сказал:.
– Это женский череп.
– А как это определить?
– Да очень просто. Это видно по его размерам и особенностям строения…
Теперь я твердо уверился: это была женщина. Целая вереница исторических лиц прошла перед моими глазами. Кем была эта женщина, какая кровь текла в её жилах – ничего этого я не знал. Специальной литературы под рукой не было, а биологический анализ не смогли бы, наверное, сделать не только в нашем городке, но и во всём северокавказском крае. Поэтому я доверялся только своему воображению, а у него, как известно, безграничные возможности. Мне даже подумалось, что судьба свела меня со знаменитой ногайской ханшей Сююмбийке.
Я легко перенёсся в её владения. Видел её статную фигуру, проникал во все таинства дворцовых интриг… Узнал я и её мужей, сперва первого – погибшего маломощного Жанали; второго – любимого и рано ушедшего из жизни хана Сафа-Гирея; потом третьего – ненавистного ей касимовского царя Шигалея, которого она хотела отравить, но была разоблачена и отправлена в подземелье вместе со своим ребёнком; видел я и всех представителей её знатного рода: отца и его братьев, правивших в Ногайской орде, её опальных братьев, изгнанных после смерти отца Юсупа, тех отцовых братьев, что насильственно были отправлены к Ивану Грозному, дабы не сеяли смуту, и давших, между прочим, знаменитое потомство российских дворян Юсуповых; видел я и портреты самой Сююмбийке, хранившиеся в покоях этих князей. И я ещё долго, наверное, разжигал бы своё воображение, если бы в мастерской не появился однажды Кобек Карамов…
Художник и Кобек были школьными приятелями.
– Какой интересный человек, – сказал мне друг, когда Кобек ушёл, – в школе он был застенчивым и тихим. Когда ребята, нашкодив, разбегались, он оставался на месте и преспокойно, принимал все упреки: наказывали его и за разбитые окна, и за сломанные чернильницы… Он никогда не защищал себя, и ребята этим пользовались – эта черта всегда поражала меня. В последних классах мы с ним сдружились, и я часто у него спрашивал: зачем это он отдувается за всех? И он мне преспокойное отвечал, что при случае и сам сделал бы то же самое: что-нибудь разбил или сломал; а главное, говорил он, его не пугает наказание. Мне даже показалось, что он считает себя героем – смелее и умнее всех…
После школы мы с ним долго не виделись. Он закончил архитектурный и стал работать в проектном институте. Так ты представляешь! Он еле здоровался со мной. Я поражался, видя его, и думал: как же может измениться человек! А как-то у меня собрались одноклассники. Так пришлось прямо упрашивать его прийти. А явившись, он сидел нахохлившись как индюк и не хотел ни с кем разговаривать. Все просто диву давались. И вот это посещение… Я всё время следил за ним. Он был совсем не похож на себя: какое-то невероятное оживление, заинтересованность во всем… – И художник, недоумевая, пожал плечами.
Моё внимание, признаюсь, тоже привлек этот человек, но его живой реакции на любой разговор я не придал особого значения. Меня удивила частая смена настроений, отражающаяся на его лице. Он, словно актёр, то делал вид, что весь внимание, то казался вдохновлённым беседой и произносил одобрительные реплики, то рассеянно смотрел по сторонам, думая о чём-то своём. И хотя его лицо было таким изменчивым, в глубоко запавших глазах теплилась грусть, даже не грусть, а как мне показалось – затаённое чувство вины или страх; меня это поразило, и я подумал: какая, должно быть, нелёгкая жизнь у этого человека!
Он пил за всё и за всех и, как умудрённый жизнью человек, после каждого тоста добавлял:
– Да сбудутся эти хорошие слова!
Выпив стакан водки, он долго морщился, но потом удовлетворённо цокал и говорил одобрительно:
– Прелестный напиток!
Череп он заметил лишь к концу застолья.
– Ого! – вскрикнул он и, резко вскочив, подошёл к полке. – Настоящий?
– Нет! Подделка! – пошутил мой друг.
– Настоящий! – воскликнул Кобек Карамов, не обращая внимания на шутку приятеля. – А когда, скажи, он у тебя появился?
– Интересный вопрос! Тебе всё надо знать, – капризно произнёс мой приятель.
– Но это не праздный вопрос, – виновато проговорил Кобек.
– Ну, месяцев шесть назад, – ответил художник.
– Потрясающе! Как раз в это время снесли курган на территории химического завода, не оттуда ли этот череп? – и Кобек вопросительно взглянул на нас.
– А что это был за курган? – спросил я.
– Сам курган мне видеть не пришлось, и его никогда не исследовали, но, по рассказам рабочих, возле останков в кургане нашли ножницы, а это говорит о том, что могильник женский. Хотя ногайцы редко возводили курганы женщинам. Обычно – только султану или мурзе, а женщин хоронили на общем кладбище. Но, может быть, это какой-то особый случай: женщина, совершившая самоубийство, или иноверка не хоронились на общем кладбище. Так что курган могли возвести или её родственники, или даже целый аул.
– А к какому времени можно отнести этот курган? – не отставал я от Кобека Карамова.
– Я, к сожалению, не видел сам этого места, да и увидев, не смог бы сделать точного анализа, но, судя по рассказам рабочих, это позднее захоронение – оно не так богато убрано, как древние могильники, да и предметов домашнего обихода, украшений в нём совсем немного. Это, по-видимому захоронение семнадцатого или девятнадцатого века. Если я не ошибаюсь, оно совершенно особое. Можно предположить, что это могильник дочери знатного человека, который по каким-то причинам не смог похоронить её на кладбище и возвести ей достойное кешене2, а взял и похоронил вдали от родных мест. Возможно, что смерть настигла женщину в пути, – и Кобек показал на череп, – и её пришлось похоронить в отдалённом месте, может быть, даже украдкой – кто-то привёз сюда тело и сделал захоронение. В семнадцатом и девятнадцатом веках ногайские курганы были групповыми и располагались обычно неподалёку от общего кладбища…
Хотя рассказ Кобека и не был документальным – откуда ему было знать, что произошло на самом деле? – он совершенно перевернул мои вольные представления. О Сююмбийке, которая по легенде погибла в Казани, а по историческим данным – где-то в средней полосе России, я уже не думал. Ведь это не совпадало даже хронологически.
Кобек Карамов исчез так же неожиданно, как появился, а я всё чаще заходил в мастерскую, но видел перед собой уже не Сююмбийке, а прекрасную Мейлек-хан. Я очень жалел, что не обладаю даром художника: глядя на этот костяной лик, я видел перед собой писаную красавицу – конечно же, это была Мейлек-хан. Я брал у друга ключи, чтобы остаться в мастерской одному, и словно заворожённый следил за тем, как она расхаживает по комнате, принимает гостей, веселится…
Предание о Мейлек-хан было записано ещё в прошлом веке русским землемером Агафангелом Архиповым, и я восстанавливал страницы этого труда, оживляя не понятые русским человеком особенности нравов и обычаев. Я уже не мог жить без Мейлек-хан и её суженого – храбреца Джелалдина.
1
Тостуйме – застёжки (ногайск.).
2
Кешене – мавзолей (ногайск.).