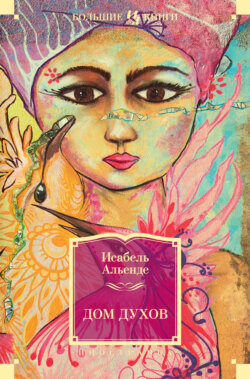Читать книгу Дом духов - Исабель Альенде - Страница 4
Глава 3
Клара, ясновидящая
ОглавлениеКларе было десять лет, когда она решила, что не стоит разговаривать, и замкнулась в своей немоте. Ее жизнь сразу же изменилась. Толстый и любезный доктор Куэвас попытался лечить ее немоту таблетками собственного изобретения, готовил фруктовые напитки с витаминами, смазывал ей горло медом с бурой, но это не принесло никакого результата. Он понял, что его лекарства не действуют и что его появление пугает девочку. Завидев его, Клара начинала кричать и пряталась в самых отдаленных уголках дома, сжавшись, как затравленный зверек; поэтому он прекратил лечение и посоветовал Северо и Нивее показать ее одному румыну по фамилии Ростипов, который слыл сенсацией сезона. Ростипов зарабатывал на жизнь, показывая иллюзионистские трюки в театре варьете, а до этого совершил поистине подвиг. Он натянул проволоку между куполом кафедрального собора и куполом Галисийского братства и прошел над площадью без страховки, только с шестом в руках. Во время гипнотических сеансов с помощью магнитных палочек Ростипов лечил от истерии – и его успехи, несмотря на всю ненаучность метода лечения, вызвали большой шум в научных кругах. Нивея и Северо повели Клару в консультацию, которую румын наскоро устроил в отеле, где остановился. Ростипов очень внимательно обследовал ее и в конце концов объявил, что этот случай выходит за рамки его компетенции, ибо девочка не говорит из-за нежелания говорить, а не потому, что она не может. Тем не менее, уступив настойчивому желанию родителей, он изготовил какие-то сладкие пилюли фиолетового цвета и предупредил, что они являются сибирским средством для лечения глухонемых. Но первая порция пилюлей не помогла, а вторая из-за недосмотра была съедена Баррабасом, а ему это было что слону дробина. Северо и Нивея пытались разговорить дочку по-своему – умоляли ее, угрожали ей, даже оставляли без пищи в надежде, что голод заставит ее открыть рот и она попросит поесть, но даже это не помогло.
Нянюшка решила, что девочка сможет заговорить, если ее сильно испугать, и девять лет подряд придумывала всякую всячину, чтобы напугать Клару, но только выработала у нее стойкий иммунитет к страху и неожиданностям. Спустя какое-то время Клара уже абсолютно ничего не боялась, ее не пугали ни появление мертвенно-бледных, изможденных чудовищ в ее комнате, ни стук в окно вампиров и демонов. Нянюшка рядилась в разбойников с отрезанной головой, в пиратов Лондонской башни, в собаку-волка и в дьявола – в зависимости от вдохновения и от картинок в книжках, описывающих ужасы; она покупала их постоянно и, хотя читать не умела, все прекрасно понимала по иллюстрациям. У Нянюшки вошло в привычку незаметно исчезать и нападать в темноте коридоров на девочку, завывать за дверями и подкладывать разную живность в ее кровать, но все было напрасно. Иногда Клара теряла терпение, бросалась на пол, била ножками и кричала, не произнося при этом ни единого звука на родном языке, или писала на грифельной доске, которую всегда носила с собой, самые оскорбительные слова, какие знала. Тогда Нянюшка уходила на кухню выплакать свое горе.
– Я это делаю для тебя, ангелочек! – рыдала Нянюшка, вытирая разрисованное жженой пробкой лицо окровавленной простыней.
Нивея запретила ей пугать дочь. Она поняла, что вид страшилищ только усиливает странности в поведении Клары. Кроме того, эти окровавленные чудища портили нервную систему Баррабаса, который, не обладая хорошим нюхом, не узнавал Нянюшку в ее маскарадных костюмах. Собака стала мочиться сидя, оставляя огромную лужу, и часто скрипела зубами. Однако Нянюшка, если Нивеи не было рядом, настойчиво пыталась излечить немоту теми же способами, какими избавляют от икоты.
Клару забрали из монашеского пансиона, где воспитывались все сестры дель Валье, и пригласили учителя на дом. Северо выписал из Англии бонну, мисс Агату, высокую, всю какую-то янтарную, с огромными руками каменщика, но мисс не выдержала перемены климата, острой еды и полетов солонки над столом во время обедов. Вскоре она возвратилась в Ливерпуль. Затем пригласили швейцарку, но та тоже продержалась недолго, и появилась француженка, которую удалось выписать благодаря связям семьи дель Валье с французским послом. Она была такой розовой, пухлой и нежной, что через несколько месяцев забеременела, и после дознания выяснилось, что отцом ребенка являлся Луис, старший брат Клары. Северо их поженил, не спрашивая их мнения, и, вопреки предсказаниям Нивеи и ее подруг, их брак оказался счастливым. В конце концов Нивея убедила мужа в том, что Кларе с ее телепатическими способностями ни к чему знать языки и что ей полезнее было бы научиться играть на рояле и вышивать.
Маленькая Клара много читала. И с жадностью поглощала все подряд, ей было все равно, что читать: волшебные ли книги из таинственных баулов дяди Маркоса или документы либеральной партии, которые хранились в кабинете отца. Она заполняла множество тетрадей своими записями о событиях того времени; благодаря этому они не исчезли, стертые туманом забвения, и теперь я могу, перечитывая их, многое воскресить в памяти.
Ясновидящая Клара умела толковать сны. Эта способность была для нее естественной, ей не было нужды читать загадочные книги, которые упорно и долго изучал дядя Маркос, так и не добившись больших успехов. Первым, кто догадался, что Клара понимает значение снов, был Онорио, семейный садовник. Однажды ему приснились змеи, ползающие между его ног, и чтобы они не забрались на него, он стал их топтать, пока не растоптал девятнадцать штук. Онорио, когда поливал розы, рассказал об этом сне Кларе, просто чтобы развлечь девочку, – он очень ее любил и жалел, что она немая. Клара вытащила из кармашка своего передника грифельную доску и написала о значении сна Онорио: «У тебя будет много денег, но ненадолго, заработаешь ты их без труда, играй девятнадцатого». Садовник не умел читать, но Нивея, шутя и смеясь, прочитала ему Кларино толкование. Садовник поступил так, как ему написала Клара, и выиграл восемьдесят песо в одном подпольном притоне, что находился позади угольного склада. Он потратил их на новый костюм, грандиозную пьянку с друзьями и на фарфоровую куклу для Клары. С той поры девочка втайне от матери стала толковать сны всем, кто ее просил об этом, а просили, узнав о случае с Онорио, многие. Что значит летать с лебедиными крыльями над башней, плыть по течению в лодке, слышать сирену, поющую голосом умершей жены, рожать сиамских близнецов, сросшихся спинами, у каждого в руке меч? Клара, не раздумывая ни минуты, записывала на дощечке, что башня – это смерть и тот, кто летает над ней, спасется от гибели, попав в аварию; что плывущий в лодке и слышащий сирену потеряет работу и будет терпеть нужду, но ему поможет женщина, с которой он сумеет договориться; что близнецы – это муж и жена, вынужденные жить вместе без любви и потому ранящие друг друга.
Клара угадывала не только сны. Она видела будущее и знала о намерениях людей; ясновидение она сохранила на всю жизнь, и со временем эта ее способность стала проявляться только сильнее. Она предсказала смерть своего крестного отца, дона Соломона Вальдеса. Он был маклером торговой биржи и однажды, решив, что потерял все, повесился на люстре в своей роскошной конторе. Там его и нашли, по предсказанию Клары, и похож он был на печального теленка, о чем она тоже написала на дощечке. Клара предрекла грыжу у отца, все землетрясения и другие явления природы; предсказала, когда единственный раз за многие-многие годы выпадет снег в столице и что от холода погибнут в бедных кварталах люди, а в садах богачей – розы. Она указала на убийцу двух школьниц задолго до того, как полиция обнаружила второй труп, но ей тогда никто в семье не поверил, а Северо воспротивился, чтобы его дочь помогала полиции и предсказывала что-то, не имеющее отношения к их семье. Едва бросив взгляд на Хетулио Армандо, Клара поняла, что тот обманывает отца в торговле австралийскими овцами, она прочитала это по цвету его ауры. Клара написала об этом на дощечке и показала отцу, но он не придал значения ее словам и вспомнил о предсказании своей младшей дочери, когда уже потерял половину состояния. В это время его компаньон, превратившись в богача, плавал под жарким солнцем по Карибскому морю с целым гаремом широкобедрых негритянок на собственном пароходе.
Способность Клары передвигать предметы, не трогая их, не прошла с началом менструации, как обещала Нянюшка, а, наоборот, усилилась настолько, что она научилась нажимать на клавиши рояля при закрытой крышке, хотя ей ни разу при всем желании не удалось переместить сам инструмент по гостиной. На эти чудачества уходила большая часть ее энергии и времени. Она умела угадывать карты в колоде; для своих братьев придумывала самые невероятные игры. Отец запретил ей читать будущее по картам, а особенно вызывать призраков и духов, – озорничая, они мешали остальным членам семьи и приводили в ужас прислугу. Со временем Нивея поняла, что чем больше будет запретов, чем больше будут пытаться напугать Клару, тем ярче проявятся ее странные особенности. Мать решила оставить Клару с ее спиритическими трюками, с ее забавами пифии, с ее упорным молчанием в покое, она просто любила младшую дочь, принимая такой, какая есть. Клара, прорицательница, росла как дерево в лесу; говорить она не желала, несмотря на все усилия доктора Куэваса, который стал применять новейшие европейские методы: холодные ванны и лечение электрическим током.
Баррабас сопровождал девочку всегда, днем и ночью, кроме тех случаев, когда бегал к своим подругам. Его огромная тень следовала за ней, такая же молчаливая, как сама Клара. Он бросался к ее ногам, когда она садилась, а ночью спал рядом, храпя, как локомотив. Он сумел так глубоко понять свою хозяйку, что, когда она, словно сомнамбула, двигалась по дому, он следовал за ней в таком же состоянии. В полнолуние можно было видеть, как они бродят по коридорам, подобно двум призракам, парящим в бледном свете луны. Баррабас рос и становился норовистым псом. Он так и не смог понять, что за штука прозрачное стекло; в невинном желании поймать какую-нибудь муху пес частенько бросался на окна. В грохоте разбившихся стекол он падал по ту сторону окна, удивленный и грустный. В те времена стекла привозили из Франции, и собачья привычка превратилась в серьезную проблему, пока Клара не нарисовала на стеклах кошек. Став взрослым, Баррабас перестал забавляться с ножками рояля, что он любил делать, будучи щенком. Инстинкт продолжения рода пробуждался в нем только тогда, когда он унюхивал поблизости сучку, у которой началась течка. И тогда уже ни цепь, ни двери не могли удержать его; преодолевая все преграды на пути, он бросался на улицу и пропадал на два-три дня. Возвращался он всегда с подругой, та следовала за ним, словно паря в воздухе, сраженная его мощью. Детей срочно уводили, чтобы они не видели подобной жути, а садовник обливал собак холодной водой и остервенело пинал ногами, пока Баррабас наконец не отрывался от своей возлюбленной. Пес уходил, оставляя ее умирать во дворе, и Северо из сострадания пристреливал ее.
Отрочество Клары тихо протекало в огромном родительском доме с тремя патио; баловали ее все: старшие братья, Северо, любивший ее больше других детей, Нивея и Нянюшка, из лучших побуждений продолжавшая переодеваться в пугал. Потом братья Клары женились и уехали, одни путешествовать, другие работать в провинции. Огромный дом, который строился в расчете на большую семью, оказался почти пустым, и многие комнаты закрыли. Отзанимавшись с преподавателями, девочка читала, передвигала предметы, бегала с Баррабасом, предсказывала и училась ткать – это было единственное из домашних искусств, которое ей покорилось. С того самого Страстного четверга, когда падре Рестрепо назвал ее одержимой дьяволом, вокруг нее словно возникла тень отчуждения, только родители и братья по-прежнему любили ее. Слухи о ее странных способностях передавались шепотком по всему городу. Клару никто из знакомых никуда не приглашал, и даже двоюродные братья и сестры ее избегали. Мать постаралась возместить отсутствие друзей своей самоотверженной любовью, и усилия ее были не напрасны: девочка росла веселой. Став взрослой, Клара будет вспоминать о детстве как о лучшей поре своей жизни, вопреки одиночеству и немоте. Всю жизнь она будет хранить в памяти вечера, проведенные с матерью в швейной комнате, где Нивея шила на машинке платья для бедных и рассказывала ей семейные предания и анекдоты. Она показывала дочери старые фотографии на стенах и вспоминала о прошлом.
– Ты видишь этого сеньора, такого серьезного, с бородой пирата? Это дядя Матео, он уехал в Бразилию торговать изумрудами, но одна жгучая мулатка сглазила его. У него выпали волосы, отслоились ногти, зашатались в деснах зубы. Он пошел к негру-колдуну. Тот дал ему амулет, и у него укрепились зубы, отросли ногти и даже волосы. Взгляни на него, доченька, на нем больше волос, чем на индейце: это единственный в мире лысый, у которого вновь выросли волосы.
Клара, ничего не говоря, улыбалась, а Нивея продолжала рассказывать, потому что привыкла к молчанию дочери. Кроме того, мать надеялась, что, наслушавшись разных историй, дочь рано или поздно задаст какой-нибудь вопрос и тем самым снова заговорит.
– А этот, – рассказывала она, – это дядя Хуан. Я его очень любила. Однажды он с шумом выпустил газы, и это стало ему смертным приговором, ужасное несчастье! Случилось это благоуханным весенним днем, во время пикника. Все мы, двоюродные сестры, были в муслиновых платьях и в шляпках, украшенных цветами и лентами, а юноши блистали в своих лучших воскресных костюмах. Хуан снял с себя белый пиджак – я как сейчас его вижу! – засучил рукава и ловко повис на ветке дерева – он был хорошим спортсменом и хотел покрасоваться перед Констанцей Андраде, королевой сезона, из-за которой, едва увидев ее, он просто голову потерял. Хуан выполнил две безупречные гимнастические фигуры, потом полный оборот и вот тут-то с шумом испустил газы. Не смейся, Клара! Это было ужасно! Наступила мертвая тишина, и вдруг королева сезона начала безудержно хохотать. Хуан надел пиджак, жутко побледнел, отошел не торопясь в сторону, и больше мы его никогда не видели. Его искали даже в Иностранном легионе, спрашивали о нем во всех консульствах, но больше никто никогда ничего не слышал о нем. Я думаю, он стал миссионером и поехал к прокаженным на остров Пасхи – там, вдали от морских путей, можно забыть все и быть забытым всеми, этого острова даже нет на многих картах. С тех пор, вспоминая о нем, его называют Хуан Пук.
Нивея подводила дочь к окну и показывала на пень от тополя.
– Это было громадное дерево, – говорила она. – Я приказала спилить его еще до рождения своего первенца. Дерево было таким высоким, что, говорят, с вершины его можно было видеть весь город, но единственный, кто забрался так высоко, был слепым и не мог ничего увидеть. Каждый мальчик из рода дель Валье, когда ему предстояло надеть длинные брюки, должен был забраться на дерево и доказать свою храбрость. Это было как обряд посвящения. На дереве осталось полным-полно зарубок. Я своими глазами видела их, когда его свалили. На нижних ветках, толстых, как печная труба, были видны зарубки, оставленные прадедами, залезавшими на дерево в своем детстве. По инициалам, вырезанным на стволе, узнавали о тех, кто забрался всех выше, о самых отважных, а также о тех, кто струсил. И вот настала очередь и для Херонимо, слепого двоюродного брата, лезть на дерево. Он полез, ощупывая ветви, ни секунды не колеблясь, ведь он не видел вершины и не ощущал пустоты. Он добрался до верхушки, начал вырезать первую букву «X» и, не закончив, рухнул как подрубленный, упав вниз головой к ногам отца и братьев. Ему было пятнадцать лет. Завернув в простыню, его, мертвого, принесли матери, несчастной женщине, а она стала плевать всем в лицо, выкрикивала ругательства, какие срываются только с языка матросов, проклинала всех, кто подстрекал ее сына влезть на дерево, и в конце концов, надев на нее смирительную рубашку, ее отвезли к монахиням – сестрам милосердия. Я знала, что придет время и мои сыновья должны будут лезть на это проклятое дерево. Поэтому я и приказала спилить его. Я не хотела, чтобы Луис и другие дети росли под тенью этого эшафота.
Иногда Клара вместе с матерью и двумя или тремя ее подругами-суфражистками ходила на фабрики. Там сеньоры, встав на ящики, обращались с речами к работницам, а управляющие и хозяева, насмехаясь и злясь, наблюдали за ними издалека. Несмотря на свой юный возраст, Клара сумела понять всю нелепость подобных сцен и описала в своих тетрадях, как мать и ее подруги, одетые в меха и замшевые сапожки, вещают о рабстве, равенстве и правах покорной толпе работниц в грубых передниках из простой ткани и с красными обмороженными руками. С фабрики суфражистки шли в кафе на Пласа де Армас, пили чай с пирожными, рассуждали об успехах кампании – легкомысленные и пламенные идеалистки. Иногда мать брала ее с собой в отдаленные кварталы, куда они приезжали в машине, груженной продуктами и одеждой, которую Нивея и ее подруги шили для бедных. А вернувшись домой, девочка писала, что благотворительность не способна установить справедливость. Ее отношения с матерью были близкими и радостными. Нивея, хотя в доме было полно детей, вела себя с ней так, как если бы Клара была ее единственным ребенком, и в конце концов любить Клару стало своеобразной семейной традицией.
Нянюшка уже давно превратилась в женщину без возраста, но сохранила нетронутой силу молодости; она продолжала прятаться в темных углах, пытаясь испугать девочку. Дни напролет она помешивала палкой в медном тазу, стоящем на адском огне посреди третьего дворика. В нем булькало айвовое варенье, густая жидкость цвета топаза, которую, когда она застывала, Нивея относила беднякам. Нянюшка привыкла жить, окруженная детьми, и, когда старшие выросли и разъехались, всю свою нежность отдала Кларе. Хотя девочка была уже далеко не в том возрасте, когда ее надо было купать как младенца, Нянюшка усаживала ее в ванну, наполненную водой, пахнущей жасмином и базиликом. Она тщательно терла ее губкой, не забывая об ушах и пальцах ног, растирала ее одеколоном, пудрила кисточкой из лебяжьего пуха, расчесывала волосы долго и терпеливо, пока они не становились блестящими и гладкими, точно морские растения. Она одевала Клару, убирала кровать, приносила ей на подносе завтрак, заставляла принимать липовый настой, успокаивающий нервы, яблочный – для желудка, лимонный – для того, чтобы кожа была прозрачной, настой из розы – для печени и из мяты – для свежести во рту. Вскоре девочка превратилась в прекрасное ангелоподобное существо, что бродило по всем патио, коридорам и комнатам, окутанное ароматом цветов, в шорохе накрахмаленных юбок, в сиянии лент и кудрей.
Клара провела свое детство и вошла в юность в стенах своего дома, в мире удивительных рассказов, безмятежного молчания, в том мире, где время не отмечалось часами или календарями, где предметы жили своей собственной необыкновенной жизнью и где все могло случиться. Призраки сидели за столом вместе с людьми, разговаривали с ними, прошлое и будущее являлись частью единого целого, а события настоящего напоминали беспорядочные картинки калейдоскопа. Я испытываю наслаждение, читая Кларины дневники того времени, – в них описывается волшебный мир, которого уже не существует. Клара жила в мире, придуманном для нее, оберегаемая от жизненных невзгод. В этом царстве смешалась прозаическая правда реальности с поэтической правдой снов, в этом мире не действовали законы физики или логики. Клара прожила детство и отрочество, погруженная в свои фантазии, с духами, населяющими воздух, воду и землю, прожила такая счастливая, что целых девять лет не чувствовала потребности заговорить.
Все уже давно потеряли надежду снова услышать ее голос. И вот, в день ее рождения, после того как она задула девятнадцать свечей на шоколадном торте, словно расстроенное пианино, прозвучал голос, который Клара берегла все это время.
– Скоро я выйду замуж, – сказала она.
– За кого? – спросил Северо.
– За жениха Розы, – ответила Клара.
И только тут все спохватились, что она впервые за девять лет заговорила, и чудо потрясло дом до основания, вызвав слезы у всей семьи. Начались бесконечные звонки, новость полетела по городу, сообщили доктору Куэвасу – он никак не мог поверить в такое чудо. В этой суматохе все забыли, что` же сказала Клара, и вспомнили только тогда, когда спустя два месяца на пороге дома появился Эстебан Труэба, которого не видели со дня похорон Розы, и попросил Клариной руки.
* * *
Эстебан Труэба вышел из поезда и сам понес два чемодана. Вокзал, который, держа в своих руках все железные дороги страны, соорудили когда-то англичане по примеру вокзала Виктории, совершенно не изменился с того времени, когда в последний раз, так много лет назад, Эстебан уезжал отсюда. Те же грязные стекла, дети – чистильщики сапог, продавцы хлебцев, сластей, носильщики в черных шапках с британской эмблемой короны, которую никому и в голову не пришло заменить на другую, с цветами национального флага. Эстебан сел в экипаж и назвал адрес матери. Город показался ему незнакомым, в нем царил хаос новой жизни: женщины в коротких платьях, демонстрирующие всем и каждому свои икры, мужчины в жилетах и брюках с напуском, рабочие, роющие ямы на мостовой, чтобы поставить столбы, убирающие столбы, чтобы построить здания, разрушающие здания, чтобы посадить деревья, уличные торговцы и мастеровые, мешающие всем, кричащие о заточке ножей, о жареных земляных орехах, о куколке, что танцует сама по себе, без проволоки: «посмотрите сами, потрогайте рукой». Запахи помоек, пригоревшего жаркого, фабрик, автомобилей, сталкивающихся с экипажами и конками, влекомыми живой силой тяги, как тогда называли старых лошадей, – они еще служили городу; сопение толпы, гул бегущих, спешащих туда-сюда – всем некогда, все хотят успеть вовремя. Эстебан почувствовал себя не в своей тарелке. Сейчас он ненавидел город больше, чем раньше, чем тогда, когда думал о нем в деревне; ему вспомнились сельские проселки, дожди, которыми мерили время, необозримая тишина пастбищ, чистый покой реки и его тихий дом.
– Не город, а дерьмо, – заключил он.
До дома, где он вырос, Эстебан доехал быстро. Он был потрясен, увидев, каким безобразным стал их квартал за то время, как богатые захотели жить выше всех – и город полез на отроги Кордильер. От площади, где он играл ребенком, ничего не осталось, лишь заброшенный пустырь, свалки, где стояли телеги торговцев и рылись в отбросах бродячие собаки. Их дом разрушался. Он увидел воочию неумолимость времени. На застекленной, уже расшатанной двери с экзотическими птицами на отшлифованном стекле, которое вышло из моды, висел бронзовый дверной молоток: женская рука, держащая шар. Он стукнул и какое-то время, показавшееся ему вечностью, ждал; наконец дверь открылась посредством веревки, что была привязана к щеколде и шла к лестничной площадке. Его мать жила на втором этаже, а нижний сдавала пуговичной мастерской. Эстебан стал подниматься по скрипучим ступеням, их уже давно не натирали воском. Старая-престарая служанка, о существовании которой он забыл начисто, ждала его наверху и встретила со слезами, подобно тому как встречала его, когда он в пятнадцать лет возвращался из нотариальной конторы, где зарабатывал на жизнь: снимал копии с документов по продаже имущества и имений совершенно незнакомых ему людей. Почти ничего не изменилось, даже мебель осталась на тех же местах, но Эстебану все показалось другим – деревянный пол коридора был истерт, стекла разбиты и неумело залатаны кусками картона, пыльные пальмы чахли в грязных глиняных горшках, стоящих на фаянсовых облупившихся подставках. Зловоние от мочи и прокисшей еды вызывало у него спазмы в желудке. «Какая бедность!» – подумал Эстебан, не задавая себе вопроса, куда ушли все деньги, которые он посылал сестре, чтобы им жилось прилично.
Ферула вышла навстречу, поздоровалась. Она очень изменилась, от пышнотелой женщины, какой он ее помнил, ничего не осталось, она похудела, на угловатом лице выделялся огромный нос. Вид у сестры был меланхоличный, она казалась подслеповатой, от нее исходил крепкий запах лаванды и старой одежды. Они молча обнялись.
– Как себя чувствует мама? – спросил Эстебан.
– Иди к ней, она ждет тебя, – ответила Ферула.
Они пошли по коридору, миновали комнаты с высокими потолками и узкими окнами – все одинаковые, темные. Стены их выглядели какими-то траурными, хотя и были оклеены цветастыми обоями с изображениями томных барышень. Все было покрыто копотью жаровни и патиной времени и бедности. Издалека доносился голос радиодиктора, рекламирующего пилюли доктора Росса, маленькие, но эффективные при запоре, бессоннице и затрудненном дыхании. Остановились перед дверью спальни доньи Эстер Труэбы.
– Она здесь, – сказала Ферула.
Эстебан открыл дверь, ему потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к темноте. В лицо ударил запах лекарств и гниения, сладковатый запах пота, сырости, заточения и какой-то еще, который поначалу он не смог определить, но скоро тот прилип к нему, как чума, – запах разлагающейся плоти. Свет тонкой струйкой лился через полуоткрытое окно. Он увидел широкую кровать, на которой умер его отец и где спала его мать со дня своей свадьбы, – кровать резного черного дерева под балдахином с вышитыми гладью ангелами и остатками красной парчи, поблекшей от времени. Мать полулежала. Это была глыба плотного мяса, чудовищная пирамида из жира и тряпья, увенчанная маленькой лысой головой с нежными, наивными, удивительно живыми голубыми глазами. Болезнь превратила ее в монолит, суставы не сгибались, голова не поворачивалась, пальцы скрючились подобно лапам окаменевшего животного, и чтобы она могла полулежать в кровати, в изголовье был поставлен ящик, который поддерживался деревянным брусом, прикрепленным к стене. Ход времени прочитывался по следам, что оставил деревянный брус на стене, по следам страдания и боли.
– Мама… – пробормотал Эстебан, и голос его оборвался.
Грудь сдавило от сдерживаемых рыданий, и в одно мгновение стерлись горькие воспоминания о бедном детстве, прогорклых запахах, холодных утрах, жирном супе, о больной матери, неведомо где гуляющем отце и о ярости, что пожирала его изнутри с того дня, как он стал себя помнить. Все забылось, кроме радостных мгновений, когда эта незнакомая женщина, лежащая в кровати, нянчила его на своих руках, дотрагивалась до лба, испугавшись, что у него температура, пела ему колыбельную песенку, склонялась вместе с ним над страницами книг, страдала от горя, когда видела, что ему нужно рано вставать и идти на работу, еще ребенку, плакала от радости за него, рыдала, когда он возвращался поздно, мама, из-за меня.
Донья Эстер протянула руку, но это было не приветствием, а жестом, которым она хотела остановить его.
– Сын, не подходите. – Голос ее не изменился, таким Эстебан и помнил его, певучим и молодым, как у девушки.
– Это из-за запаха, – сухо пояснила Ферула. – Он не исчезает.
Эстебан откинул уже обтрепавшееся покрывало из камчатной ткани и увидел ноги матери. Две синеватые колонны, слоноподобные, покрытые язвами, где, проделав тоннели, жили личинки мух и червяки, две ноги, гниющие при жизни хозяйки, со ступнями бледно-синеватого цвета, без ногтей, исчезнувших в гное, в черной крови, в мерзких червях, питавшихся ее плотью, – «Боже, мама, моей плотью».
– Доктор хочет ампутировать их, сын, – сказала донья Эстер спокойным, юным голосом, – но я слишком стара для операции и очень устала от страданий, уж лучше так и умру. Но я не хотела умирать, не повидав вас, ведь все эти годы я думала, что вас нет в живых и что письма от вас пишет ваша сестра, дабы не причинять мне боли. Встаньте к свету, сын, мне хочется как следует разглядеть вас. Боже! Вы похожи на дикаря!
– Я жил в деревне, мама, – пробормотал он.
– Конечно! Выглядите вы еще очень крепким. Сколько же вам лет?
– Тридцать пять.
– Прекрасный возраст для женитьбы и тихой жизни, и я могла бы умереть спокойно…
– Вы не умрете, мама! – застонал Эстебан.
– Я хочу быть уверенной в том, что у меня будут внуки, родные мне по крови, что они будут носить нашу фамилию. Ферула потеряла всякую надежду выйти замуж, но вы должны подыскать себе супругу. Женщину порядочную, христианку. Но сперва вам нужно подстричься и сбрить бороду. Вы меня слышите?
Эстебан кивнул. Он встал на колени перед матерью и припал лицом к ее раздувшейся руке, но запах тотчас оттолкнул его. Ферула подошла и вывела его из комнаты, полной страдания. За дверями он глубоко вздохнул, почувствовал прилипший к ноздрям запах, и тут опять ощутил ярость, столь знакомую ему, приливавшую горячей волной к голове, ослеплявшую глаза. Эта ярость вырвала из его уст проклятия, достойные пирата. «Из-за того что все это время я не думал о вас, мама, оттого что не заботился, не любил, не был достаточно внимательным, ярость к себе, сукин я сын, нет, простите, мама, я не то хотел сказать, черт побери, она умирает, старая, а я ничего не могу поделать, даже уменьшить боль, спасти от гниения, от этого ужасного запаха, от этого смертельного бульона, в котором Вы варитесь, мама…»
Два дня спустя донья Эстер Труэба умерла на своем ложе пытки, где она так мучилась все последние годы. В час смерти она оказалась одна. Ее дочь Ферула ушла, как обычно по пятницам, в квартал Милосердия, в приюты для бедных и в монастырь, читать молитвы нищим, безбожникам, проституткам и сиротам – а те бросали в нее мусор, плевались и выливали на нее содержимое плевательниц. Она стояла на коленях в галерее небольшого монастыря, неустанно выкрикивала «Отче наш» и «Аве Мария», терпела все свинские выходки нищих, проституток и сирот, плакала от унижения, взывала к прощению тех, кто не ведает, что творит, терзалась оттого, что слабеет, что смертельная усталость превращает ее ноги в вату, что летний жар затопляет грехом ее тело. «Отведи от меня эту чашу, Боже, ведь все нутро у меня горит адским пламенем. О Иисусе, я так послушна Твоей воле, так боюсь греха, Отче наш, не дай мне впасть в искушение».
Эстебана тоже не было рядом с доньей Эстер в безмолвный час ее смерти. Он ушел навестить семью дель Валье, посмотреть, не осталось ли у них незамужней дочери. После стольких лет жизни в глуши он не мог сообразить, как выполнить обещание, данное матери, подарить ей законных внуков, и решил, что, если Северо и Нивея его приняли прежде, когда он был бедным женихом красавицы Розы, нет никакой причины не принять его снова, теперь, когда он стал богатым и ему уже не надо рыть землю, чтобы найти золото, напротив, у него есть свой счет в банке и деньги, необходимые для свадьбы.
Вечером Эстебан и Ферула нашли свою мать в постели уже мертвой. На устах ее была тихая улыбка, словно в последний миг жизни боль перестала терзать ее тело.
* * *
Когда Эстебан Труэба пришел к ним с визитом, Северо и Нивея вспомнили те слова, что Клара произнесла после долгого молчания; и они ничуть не удивились, когда гость спросил, нет ли у них какой-нибудь дочери на выданье. Они рассказали, ничего не утаивая, что Ана постриглась в монахини, Тереса очень больна, а остальные замужем, кроме Клары, самой младшей, она свободна, но несколько эксцентрична и мало пригодна для домашней жизни и матримониальных обязанностей. Как истинно порядочные люди, они поведали ему о странностях младшей дочери, не скрыв того, что половину своей жизни она не говорила, потому что не хотела говорить, а не оттого, что не могла, как очень толково объяснил им румын Ростипов и затем подтвердил доктор Куэвас. Но Эстебан Труэба был не из тех, кого можно было испугать историями о призраках, бродящих по коридорам, о предметах, двигающихся с помощью таинственной силы, или о предсказаниях несчастий, и уж тем более его нельзя было испугать рассказом о долгом молчании, ибо молчание он считал добродетелью. Он находил, что ни одно из этих чудачеств не помешает Кларе родить здоровых детей, и попросил представить его девушке. Нивея вышла поискать дочь, а мужчины остались в гостиной одни, и Труэба решил воспользоваться случаем и откровенно рассказать о своем экономическом положении.
– Пожалуйста, не продолжайте, Эстебан! – прервал его Северо. – Прежде всего вам нужно познакомиться с девушкой, узнать ее лучше, а кроме этого, не худо было бы узнать желание самой Клары. Разве не так?
Вскоре Нивея вернулась вместе с дочерью. Девушка вошла в гостиную с обветренными щеками и черными ногтями, она помогала садовнику высаживать клубни георгинов. Ясновидение изменило ей в этот день: она не была готова к встрече будущего жениха. Увидев ее, Эстебан встал пораженный. Он помнил Клару худенькой, астматической малюткой, отнюдь не грациозной, а девушка, которая предстала перед ним, напоминала великолепную статуэтку слоновой кости, с нежным лицом, копной каштановых волос, вьющихся в беспорядке, кольцами выбивающихся из прически, с печальными глазами, которые становились насмешливыми и искрящимися, когда, слегка закинув голову назад, она смеялась очень искренним и открытым смехом. Она поздоровалась с ним за руку без какой-либо робости.
– Я вас ждала, – просто сказала она.
Уже прошли два часа, а визит вежливости все продолжался. Говорили о любви, о путешествиях в Европу, о политическом положении в стране и о зимних холодах, пили мистелу и ели пирожные из слоеного теста. Эстебан наблюдал за Кларой со всей тактичностью, на какую только был способен, и чувствовал, как девушка все более и более пленяет его. Он не мог припомнить, чтобы после того великого дня, когда он увидел Розу, красавицу, покупающую анисовую карамель в кондитерской на Пласа де Армас, кто-то еще заинтересовал его так, как Клара. Он про себя сравнивал двух сестер и признался, что Клара превосходила сестру в обаянии, хотя Роза, несомненно, была гораздо более красивой. Стемнело, пришли две служанки – задернуть занавески и зажечь свечи, только тут Эстебан сообразил, что визит его слишком затянулся. О да, его манеры оставляли желать много лучшего. С каменным лицом он попрощался с Северо и Нивеей и попросил разрешения снова навестить Клару.
– Надеюсь, я не наскучил вам, Клара, – сказал он, краснея. – Я человек грубый, провинциальный и по крайней мере лет на пятнадцать старше. Не знаю, как вести себя с такой юной девушкой, как вы…
– Вы хотите жениться на мне? – спросила Клара, и он заметил, что ее ореховые глаза иронически блеснули.
– Клара, побойся Бога! – воскликнула ее мать в ужасе. – Простите ее, Эстебан, девочка всегда была дерзкой.
– Я хочу знать это, чтобы не терять времени, – пояснила Клара.
– Мне тоже по сердцу прямота, – радостно улыбнулся Эстебан. – Да, Клара, поэтому я и пришел.
Клара взяла его под руку и проводила до выхода. Прощаясь, они взглянули друг на друга, и Эстебан понял, что она согласна, и радость наполнила его. В экипаже он ехал, улыбаясь, не смея поверить своему счастью и не понимая, почему такая очаровательная девушка, как Клара, приняла его предложение, даже не познакомившись с ним. Он не знал, что она уже давно увидела свою судьбу и поэтому давно была готова выйти замуж без любви.
Из уважения к трауру в семье Эстебана помолвку отложили на два месяца; Эстебан ухаживал за Кларой по старинке, так же как прежде ухаживал за ее сестрой Розой, и ему даже в голову не приходило, что Клара не любит анисовую карамель, а акростихи вызывают у нее смех. В конце года, в рождественские дни, официально через газету объявили о помолвке. Эстебан и Клара обменялись обручальными кольцами в присутствии родственников и друзей общим числом в сто человек на банкете Пантагрюэля: беспрерывно приносились подносы с фаршированными индюшками, с засахаренными поросятами, со свежепойманными угрями, с лангустами в сухарях, с живыми устрицами, апельсинно-лимонными лепешками от кармелиток, орехово-лимонными – от доминиканок, шоколадом и гоголем-моголем от монахинь Святой Клариссы. Приносили шампанское, несколько ящиков которого доставили из Франции благодаря консулу: тот, пользуясь дипломатическими привилегиями, провез их контрабандой. Все это подавалось старыми слугами в черных повседневных передниках, чтобы придать празднику видимость скромной семейной встречи, так как еще с давних времен, когда суровые и несколько мрачные потомки самых мужественных кастильских и баскских конкистадоров стали родоначальниками этой семьи, всяческая помпезность считалась пошлостью и порицалась как грех светского тщеславия и признак дурного вкуса. Клара предстала видением из белых кружев шантильи и свежих камелий, она трещала как сорока, словно мстила за девятилетнее молчание, танцевала с женихом и совершенно забыла о духах, которые из-за занавесок отчаянными знаками давали о себе знать, но в толчее и суматохе она их не замечала. Сама церемония помолвки была точно такой же, как в эпоху колониального владычества. В десять часов вечера один из слуг зазвенел хрустальным колокольчиком, музыка смолкла, танцы прекратились, и гости собрались в главной зале. Маленький наивный священник, облаченный в одеяние для торжественной мессы, прочитал путаную проповедь, в которой восхвалял неясные и нереальные добродетели жениха и невесты. Клара его не слушала; когда затихли музыка и голоса гостей, она вдруг услышала шепот духов и поняла, что уже много часов не видела Баррабаса. Она поискала его взглядом, попыталась разобраться в своих ощущениях, но мать, толкнув локтем, вернула ее к действительности. Священник закончил свою речь, благословил золотые кольца, и Эстебан сразу же надел одно кольцо на палец невесте, а другое себе.
В этот момент ужасный крик потряс собравшихся. Люди расступились, и Клара увидела Баррабаса. Он был черен и огромен как никогда, в его спину был по рукоятку вонзен мясницкий нож. Баррабас истекал кровью, как бык, его длинные, словно у молодого жеребца, ноги дрожали, с морды стекала струя крови, глаза были затянуты пленкой, едва живой, он двигался вперед зигзагами, как раненый динозавр. Клара упала на обитый французским шелком диван. Пес подошел к ней, положил могучую голову тысячелетнего зверя на колени и пристально посмотрел на нее влюбленными и уже почти слепыми глазами; белое платье из кружев шантильи, французский шелк дивана, персидский ковер и паркет – все уже было в крови. Баррабас умирал медленно, не сводя глаз с Клары, а та ласкала его, гладила уши, шептала слова утешения; наконец, простонав, он навеки затих. Тогда все словно бы очнулись от кошмара, поднялся шум, объятые страхом гости стали торопливо прощаться; обходя лужи крови, хватали свои меховые боа, цилиндры, трости, зонтики, дамские сумочки. И вскоре в гостиной остались только Клара с собакой на коленях, ее родители – они, обняв друг друга, застыли, точно парализованные, охваченные дурным предчувствием, – и жених, не понимающий, отчего поднялся такой переполох, ведь просто-напросто сдохла собака. Потом он увидел, что Клара будто погрузилась в сон, тогда он взял ее на руки и отнес в спальню; благодаря заботам Нянюшки и солям доктора Куэваса девушка не впала вновь в немоту и оцепенение. Эстебан Труэба попросил садовника помочь ему, вдвоем они подняли труп Баррабаса – тот, мертвый, словно потяжелел, так что его почти невозможно было нести, и уложили в повозку.
* * *
К свадьбе готовились целый год. Нивея занялась приданым Клары, ведь та не проявляла никакого интереса к содержанию сандаловых сундуков; она все пыталась сдвинуть с места стол о трех ножках и гадала на картах. Искусно вышитые простыни, льняные скатерти и нижнее белье, которое десять лет назад монашки соткали для Розы, с перекрещенными инициалами Труэбы и дель Валье, пригодились для Клариного приданого. Нивея в Буэнос-Айресе, в Париже и Лондоне заказала дорожные костюмы, платья для деревни, праздничные наряды, модные шляпки, туфли и сумки из кожи ящериц и из замши и многое-многое другое. Все это было упаковано в шелковистую бумагу, переложено лавандой и листьями эвкалипта, но на все свое приданое невеста лишь раз взглянула рассеянно.
Эстебан Труэба нанял бригаду каменщиков, плотников, водопроводчиков и стал возводить прочный, просторный, с большими окнами дом – такой дом, какой только можно вообразить и какой должен был стоять тысячу лет для будущих поколений многочисленной семьи Труэба. Он поручил руководить строительством французскому архитектору, заказал материал за границей. Он хотел, чтобы такого дома больше не было нигде на свете – с немецкими витражами, с цоколем, отшлифованным в Австрии, с бронзовыми английскими кранами, с полом из итальянского мрамора, замками и задвижками, выписанными по каталогу из Соединенных Штатов, – их привезли с перепутанными инструкциями и без ключей. Напуганная расходами Ферула пыталась убедить брата не безумствовать, не покупать французскую мебель, висячие люстры и турецкие ковры; говорила, они вот-вот разорятся, напоминала о сумасбродствах их отца. Но Эстебан отвечал, что он достаточно богат, чтобы позволить себе подобную роскошь, и грозил, если она не перестанет ему мешать, обить двери серебром. Тогда она стала твердить, что мотовство, несомненно, является смертным грехом и Бог накажет их за то, что они тратят деньги на всякую нуворишскую пошлость, а не раздают их беднякам.
Хотя Эстебан Труэба не был сторонником нововведений, с презрением относился ко всем нынешним переменам, он хотел, чтобы дом при сохранении классического стиля был построен, как строили в последнее время в Европе и Северной Америке, со всеми удобствами. Ему очень хотелось, чтобы его дом даже отдаленно не напоминал здешние здания. Он отрекался от трех двориков, коридоров, заржавленных раковин, темных комнат, пыльной черепицы, стен из необожженного кирпича, побеленных известью. Ему виделся дом в два или три этажа, мерещились ряды белоснежных колонн, парадная лестница, которая, слегка закругляясь, вела бы в беломраморную залу, огромные, освещенные солнцем окна – словом, дом, в котором царили бы порядок и гармония, современный и опрятный дом, какие строят в цивилизованных странах, дом для его новой жизни. Этот дом должен стать отражением его самого, его семьи, дом должен был смыть пятно с фамилии, запачканной его отцом. Он хотел, чтобы с улицы дом сразу бросался в глаза, и велел разбить французский сад с огромным тентом, цветочными клумбами, ровным искусственным лугом, фонтанами и статуями богов Олимпа и еще, может быть, со статуей какого-нибудь храброго индейца, обнаженного и увенчанного перьями, – в качестве уступки патриотам Америки. Он и представить себе не мог, что этот пышный, точно раздувающийся от важности, и в то же время компактный особняк, похожий среди зелени и грубых городских построек на шляпу, вскоре обрастет по прихоти Клары пристройками, многочисленными винтовыми лестницами, ведущими в пустоту, башнями, неоткрывающимися оконцами, дверями, висящими в воздухе, извилистыми коридорами и круглыми дырами в стенах для того, чтобы можно было разговаривать во время сиесты. Всякий раз, когда нужно будет разместить нового гостя, Клара будет отдавать распоряжение построить еще одну комнату в любой части дома, а если духи укажут, что где-то имеются спрятанные сокровища или непогребенный труп в фундаменте, прикажет снести ту или иную стену, и в конце концов дом превратится в заколдованный лабиринт, и в этом жилище, бросившем вызов всем законам архитектуры, никогда не будет чистоты и порядка. Но тот дом, который построил Труэба и который все называли «великолепным домом на углу», был величественным и прекрасным, он даже гармонировал со всем, что его окружало. Новое жилье должно было помочь хозяину забыть лишения своего детства. Клара ни разу не взглянула на особняк, пока его строили. Казалось, дом так же мало интересует ее, как и приданое, и она возложила все заботы на своего жениха и его сестру.
Ферула после смерти матери оказалась в одиночестве, не зная, чему можно было бы теперь посвятить жизнь, в возрасте, когда уже и не мечтают выйти замуж. Сначала в каком-то лихорадочном рвении благочестия она ежедневно посещала дома бедняков. Это привело к хроническому бронхиту, но не дало покоя ее измученной душе. Эстебан хотел, чтобы она ездила по свету, покупала наряды, развлекалась – впервые за время своего печального существования; но она слишком привыкла к жизни без развлечений, слишком долго жила взаперти. Она всего боялась. Будущее бракосочетание брата ввергло ее в панику, она думала, что брак вновь отдалит от нее Эстебана, а ведь брат был сейчас ее единственной поддержкой. Она боялась окончить дни в приюте для старых дев из хороших семей, с вязальным крючком в руках, и поэтому почувствовала себя безумно счастливой, когда поняла, что Клара несведуща во всем, что касается домашних дел. Всякий раз, когда Клара сталкивалась с необходимостью решить что-либо конкретное, она становилась замкнутой и рассеянной. «В ней есть что-то от дурочки», – в восторге заключила Ферула. Было совершенно ясно, что Клара не в состоянии управлять этаким домищем, какой строит Эстебан, что ей будет нужна помощь. Ведя разговор весьма хитроумно, Ферула давала Эстебану понять, что его будущая жена не годится для ведения хозяйства и что она, со своей так хорошо известной ему жертвенностью, готова помогать ей во всем. Эстебан отмалчивался. День бракосочетания неуклонно приближался, и Ферула, проклиная судьбу, все чаще приходила в отчаяние. Уверенная, что с братом она ни о чем не договорится, Ферула стала искать случая поговорить наедине с Кларой и однажды в субботу, в пять часов дня, встретила ее на улице. Она пригласила Клару во французский отель на чашку чая. Они сели за столик: множество пирожных с кремом, баварский фарфор; в глубине зала девушки исполняли меланхоличный струнный квартет. Ферула, не зная, как приступить к разговору, молча смотрела на будущую невестку, та выглядела пятнадцатилетней девочкой, голос после долгого молчания все еще казался как бы расстроенным. Не проронив ни слова, они управились с целым подносом печенья и выпили по две чашки жасминного чая. Наконец Клара поправила выбившийся локон, упавший ей на глаза, улыбнулась и ласково похлопала Ферулу по руке.
– Не бойся. Ты будешь жить вместе с нами, и мы станем с тобой как сестры.
Ферула вздрогнула – неужели Клара и вправду умеет читать чужие мысли, как о том ходят слухи. Из гордости она собиралась отвергнуть предложение жить вместе с молодоженами, но Клара не дала ей и слова сказать. Она наклонилась и поцеловала Ферулу в щеку так искренно и невинно, что та, потрясенная, разрыдалась. Ферула уже много лет как не пролила ни единой слезинки и только теперь поняла, насколько нуждалась хоть в капле нежности. Она не помнила, чтобы хоть раз что-нибудь тронуло ее так глубоко, как этот Кларин поцелуй. Она наплакалась вдоволь, давая выход горестям и печалям прошлых лет, плакала от дружеского участия Клары, а та помогала ей вытирать слезы и кормила ее, зареванную, кусочками пирожного и поила чаем. Они проплакали и проговорили до восьми вечера и здесь, во французском отеле, договорились, что будут дружить; и дружба их длилась много лет.
Когда кончился траур по донье Эстер и был готов «великолепный дом на углу», Эстебан Труэба и Клара дель Валье поженились, причем церемония бракосочетания была совсем скромной. Эстебан подарил Кларе бриллиантовые украшения, она нашла их очень изящными, спрятала в обувную коробку и тут же о них забыла. Они отправились на пароходе в Италию, и уже на второй день пути, несмотря на то что плавание вызвало у Клары морскую болезнь, а невольное заточение в каюте – астму, Эстебан почувствовал себя влюбленным юношей. Сидя рядом с ней в узкой каюте, прикладывая ей ко лбу мокрое полотенце и поддерживая ее во время приступов тошноты, он ощущал себя счастливым и страстно желал ее, хотя и понимал, что сейчас она не может отдаться ему. На четвертый день она почувствовала себя лучше, и они вышли на палубу полюбоваться морем. Когда он увидел ее обветренный, покрасневший нос, услышал, как она смеется по любому поводу, Эстебан поклялся себе, что рано или поздно заставит ее влюбиться, она полюбит его так, как он того хочет, даже если ему придется лезть вон из кожи. Он понимал, конечно, что Клара не принадлежит ему и что, если она будет продолжать жить в мире призраков, в мире столиков, двигающихся сами по себе, и карт, определяющих будущее, она никогда и не станет ему принадлежать. Природной чувственности Клары ему было недостаточно. Он хотел гораздо большего, чем ее тело, он хотел завладеть непонятной ему яркой сутью ее натуры, а она ускользала от него даже в минуты, когда, казалось, задыхается от наслаждения. Он чувствовал, что руки у него чересчур тяжелые, ноги чересчур большие, голос грубый, борода колючая. Понимал, что привычка к насилию и проституткам слишком сильна в нем, но он хотел заполучить ее, хотя бы ему пришлось вывернуться для этого наизнанку.
Они вернулись из свадебного путешествия через три месяца. Ферула ожидала их в новом доме, где все еще пахло краской и цементом, но уже были расставлены цветы и блюда с фруктами, как перед отъездом распорядился Эстебан. Через порог дома Эстебан перенес жену на руках. Сестра, к своему удивлению, не почувствовала ревности и нашла, что Эстебан выглядит помолодевшим.
– Женитьба пошла тебе на пользу, – сказала она.
Она повела Клару осмотреть дом. Клара окидывала комнаты мимолетным взглядом и находила все очень милым; восхищалась она с той же учтивостью, с какой приходила в восторг от захода солнца на море, площади Святого Марка и бриллиантовых украшений. Перед дверями комнаты, предназначенной для нее, Эстебан попросил Клару закрыть глаза и, взяв за руку, провел на середину спальни.
– Теперь можешь открыть, – сказал он в упоении.
Клара осмотрелась. Это была большая комната со стенами, обитыми синим шелком, с английской мебелью, огромными окнами с балконами, выходящими в сад, и кроватью под балдахином с газовыми занавесками. Кровать напоминала парусник, плывущий по тихим водам синего шелка.
– Очень мило, – проговорила Клара.
Тогда Эстебан попросил ее посмотреть под ноги. Он приготовил для нее прелестный сюрприз. Клара опустила глаза и закричала в ужасе: она стояла на черной спине Баррабаса – тот, превращенный в ковер, лежал, раскинув лапы, с нетронутой головой, и стеклянными глазами смотрел на нее с беззащитностью чучела. Муж успел подхватить ее, иначе она упала бы на пол.
– Я же тебе говорила, Эстебан, не делай этого, – сказала Ферула.
Шкуру Баррабаса тотчас унесли из комнаты и сложили в углу подвала, рядом с таинственными ящиками дяди Маркоса, где лежали его магические книги и другие сокровища. Там, упорно противясь моли и забвению, она ждала своего часа, пока новые поколения дель Валье не вынесли ее на свет божий.
Очень скоро всем стало ясно, что Клара в положении. Нежность, которую прежде испытывала Ферула к невестке, превратилась в страсть заботиться о ней, в самоотверженное служение и беспредельную терпимость к ее рассеянности и чудачествам. Для Ферулы, которая посвятила всю свою жизнь заботам о медленно гниющей старой матери, ухаживать за Кларой стало верхом блаженства. Она купала ее в воде, пахнувшей жасмином и базиликом, терла губкой, намыливала, опрыскивала одеколоном, пудрила пуховкой из лебединого пуха и расчесывала волосы, пока они не становились мягкими, подобно морским водорослям, – словом, делала все так, как до нее это делала Нянюшка.
Задолго до того, как он успел насытиться молодой супругой, Эстебан Труэба вынужден был вернуться в Лас-Трес-Мариас. В имении он не был уже больше года, и там, несмотря на все усердие Педро Сегундо Гарсиа, требовалось присутствие хозяина. Имение, недавно казавшееся ему раем и бывшее его гордостью, теперь стало вызывать раздражение. Он смотрел на пасущихся коров, на крестьян, медленно делающих одну и ту же работу – изо дня в день в течение всей жизни, – на вечно заснеженные горы и ломкий столб дыма, поднимающегося над вулканом, и чувствовал себя словно в плену.
Пока Эстебан пребывал в деревне, жизнь «великолепного дома на углу» менялась – женщины приспосабливались к тихому существованию без мужчины. По давней сохранившейся привычке рано вставать Ферула просыпалась первой, но невестке позволяла спать допоздна. Она приносила Кларе завтрак в постель, раздвигала шелковые занавески, чтобы солнце вошло в спальню, наполняла фарфоровую ванну, расписанную водяными лилиями, а у Клары было достаточно времени стряхнуть с себя тяжелый сон, поздороваться по очереди со всеми витающими вокруг духами, взять поднос и окунуть гренки в густой шоколад. Затем Ферула помогала ей спуститься с кровати, осыпала материнскими ласками, пересказывала приятные известия из газет. Их с каждым днем становилось все меньше, и Ферула сплетничала о соседях, рассказывала о домашних мелочах, придумывала что-либо забавное – Клара все находила очень милым, но через пять минут она уже ничего не помнила, так что можно было рассказывать о том же самом несколько раз подряд, и Клара снова смеялась, как если бы слышала это все впервые.
Ферула выводила ее гулять, чтобы она побывала на воздухе, да и младенцу это полезно; предлагала заняться покупками – «чтобы, когда он родится, у него все было, а белье надо покупать самое тонкое»; предлагала пообедать в гольф-клубе – «чтобы все видели, как ты похорошела с тех пор, как вышла замуж за моего брата»; навестить родителей – «чтобы не думали, что ты их забыла»; театр – «чтобы не сидела весь день дома взаперти». Делать с собой все что угодно Клара позволяла с деликатностью, которая была вызвана не глупостью, а лишь отчужденностью от мира; в эти дни она постоянно пыталась телепатически связаться с Эстебаном, хотя и безрезультатно, а к тому же старалась улучшить дар ясновидения.
Ферула впервые в жизни чувствовала себя счастливой. Она была близка с Кларой так, как никогда ни с кем, даже со своей матерью. Женщине менее своеобразной, чем Клара, в конце концов надоело бы чрезмерное баловство и постоянные заботы золовки, или она полностью подчинилась бы педантичному и властному характеру Ферулы. Но Клара просто жила в другом мире. Ферула ненавидела, когда ее брат время от времени возвращался из провинции и вваливался к ним, – он нарушал установившуюся за время его отсутствия гармонию в доме. При Эстебане она должна была уходить в тень и всегда держаться настороже – как в обращении с прислугой, так и в проявлении внимания к Кларе. Каждую ночь, когда супруги уходили спать, она чувствовала, как ее наполняет неведомая прежде ненависть, которую она не могла никак объяснить и которая разъедала душу. Чтобы избавиться от этого, она снова стала читать молитвы в домах бедняков и исповедоваться падре Антонио.
– Слава Пресвятой Деве!
– Зачавшей без греха.
– Я слушаю тебя, дочь моя.
– Падре, не знаю, как и начать. Думаю, я совершила грех…
– Плотский?
– О нет! Плоть молчит, падре, но дух вопиет. Меня терзает дьявол.
– Милость Божия бесконечна.
– Но, падре, вы не знаете, какие мысли могут приходить в голову одинокой женщине, девственнице, ведь я не знала мужчины, не из-за нежелания своего, а потому что Бог уготовал моей матери долгую болезнь, а я должна была ухаживать за ней.
– Эта жертва тебе зачтется на Небесах, дочь моя.
– Даже если являются грешные мысли, отец?
– Ну, все зависит от того, что за мысли…
– По ночам я не могу спать. Чтобы успокоиться, я встаю и иду в сад, брожу по дому, иду к комнате своей невестки, прикладываю ухо к двери, иногда на цыпочках вхожу в спальню, подхожу к ней – она кажется ангелом, когда спит, и мне хочется улечься к ней в кровать и почувствовать тепло ее тела и ее дыхания.
– Молись, дочь. Молитва помогает.
– Подождите, я не сказала вам всего. Я стыжусь сказать.
– Ты не должна стыдиться меня, я ведь – орудие Божие.
– Когда брат приезжает из деревни, мне становится хуже, много хуже, отец. Молитва уже не помогает, я не могу спать, покрываюсь испариной, дрожу, наконец встаю и хожу по дому впотьмах, ступаю осторожно, чтобы не скрипнул пол. Я слышу их голоса из-за двери их спальни, и однажды я увидела их, так как дверь была полуоткрыта. Я не могу рассказать о том, что увидела, падре, но это тяжкий грех. И Клара ни в чем не виновата, она невинна, как дитя. Мой брат толкает ее на это. Он, он обрекает себя на вечные муки.
– Только Бог может судить и обречь, дочь моя. Что же делали они?
И Ферула в течение получаса рассказывала все в деталях. Она была отличной рассказчицей, умела держать паузу, меняла интонацию, объясняла, не помогая себе жестами, так описывала пережитое, что слушающий сам начинал видеть все словно воочию. Просто немыслимо, как это при полуоткрытой двери она могла почувствовать содрогания тел в постели, услышать слова, сказанные шепотом на ухо, почуять запахи плоти, – просто чудо, что правда, то правда. Бурно излив душу, Ферула возвращалась домой с непроницаемой маской идола, строгая и невозмутимая. Снова отдавала приказания прислуге, считала приборы, распоряжалась обедами, гремела ключами. Требовала: положите это здесь – и ее приказание исполняли немедленно, поставьте свежие цветы в вазы – их тут же ставили, вымойте стекла, пусть замолчат эти чертовы птицы, этот гам не дает спать сеньоре Кларе, от кудахтанья перепугается младенец и родится больным. Ничто не ускользало от ее неусыпного взгляда, она всегда была занята делом, – в отличие от Клары, которая все находила очень милым, и ей было все равно, что съесть, фаршированные трюфели или остатки супа, спать в постели или сидя на стуле, купаться в душистой воде или совсем не мыться. По мере того как подходила к концу ее беременность, Клара, казалось, все более отдалялась от реального мира, в тайном и непрерывном диалоге с младенцем все более уходила в себя.
Эстебан хотел, чтобы родился сын, он продолжил бы род Труэба.
Но в первый же день своей беременности Клара сказала, что это девочка и зовут ее Бланка. Так и оказалось.
Доктор Куэвас, которого Клара в конце концов перестала бояться, подсчитал, что роды должны произойти в середине октября, но еще и в начале ноября Клара в сомнамбулическом состоянии ходила с огромным животом, все более рассеянная и усталая, измученная астмой, безразличная ко всему, что ее окружало, – в том числе и к мужу, которого иногда даже не узнавала и, когда видела, спрашивала: «Что вам угодно?» Доктор исключал возможность какой-либо ошибки в своих подсчетах, и, поняв, что Клара не намерена рожать как все, он прибегнул к кесареву сечению и извлек Бланку на свет божий. Девочка оказалась более волосатой и безобразной, чем обычно бывают младенцы. Эстебана зазнобило, когда он увидел дочь, – судьба посмеялась над ним и вместо сына-наследника, которого он пообещал матери перед смертью, он породил чудовище и, в довершение ко всему, женского пола. Эстебан сам обследовал девочку и убедился, что все на своем месте, но все-таки многое в новорожденной выглядело непривычным. Доктор Куэвас стал объяснять, что малышка такой родилась оттого, что провела в утробе матери больше времени, чем полагается, оттого, что пришлось прибегнуть к кесареву сечению, и оттого, что такое уж строение у этой маленькой, худенькой, смуглой и волосатой девочки. Зато Клара своей дочерью была очарована. Казалось, она проснулась от спячки и радовалась тому, что, родив, осталась живой. Она взяла девочку на руки и больше не выпускала: ходила с ней, прижав к груди, постоянно кормила ее грудью, не соблюдая никакого режима, забыв о хороших манерах и стыдливости, словно какая-нибудь индианка. Она не захотела завернуть ее в пеленки, остричь волосы, проделать дырочки в мочках ушей, нанять няньку, а уж тем более не собиралась кормить ее молоком, сделанным в какой-нибудь лаборатории, – так, как поступали все богатые сеньоры. Не вняла она и совету Нянюшки: давать ребенку разбавленное рисовым отваром коровье молоко, она считала, что, если бы природа пожелала вскармливать детей таким молоком, она позаботилась бы сделать так, чтобы в материнской груди находилось именно оно. Клара все время разговаривала с девочкой, она не пользовалась ни уменьшительными суффиксами, ни так называемым детским языком, говорила на правильном испанском, как если бы разговаривала со взрослой, – так же спокойно и разумно, как говорила с животными и растениями. Она была уверена, что если те понимали ее, то нечего опасаться, будто ее не поймет дочь. Благодаря материнскому молоку и постоянным разговорам, Бланка превратилась в здоровую и почти красивую девочку. Вскоре она совсем не походила на то чудище, каким казалась при рождении.
Спустя несколько недель после появления Бланки, вновь начав шалости на паруснике в тихих водах синего шелка, Эстебан Труэба убедился, что его супруга, родив, ни на йоту не утратила своего очарования и расположения к утехам, скорее наоборот. А у Ферулы, занятой заботами о девочке, обладавшей здоровущими легкими, импульсивным характером и ненасытным аппетитом, уже совсем не оставалось времени ходить молиться в обитель, исповедоваться падре Антонио и тем более шпионить у полуоткрытой двери.