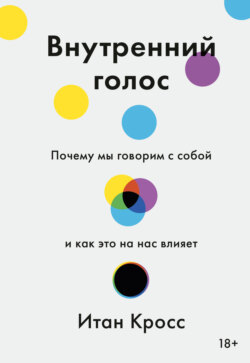Читать книгу Внутренний голос. Почему мы говорим с собой и как это на нас влияет - Ethan Kross, Итан Кросс - Страница 9
Глава 1. Почему мы говорим сами с собой
Изумительная многозадачность
ОглавлениеИзучая мозговую деятельность, нейроученые часто обращаются к концепции «многократного использования»: для достижения разных целей задействуются одни и те же нейронные цепи, то есть мы по максимуму эксплуатируем имеющиеся в нашем распоряжении нейронные ресурсы[25]. Например, гиппокамп – отдел мозга, напоминающий своей формой морского конька, – отвечает в механизмах формирования долгосрочной памяти и заодно помогает нам ориентироваться в пространстве. Мозг – очень талантливый многозадачный исполнитель. Если бы на каждую функцию приходилась отдельная нейронная цепь, мозг был бы размером с автобус. Как оказывается, с многозадачностью прекрасно справляется и внутренний голос.
Одна из функций мозга – поддерживать работу так называемой кратковременной памяти. Люди склонны расценивать память как хранилище романтических и ностальгических воспоминаний. В обыденном представлении это картины из прошлого, пережитые моменты и чувства, которые останутся с нами навсегда, чтобы связываться в рассказ о нашей жизни. Но дело в том, что ежедневно для осуществления жизнедеятельности мы должны запоминать некую информацию, несмотря на раздражающие и отвлекающие факторы (звуки, изображения, запахи и т. д.). Она актуальна на короткий промежуток времени – для участия в рабочих совещаниях или непринужденной беседы за ужином, – и большую часть этой информации мы забудем, как только необходимость в ней отпадет.
Благодаря кратковременной памяти мы способны запомнить сказанное несколько секунд назад – и в зависимости от этого выстраивать линию разговора. Например, мы читаем меню, делаем заказ и при этом не прерываем застольной беседы. Этот вид памяти включается, когда нужно срочно написать письмо по электронной почте, но после отправки послания информация не переходит на хранение в долговременную память. Когда она отказывает или работает с перебоями, нам все труднее становится справляться с обычными повседневными делами (например, проследить, чтобы дети почистили зубы, одновременно собирать им перекус в школу и подумать о назначенных на сегодня встречах). Внутренний голос тоже связан с кратковременной памятью.
Самый важный элемент кратковременной памяти – нейронная система, которая обрабатывает информацию, полученную вербальным путем. Она называется фонологической петлей, но проще всего представить ее как информационный центр, где анализируются любые актуальные вербальные проявления[26]. Она состоит из «внутреннего уха», позволяющего удерживать в памяти в течение нескольких секунд только что услышанные слова, и «внутреннего голоса», благодаря которому мы можем мысленно повторять слова, когда мы готовимся к презентации, запоминаем номер телефона или молимся. Чтобы мы могли эффективно действовать вовне и одновременно поддерживать внутренний диалог, кратковременная память использует нейронные проводящие пути фонологической петли. В детстве все мы преодолеваем этот рубеж, начиная вербально общаться с внешним миром, и с той поры наше сознание постоянно развивается[27]. Но функции фонологической петли выходят далеко за пределы немедленного реагирования на текущую ситуацию.
Речь и эмоции развиваются параллельно. Малыши, делающие первые шаги, размышляют вслух, и это помогает им себя контролировать. В начале XX века советский психолог Лев Выготский первым начал изучать взаимосвязь между развитием речи и самоконтролем[28]. Выготского заинтересовало необычное поведение детей, которые громко беседовали сами с собой, наставляли и критиковали себя. Любой, кто проводит достаточно времени с детьми, наблюдал эти спонтанные и полноценные беседы. Это не просто игра или работа воображения, а еще и признак развития нейронных сетей и эмоционального взросления.
В отличие от других ведущих ученых того времени, считавших подобное поведение этапом развития простодушного ребенка, Выготский придавал речи ведущее значение в развитии самоконтроля. Эту теорию он позднее подкрепил фактами. Психолог полагал, что, общаясь с теми, кто о нас заботится (обычно – с родителями), мы учимся управлять эмоциями. Авторитетные люди дают детям инструкции, которые те повторяют вслух, зачастую подражая взрослым. Сначала мы говорим громко. Затем произносим услышанное про себя. Позже, в процессе развития, используем слова для самоконтроля – и это уже на всю жизнь. Конечно, мы далеко не всегда поступаем так, как хотят родители. Речевой поток обретает собственные очертания и начинает определять поведение. Но детский опыт несомненно влияет на этот процесс.
Концепция Выготского не только объясняет, каким образом внутренний голос помогает нам себя контролировать. Она позволяет понять, как его настраивает (конечно, в определенной степени) процесс воспитания. Десятилетия изучения процесса социализации свидетельствуют о том, что окружение влияет как на восприятие мира, так и на представление о самоконтроле[29]. В детстве образцом самоконтроля служат родители, и модель их поведения влияет на развитие нашего внутреннего голоса. Например, отец постоянно напоминает, что кулаками спор не решить, а мать требует не сдаваться, потерпев неудачу. Мы повторяем эти установки про себя, и со временем они формируют вербальные модели[30].
Разумеется, на авторитетное мнение родителей, не терпящее возражений, влияет и культурная среда[31]. Например, в большинстве стран Азии не приветствуют тех, кто высовывается из толпы, так как это ослабляет социальную сплоченность. В западных странах (например, в США), напротив, родители поощряют в отпрысках проявления индивидуализма. На семейный уклад также влияют религия и ее ценности[32]. Другими словами, культурная среда формирует внутренние голоса наших родителей, а те, в свою очередь, воздействуют на нас. Таким образом, наше сознание развивается под влиянием разных культур и нескольких поколений, и наш внутренний голос напоминает матрешку.
В то же время связь культуры, родителей и детей не односторонняя. Поведение детей может влиять на внутренние рассуждения родителей, и, разумеется, человек воздействует на развитие культуры. Внутренний голос начинает проявляться в детстве, когда информация поступает извне, а затем мы начинаем говорить и влиять на окружающий нас мир[33].
Последние исследования, до результатов которых Выготский уже не дожил, подкрепили его теорию и подтвердили, что в семьях с развитой культурой общения у детей раньше просыпается внутренний голос. Более того, воображаемые друзья стимулируют ребенка рассуждать больше, глубже и многообразнее[34]. Последние исследования предполагают, что фантазия помогает развивать самоконтроль, а также другие желательные качества, такие как творческое мышление, уверенность и навыки общения[35].
Влияние внутреннего голоса на самоконтроль проявляется еще в одном: в оценке нашего поведения на пути к цели. Подобно приложению в смартфоне, позволяющему что-либо отслеживать, сознание контролирует нас в пассивном режиме: выполняем ли мы рабочие задачи, чтобы получить прибавку в конце года; делаем ли успехи на пути к мечте об открытии ресторана; развиваются ли отношения с человеком, который нам очень нравится. Мысли, в первую очередь связанные с целями, всплывают в сознании подобно напоминаниям о встречах на экране[36]. Внутренний голос так же напоминает о поставленных задачах.
Достижение целей в принципе невозможно без правильного выбора – и вот мы на пресловутом перепутье. Это одна из причин, по которой внутренний голос заставляет нас мысленно моделировать ситуацию[37]. Усиленно обдумывая, как лучше провести презентацию или какую мелодию написать для песни, мы анализируем различные варианты. Подключив самоанализ, мы часто делаем выбор еще до того, как взялись за текст презентации или прикоснулись к музыкальному инструменту. Вышесказанное справедливо и для межличностных проблем: вспомните Тони, который гулял по Нью-Йорку, размышляя о любимой, не рассказавшей, что у нее есть ребенок от другого. Тони пытался понять, сохранить ли близкие отношения или расстаться.
Мы моделируем реальность даже во сне. Сначала психологи считали сны особым разделом сознания, в котором все отличается от происходящего во время бодрствования[38]. Фрейд, разумеется, видел в снах ближайший путь к подсознанию: они что-то вроде сундука, в котором заперты подавленные желания. И открыть этот сундук можно с помощью психоанализа. Ученый считал, что во сне, когда наши защитные механизмы отключаются и предписанные социумом правила не имеют над нами власти, демоны выбираются наружу и резвятся, воплощая наши тайные устремления. С развитием нейронауки мрачные предположения психоанализа уступили место хладнокровному научному подходу к работе мозга. Нейроученые полагают, что сны – это всего лишь результат произвольной активации отдельных участков мозга в фазе быстрого сна. Сексуальный символизм, который сочли несерьезным, сошел со сцены, а на первом плане оказалась научно обоснованная (и вполне пристойная) концепция работы нейронов.
Последние исследования с использованием современных технологий продемонстрировали, что наши сны во многом схожи со спонтанными мыслями, которые возникают при пробуждении[39]. Оказывается, внутренний голос обращается к нам и во сне. К счастью, это не значит, что он заставит нас воплощать Эдипов комплекс на деле.
Он нам только поможет. Последние открытия свидетельствуют, что наши сны часто функционально ориентированы и весьма созвучны насущным потребностям[40]. Сон чем-то похож на авиационный тренажер. Моделируя события, заостряя внимание на возможном их развитии и даже потенциальных угрозах, сон помогает подготовиться к будущему. Хотя нам только предстоит изучить, как на нас влияют сновидения, это в конечном счете всего лишь истории, поведанные сознанием. А во время бодрствования внутренний голос громко рассказывает психологическую сагу – о самом себе.
В формировании личности ничто не сравнится с речевым потоком[41]. Мозг создает содержательное повествование, опираясь на автобиографические факты. Другими словами, он пишет историю нашей жизни с нами в главной роли. Этот процесс помогает развиваться, определять ценности и желания, справляться с переменами и невзгодами, сохраняя цельным образ личности. Язык – неотъемлемый элемент этого процесса; он соединяет отрывочные и, казалось бы, разрозненные фрагменты повседневной жизни, словно связующая нить. Внутренние беседы моделируют прошлое и формируют сюжет будущего. Перемещаясь между воспоминаниями, внутренний голос плетет нейронную историю памяти. Он прошивает нитью прошлого швы сознания, формируя наше представление о самом себе.
Многочисленные задачи мозга разнообразны и жизненно важны, как и роль внутреннего голоса. Но чтобы полностью осознать его ценность, мы должны представить себе, что все мысли вдруг испарились. Как бы невероятно это ни звучало, нам даже не придется напрягать воображение. Оказывается, такое действительно случается.
25
Michael L. Anderson. “Neural Reuse: A Fundamental Principle of the Brain,” Behavioral and Brain Sciences 33 (2010): 245–313.
26
Alan Baddeley. “Working Memory,” Science 255 (1992): 556–559. Также см. Alan Baddeley and Vivien Lewis. “Inner Active Processes in Reading: The Inner Voice, the Inner Ear, and the Inner Eye,” in Interactive Processes in Reading, ed. A. M. Lesgold и C. A. Perfetti (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1981), 107–129; Alan D. Baddeley and Graham J. Hitch. “The Phonological Loop as a Buffer Store: An Update,” Cortex 112 (2019): 91–106; и Antonio Chella and Arianna Pipitone. “A Cognitive Architecture for Inner Speech,” Cognitive Systems Research 59 (2020): 287–292.
27
Nivedita Mani and Kim Plunkett. “In the Infant’s Mind’s Ear: Evidence for Implicit Naming in 18-Month-Olds,” Psychological Science 21 (2010): 908–913. Более подробную информацию см. в статье Ben Alderson-Day and Charles Fernyhough “Inner Speech: Development, Cognitive Functions, Phenomenology, and Neurobiology,” Psychological Bulletin 141 (2015); и Perrone-Bertolotti et al. “What Is That Little Voice Inside My Head?”
28
Выготский Л. Мышление и речь – Национальное образование, 2016. Также см.: Alderson-Day and Fernyhough. “Inner Speech”; и Perrone-Bertolotti et al. “What Is That Little Voice Inside My Head?”.
29
Исследования, подчеркивающие сложную роль родителей в процессе социализации. См. W. Andrew Collins et al. “Contemporary Research on Parenting: The Case for Nature and Nurture,” American Psychologist 55 (2000): 218–232. Последние сведения о том, какую роль играют родители в эмоциональной жизни детей, почерпнуты из обширного метаанализа, который обнаружил явную взаимосвязь между поведением родителей и некоторыми приемами эмоционального приспособления. См. Michael M. Barger et al. “The Relation Between Parents’ Involvement in Children’s Schooling and Children’s Adjustment: A Meta-analysis,” Psychological Bulletin 145 (2019): 855–890.
30
Более подробную информацию о том, какую роль играет речь в распространении культурных идей, см. в материалах Susan A. Gelman and Steven O. Roberts. “How Language Shapes the Cultural Inheritance of Categories,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114 (2017): 7900–7907; и статье Roy Baumeister and E. J. C. Masicampo. “Conscious Thought Is for Facilitating Social and Cultural Interactions,” Psychological Review 117 (2010): 945–971.
31
Hazel R. Markus and Shinobu Kitayama. “Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation,” Psychological Review 98 (1991): 224–253.
32
Adam B. Cohen. “Many Forms of Culture,” American Psychologist 64 (2009): 194–204.
33
Laura E. Berk and Ruth A. Garvin. “Development of Private Speech Among Low-Income Appalachian Children,” Developmental Psychology 20 (1984): 271–286; Laura E. Berk. “Children’s Private Speech: An Overview of Theory and the Status of Research,” in Private Speech: From Social Interaction to Self-Regulation, eds. Rafael M. Diaz and Laura E. Berk (New York: Psychology Press, 1992), 17–54.
34
Paige E. Davis, Elizabeth Meins and Charles Fernyhough. “Individual Differences in Children’s Private Speech: The Role of Imaginary Companions,” Journal of Experimental Child Psychology 116 (2013): 561–571.
35
Amanda Grenell and Stephanie M. Carlson. “Pretense,” in The Sage Encyclopedia of Contemporary Early Childhood Education, ed. D. Couchenour and J. K. Chrisman (New York: Sage, 2016), 1075–1077.
36
В качестве показательных исследований см.: Arnaud D’Argembeau, Olivier Renaud and Martial Van der Linden. “Frequency, Characteristics, and Functions of Future-Oriented Thoughts in Daily Life,” Applied Cognitive Psychology 25 (2011): 96–103; Alain Morin, Christina Duhnych and Famira Racy. “Self-Reported Inner Speech Use in University Students,” Applied Cognitive Psychology 32 (2018): 376–382; и Akira Miyake et al. “Inner Speech as a Retrieval Aid for Task Goals: The Effects of Cue Type in the Random Task Cuing Paradigm,” Acta Psychologica 115 (2004): 123–142. Также см.: Adam Winsler. “Still Talking to Ourselves After All These Years: A Review of Current Research on Private Speech,” in Private Speech, Executive Functioning, and the Development of Verbal Self-Regulation, ed. A. Winsler, C. Fernyhough and I. Montero (New York: Cambridge University Press, 2009), 3–41.
37
D’Argembeau, Renaud and Van der Linden. “Frequency, Characteristics, and Functions of Future-Oriented Thoughts in Daily Life”; D’Argembeau. “Mind-Wandering and Self-Referential Thought”; и Morin, Duhnych and Racy. “Self-Reported Inner Speech Use in University Students.”
38
Подробный обзор исследований в области снов Erin J. Wamsley. “Dreaming and Waking Thought as a Reflection of Memory Consolidation,” in Christoff and Fox, Oxford Handbook of Spontaneous Thought, 457–468.
39
Kieran C. R. Fox et al. “Dreaming as Mind Wandering: Evidence from Functional Neuroimaging and First-Person Content Reports,” Frontiers in Human Neuroscience 7 (2013): 1–18; Tracey L. Kahan and Stephen P. LaBerge. “Dreaming and Waking: Similarities and Differences Revisited,” Consciousness and Cognition 20 (2011): 494–514; Lampros Perogamvros et al. “The Phenomenal Contents and Neural Correlates of Spontaneous Thoughts Across Wakefulness, NREM Sleep, and REM Sleep,” Journal of Cognitive Neuroscience 29 (2017): 1766–1777; и Erin J. Wamsley. “Dreaming and Waking Thought as a Reflection of Memory Consolidation.”
40
Для получения более подробной информации о том, какую роль играют сны в симулировании угроз, см.: Katja Valli and Antti Revonsuo. “The Threat Simulation Theory in Light of Recent Empirical Evidence: A Review,” American Journal of Psychology 122 (2009): 17–38; и Antti Revonsuo. “The Reinterpretation of Dreams: An Evolutionary Hypothesis of the Function of Dreaming,” Behavioral and Brain Sciences 23 (2001): 877–901. Также см.: J. Allan Hobson. “REM Sleep and Dreaming: Towards a Theory of Protoconsciousness,” Nature Reviews Neuroscience 10 (2009): 803–813.
41
Arnaud D’Argembeau et al. “Brains Creating Stories of Selves: The Neural Basis of Autobiographical Reasoning,” Social Cognitive Affective Neuroscience 9 (2014): 646–652; Raymond A. Mar. “The Neuropsychology of Narrative: Story Comprehension, Story Production, and Their Interrelation,” Neuropsychologia 42 (2004): 1414–1434; и Baumeister and Masicampo. “Conscious Thought Is for Facilitating Social and Cultural Interactions”; Kate C. McLean et al. “Selves Creating Stories Creating Selves: A Process Model of Self-Development,” Personality and Social Psychology Review 11 (2007): 262–278. Для получения более подробной информации о роли речи в автобиографических размышлениях см.: Robyn Fivus. “The Stories We Tell: How Language Shapes Autobiography,” Applied Cognitive Psychology 12 (1998): 483–487.