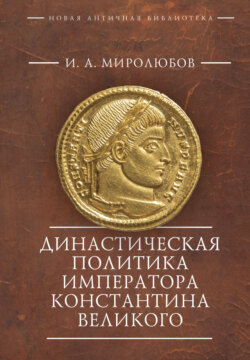Читать книгу Династическая политика императора Константина Великого - Иван Андреевич Миролюбов - Страница 4
Источниковая база исследования
§ 1. Источники, имеющие официальное происхождение
ОглавлениеПри изучении династической политики Константина Вели кого необходимо отметить, что сам Константин выступал как auctor, потому, разумеется, мы должны в первую очередь иметь в виду его testimonia, а также источники, имеющие официальное происхождение: панегирики в честь императора и перед ним произнесенные; данные нумизматики и эпиграфики; памятники изобразительного искусства (статуарные портреты членов императорской семьи) и архитектуры (постройки Константина и/или связанные с именем членов его семьи).
а) Testimonia Константина Великого. Что касается этой категории источников, то в нашем распоряжении имеются нормативные акты, письма и речи императора, т. е. материал документального характера, который имеет разнообразное происхождение. Нормативные акты содержатся по большей части в двух сборниках более позднего по сравнению с эпохой Константина времени – Кодексе Феодосия (438 г.) и Кодексе Юстиниана (534 г.). Знаменитый «Миланский эдикт» зафиксирован авторами, современными Константину – это Лактанций (латинский текст) и Евсевий Кесарийский (греческий перевод)[8]. Рескрипты Константина жителям Гиспеллума и Оркиста (330-е гг.) сохранились в виде эпиграфических памятников и издавались[9] неоднократно. Сложнее обстоит дело с письмами и речами императора, которые зафиксированы в нарративной традиции – преимущественно у Евсевия Кесарийского, а также у следующих за ним церковных авторов. Проблема достоверности цитируемых Евсевием материалов уже привлекала к себе внимание исследователей[10], обнаруживая полярность мнений, хотя на сегодняшний день вопрос о подлинности этих документов решается скорее положительно[11]. Для нас, впрочем, эта дискуссия, часто сосредоточенная вокруг религиозных воззрений Константина и их влияния на его законотворчество, имеет второстепенное значение. В силу нашего интереса к династической политике Константина и, как следствие, к его семье, для нас важно упоминание в текстах этих документов родных императора. Отметим, что упоминание их имен с указанием их титулатуры и возможного рода занятий (подтверждение чему несложно найти в эпиграфическом материале) может служить в перспективе дополнительной основой для определения подлинности данных документов.
b) Панегирики. Что касается речей в честь императоров (панегириков), то здесь мы имеем дело с источниками, в которых отразились официальные установки, происходящие от самого Константина и его двора. Категория панегириков представлена латинскими речами галльских ораторов, чьи сочинения сохранились в составе сборника Panegyrici Latini, а также греческой «Речью по случаю тридцатилетия правления Константина» за авторством опять же Евсевия Кесарийского.
Латинские панегирики давно стали достоянием науки и привлекают внимание как зарубежных, так и отечественных исследователей[12]. Пять речей адресованы самому императору Константину, демонстрируя процесс его трансформации из сына знаменитого отца в императора-августа[13]. В панегириках отразился ряд династических идеологем Константина: его преемственность по отношению к отцу, родственная связь с Клавдием Готским, а также положение внутри династических конструкций сыновей императора. Четыре панегирика посвящены тетрархам (из них два – отцу Константина). Являясь современными тетрархам сочинениями, они отражают климат при дворе того времени и помогают понять, в какой атмосфере формировался сам Константин (это тем более важно, что в нашем распоряжении нет нарративной традиции, современной эпохе тетрархии).
В «Речи по случаю тридцатилетия правления Константина» (далее – «Речь 336 года») Евсевий Кесарийский подводит итог правления Константина и, что немаловажно, фиксирует коллегию наследников императора по ситуации на последний год его жизни (336/337 гг.). В контексте вопроса о том, как Константин, тяготеющий к династическому принципу организации власти, видел ситуацию со своими преемниками, этот источник приобретает едва ли не первостепенное значение, так как он мог содержать в себе положения, которые затем могли бы отразиться в завещании самого императора.
с) Данные нумизматики вызывали интерес у многих исследователей эпохи Константина. Первую подборку монет «дома Константина» составил Ш. Дюканж в конце XVII столетия. Наиболее полное собрание монет этой эпохи содержится в соответствующих томах издания «The Roman Imperial Coinage» (далее – RIC)[14]. Имеющиеся археологические находки позволяют говорить, что после провозглашения Константин немедленно приступил к чеканке на своей территории монет. Монеты, содержащие портреты императора (и – позже – членов его семьи, привлеченных к власти) и снабженные легендами, отражают официальные установки самого Константина. Как убедительно показывает статья Д. Райта, монетные портреты Константина имеют большое значение для изучения иконографии этого императора и его династии[15]; в контексте поиска характерных черт внешности, «роднящих» членов «дома Константина», это может стать основой для дискуссии о наличии выработанной династической иконографии[16]. Чествование монетными легендами и изображениями тех или иных событий (побед, посещений императором городов, основания Константинополя) позволяет также уточнить хронологию. Большое значение монеты имеют для ономастики, так как легенды содержат полные формы (в сокращении – по причине ограниченности длины монетной легенды) имен изображенных на монетах людей. Таким образом, в деле изучения династической ономастики монеты играют большую роль – наравне с…
d) …данными эпиграфики, которые содержат часто более полные формы имен, развернутое перечисление титулов и эпитетов. Немаловажно, что некоторые надписи несут на себе следы вмешательства, имеющего целью стереть то или иное имя, что позволяет говорить о наглядном доказательстве использования в династической политике Константина механизма damnatio memoriae («проклятие памяти»). Ценность надписей для изучения деятельности Константина отмечал еще неоднократно обращавшийся к ним в курсе своих лекций по истории римских императоров Т. Моммзен. Отметим интерес к эпиграфике и среди современных исследователей: Т. Грюневальд собрал колоссальный массив эпиграфических свидетельств об этом императоре[17]; надписи, посвященные матери Константина, Елене, собраны в монографии Я. В. Дрейверса[18]. При работе с этой категорией источников ориентируемся на публикации в Corpus Inscriptionum Latinarum (далее – CIL) и в сборнике Г. Дессау Inscriptiones Latinae Selectae (далее – ILS)[19].
е) Эпоха Константина Великого известна своими монументальными сооружениями, поэтому памятники скульптуры и архитектуры справедливо рассматривать как один из важнейших источников для понимания этой эпохи. Скульптурные портреты запечатлели членов династии Константина (включая его самого); нарративная традиция также фиксирует, что ряд родных Константиина (мать Елена, сестра Анастасия etc.) были связаны с крупными строительными проектами в Риме, Константинополе и других городах. При работе с подобным специфическим видом источника мы опираемся на исследовательские работы по истории искусств и топографии городов. Отметим, прежде всего, ставшую классической работу Д. Клейнер по римской скульптуре[20], где рассмотрены многочисленные памятники эпохи Константина. Для знакомства с постройками Рима и Константинополя большое значение имеют топографические словари Л. Ричардсона[21] и В. Мюллера-Винера[22] соответственно. Отметим и очерк М. Джонсона, посвященный строительной деятельности Константина[23].
Весь этот массив источников позволяет составить некоторое представление о династической политике Константина: он знакомит нас с собственно членами династии, династической ономастикой и иконографией, позволяет составить представление о том, каково было – в динамике – положение того или иного лица в составе правящего дома на основании титулатуры. Однако данные источники знакомят нас только с конкретными решениями Константина, никак не объясняя причин, побудивших императора к тому или иному выдвижению члена своей семьи. Потому, разумеется, этот массив источников, документально фиксирующих развитие династии Константина, должен изучаться в комплексе с нарративной традицией, воссоздающей исторический фон эпохи.
8
Подробный разбор двух вариантов текста с рассмотрением исторического контекста и существующей к тому моменту литературы, посвященной вопросу: Бриллиантов А. И. Константин Великий и Миланский эдикт 313 года. Петроград, 1916.
9
Латинский текст обоих писем с английским переводом и некоторым комментарием приведен в издании: Van Dam R. Op. cit. P. 363–372.
10
Ястребов А. О., свящ. Евсевий // Православная энциклопедия. Т. 17. М., 2008. С. 257; Ващева И. Ю. Евсевий Кесарийский и становление средневекового историзма. СПб., 2006. С. 177–180. И. Ю. Ващева отмечает панегирический характер интересующего нас сочинения Евсевия, «Жизни Константина», и предлагает не применять к нему «суровые требования»: Там же. С. 177–178, примеч. 3. В таком случае – каковы же критерии?
11
Важнейшей работой по вопросу подлинности сочинений Константина, сохраненных у авторов, является работа Г. Дёрриса, где обосновывается положительный ответ на этот вопрос: Dorries H. Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins. Gottingen, 1954. См. также предисловие к изданию английского перевода «Жизни Константина» Евсевия: Cameron A., Hall. S.G. Introduction // Eusebius. Life of Constantine. New York, 1999. P. 18–21.
12
Ориентируемся на следующие публикации источника: Nixon C. V. E., Rodgers B. S. In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini. Berkley; Los Angeles; Oxford, 1994; Латинские панегирики / Вступительная статья, перевод и комментарии И. Ю. Шабаги. М., 2016 (издание снабжено русским переводом; латинский текст и русский перевод в работе приводим по этому изданию). О самом памятнике: Шабага И. Ю. Славься, император! Латинские панегирики от Диоклетиана до Феодосия. М., 1997; Альбрехт М. фон. История римской литературы. Т. III. М., 2005. C. 1570–1572.
13
Очень точное замечание Б. С. Роджерс: Rodgers B. S. The Meatmorphosis of Constantine // The Classical Quarterly. 1989. Vol. 39. № 1. P. 233–234.
14
RIC. Vol. VI. London, 1967; Vol. VII. London, 1966. Далее указывается название издания (RIC) и номер тома; при ссылке на чеканку – место (или имя императора) чеканки, страница (или страницы), в случае необходимости – номер указанного издания. конкретного монетного типа. Перевод монетных легенд – наш, по данным
15
Wright D.H. The True Face of Constantine the Great // Dumbarton Oaks Papers. Vol. 41. 1987. P. 493–507.
16
Проблема была затронута нами в статье: Миролюбов И. А. Констанций и Юлиан: споры о бороде // Электронный научно – образовательный журнал «История». 2017. Т. 8. № 3 (57).
17
Grunewald T. Constantinus Maximus Augustus. Stuttgart, 1990.
18
Drijvers J. W. Helena Augusta. Leiden, 1992.
19
Перевод надписей – наш, по данным указанных изданий.
20
Kleiner D. E. E. Roman Sculpture. New Heaven; London, 1992. В комплексе с этой работой большое значение также имеет монография, посвященная трансформации статуй под влиянием damnatio memoriae: Varner E. R. Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture. Leiden-Boston, 2004. Отметим также работу отечественного исследователя: Сидорова Н. А. Портрет конца III–IV века н. э. // Бритова Н. Н., Лосева Н. М., Сидорова Н. А. Римский скульптурный портрет. М., 1975. с. 85–95.
21
Richardson L. A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. London-Baltimore, 1992. Эта работа в значительной степени дополняет и расширяет сведения ставшего классическим словаря Платнера и Эшби. Из русскоязычных работ заслуживает особого внимания работа: Таруашвили Л. И. Рим в 313 году. Художественно-исторический путеводитель по столице древней империи. М., 2010. Строительной деятельности Константина в Риме посвящена специальная монография: Holloway R. R. Constantine and Rome. New Heaven; London, 2004.
22
Muller— Wiener W. Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Byzantion, Konstan-tinupolis, Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhundert. Tubingen 1977.
23
Johnson M. J. Architecture of Empire // The Cambridge Companion. P. 278–297.