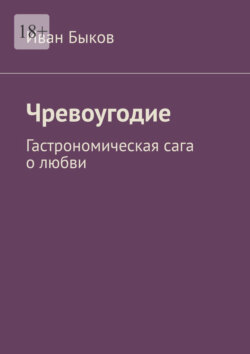Читать книгу Чревоугодие. Гастрономическая сага о любви - Иван Быков - Страница 2
Чревоугодие
Оглавление(гастрономическая сага о любви)
Фома Аквинский перечислил пять форм обжорства:
Laute – есть слишком дорого
Studiose – есть слишком вкусно
Nimis – есть слишком много
Praepropere – есть слишком часто
Ardenter – есть слишком жадно
1. Перезагрузка
Согласно со всем этим и похороны, по крайней мере холостых и незамужних, представляются свадьбою,
о чем говорит следующее интересное известие:
«До сих пор думают (на Подолье), что умирающим «без дружины»
нет места «на том свете», и потому похороны парубка несколько походят на свадьбу: кветки, венок, хустки.
А. А. Потебня. «Слово и миф»
В середине сентября жена отбывала на отдых в Хорватию. Поездом в ночь до столицы, откуда дневным самолетом в Сплит. С обоими уже взрослыми детьми. На неделю. Даже дней на девять, с учетом дороги. Ему предстояло провести и пережить эти семь-девять холостых дней – в свое удовольствие и по своему разумению.
Не в первый раз готовился он к такой неделе. Это был праздник для духа, это было испытание для тела. Это было благословение судьбы, позволяющее накопить силы для новых социальных бросков. Это была кара небес, основательный отжим всего лишнего, что успел он накопить со времен последней «перезагрузки». Жена уезжала раза четыре в год, и всякий раз он и ликовал, и готовился взойти на эшафот. Или иначе: с ликующего пьедестала первых свободных дней он постепенно перебираться на неизбежную плаху одиноких дней последних.
В былые времена, всего-то лет пять назад, он даже путешествовал с женой и детьми. Объездили всю практически Европу. И начала путешествий были ликующими, а вот финалы не радовали обоих. Супруги умудрялись ссориться во всех столицах и обычных зарубежных городах. Однажды возникло замечательное емкое слово «спориться» – не в значении «ладиться, удаваться», и не в значении «откладывать споры», а в совмещенном значении «спорить» и «ссориться» разом. И даже в Париже она уехала в Мулен Руж, а он остался в номере гостиницы с бутылкой дорогущего бургундского алиготе. И с бестолковым букетом желтых роз, которые час-полтора (без знания языка) выискивал по улочкам на берегах Сены. Поспорились…
Все всегда начиналось хорошо. Выбор маршрута путешествия, перебор отелей и мест посещения, предвкушение впечатлений, хлопоты вокруг чемоданов, суетная радость дороги, торжество прибытия… Конфликт начинался с первой рюмки, бокала или кружки, которые он позволял себе в зарубежье. Дальше неслось.
Две страны, которые удалось им миновать без рыков и лая друг на друга начинались на «Г». Грузия и Греция. Нет, порычать пришлось и там, но, во-первых, Грузия поражала своим вином и не давала напиться вдосталь. Это нравилось обоим, интересы сошлись.
Кроме того, и это во-вторых, он исправно посещал все предложенные гидом храмы и только однажды заснул в машине по дороге. Все путешествие обошлось без эксцессов. Разве что в аэропорту на обратном пути он долго бегал в поисках пива. Оказалось, его можно было взять и на борту.
А во-вторых, еще на этапе составления маршрута по Греции они заранее договорились, что это будет винный тур. Виноделен было много, что для него было в радость. Она же бродила то рядом, то следом (в зависимости от настроения), слегка поругивалась в разговорах с гидом, но, в целом, добрались они в отправную точку в удовлетворительном настроении, если считать по среднеарифметическому показателю. Да и потом она съездила в Грецию по своему маршруту, так что инцидент оказался исчерпан.
С тех пор жена летала с детьми, с подругами, с шумными компаниями и с тихими камерными группами. Но уже без него. Он, по примеру Лао-Цзы, познавал мир, не выходя за пределы своего дома, не переступая порога. Его винный тур начинался с момента отбытия жены и проходил в рамках одного помещения. Вернее, нескольких смежных и сообщающихся помещений – комнат родного дома.
Не тот возраст, не то состояние здоровья, да и желание уже было не то. Не засох, не запекся, но вопрос «зачем?», на который с такой легкостью отвечали его знакомые, для него оставался открытым. Всякий такой раз он пускался во все тяжкие, про себя кричал «Э-ге-гей!», после чего исправно отправлялся к цыганам, медведям и лошадям.
Тут бы поподробнее…
Какие же нынче цыгане, медведи и лошади? Вот те самые, с песнями, танцами и рюмкой на разносе? Есть такие где-то, но все это театр, а, следовательно, обман болящей души. А он в такие дни бежал от любого обмана в поисках исконной правды.
Однажды, на этапе отрезвления, он решил заглянуть в системный поисковик после очередного тяжелого периода и обнаружил, что последний его запрос был: «Цыгане, медведи, рядом, заказать». Осмотревшись, он не обнаружил медвежьей шерсти, цыганских юбок, конского навоза и вздохнул спокойно: не заказывал. А ту шерсть, что имелась в доме, вполне можно было выдать за кошачью или собачью.
Не сыскать нынче цыган в городах и пригородах. Зато полно аналогов: рестораны, бары, пабы, бани, городские ярмарки, какие-то приходящие и уходящие, а значит, преходящие девицы.
А ему хотелось не преходящего, не бренного – вечного! Всегда хотелось, особенно в «холостые» дни.
В «холостые» дни он слушал песни. Романсы классические, романсы белогвардейские, романсы городские, эмигрантские, народные, казачьи и – как без них? – цыганские. И везде рыдали голоса о презрении к смерти, предателям, чужестранцам и чужбинам, шальным пулям, вострым саблям, имуществу в целом и последним рубахам в частности. И признавались эти голоса с тем же проникновенным рыданием в любви к Родине – большой и малой, к водке и кокаину, к буланым коням, к старине, снова к вострой сабле и револьверу (или нагану), к друзьям, к девичьей и дружеской верности и к тем же цыганам. И непременно пели о любви к женщине.
Выходила какая-то лирическая рекурсия. Исполнители романсов пели либо о ненависти к ненависти, либо пели о любви к любви. Во всем этом он решал разобраться, последовав советам самых известных исполнителей. Другими словами, решал пойти, головою свесясь, переулком в знакомый кабак, почитать до зари стихи проституткам, потом встретить там, в пристани загулявшего поэта, ах! какую женщину и в который раз убедиться, что ни церковь, ни кабак – ничего не свято. И все закончить традиционной рюмкой водки на столе.
Весь этот путь повторял он из разу в раз в случае отъезда супруги, ответвлений от этого пути не находил (или же они были настолько незначительны, что все приводили к одному финалу). Рельсы замыкались в круг, и трамвайчик его временно-холостого существования снова прикатывал в депо жесточайшего похмелья.
Чтобы разогнать похмелье, он, следуя неизбывной мужской логике, переходил на более крепкие напитки. В угарных слезах слушал песни более поздних авторов – пусть расскажут! – от рока до шансона. Слова были проще, на них не лежала патина времени, но можно было отыскать вполне достойные экземпляры.
Единственное, что слушать он не мог, – рэп, по той причине, что был категорическим противником наркотиков и примитива, глупости. Он еще мог понять «Кокаинетку» Вертинского, но тянуло к унитазу от современной бубнящей мути про психотропную химию и шлюх, ужратых этой самой химией. Да и «читать трек», а не «петь песню» – это то еще искусство, скорее принижающее гордый человеческий дух, чем возвышающее его.
Но даже мудрые, проникновенные песни-понималки не помогали, лишь вгоняли в тоску и служили тостом для новой рюмки. Тогда он пересматривал фильмы. Мог начать просмотр, уснуть на трети какой-нибудь киноленты, потом проснуться и цитировать с любого места. Почти наизусть.
Новые фильмы в «холостые» дни он почти не смотрел. По той же причине, что почти не слушал новые песни. По той же причине, что и не читал (опять-таки почти) новые «художественные» книги. При этом не был ни старообрядцем, ни консерватором. Просто не находил в новом опыта и ценза. Хотя искал. Но со временем пришел к выводу: чтобы петь, рассказывать, показывать ему что-либо, будь добр, автор и исполнитель, займи его жизнь не зря, расскажи что-нибудь такое, чего он пока не знал, не видел, не чувствовал…
И в полеты свои редкие – раза четыре в год, по количеству отъездов супруги, – но регулярные уходил он не потому, что хотел упиться в дым. Не потому, что хотел оторваться по полной, а потому, что хотел разорвать напрочь. Разорвать связь с миром людей и взобраться на или, наоборот, погрузиться в свой личный, мало кому понятный мир.
Жена это понимала, пилила (он называл это иначе – «журчала»), конечно, но понимала. За что муж (непутевый, бестолковый, безвольный и прочая) был ей бесконечно благодарен.
Пить в присутствии жены он пытался. Не выходило. Никак. Или выходило, но фальшиво. Все равно что петь в душе при открытой двери. Подразумеваешь реакцию. Не важно, какую: смех, раздражение, восторг, закрытые уши или включенный микрофон. Нет, на излете – ладно. Там пиво рекой, а пиво – напиток демократичный. Пусть смотрит. Да и есть кому приготовить и со стола убрать.
А вот начинать он любил в одиночестве. Даже немногочисленных друзей не звал. Иногда сами приезжали, но специально не звал. Любой нарколог обнаружит в этом явные признаки зарождающегося, а может, даже крайне развитого алкоголизма. Ну, и хрен с ними, с врачами. И хрен с рим, с алкоголизмом на всех его стадиях.
Не любил он врачей. Жена любила – не в общечеловеческом смысле, а как женщина любит мужчин, она вообще любила неглупых людей. А он не любил. Просто потому, что не понимал это человеческое качество – «умный». Мудрость – понимал. Мудрость – это про все, про глубину, про систему, про панораму. Про все и сразу. А про что ум? Про специальность свою? Про умение беседу поддержать? Про умение женщину к сексу склонить? Да и не понимал он истину в последней инстанции, а все его знакомые врачи именно так себя и подавали. Нет, он не отрицал пользу и благородство профессии, чтил ее одной из самых светлых в арсенале человечества, был совершенно согласен с ранними Стругацкими, которые Мировой Совет на восемьдесят процентов заселили врачами и педагогами, но в друзьях его по каким-то глубинно-спонтанным причинам врачей не было.
Мудрость молчалива – в той части, где она настоящая мудрость. Ум – криклив. Даже не так: ум павлином ходит меж людьми и пушит цветной хвост, состоящий из терминов, латыни, иностранных языков и других инклюзивных радостей. Мудрость – молчалива. Ум – кичлив. Вот в эту молчаливую мудрость и хотел погрузить себя он после отъезда жены. Вплоть до самого ее, жены, прибытия.
Мудрости не нужны слушатели – так мыслил он, тешась своим одиночеством. Но вспоминал, что мудрецы всегда окружали себя слушателями, учениками. Ведийские упанишады, собственно, и значили «сидеть около и слушать». Кем был бы Сократ без своих учеников и Платона с его записями? Аристотелю нужны были перипатетики, «ходящие кругом». В конце концов, что было бы с Иисусом из Назарета без его первых и последующих апостолов?
И тогда он находил себе новое оправдание. Можно быть мудрым для себя. И тогда не нужны никакие ученики. Не хотел он открывать никаких философских школ, не хотел создавать религий. Пусть его школа будет с одним учеником, который в то же время будет учителем.
– Опять «дуняш» соберешь? – едко спрашивала жена уже за месяц до отъезда.
– Не соберу, – отвечал он с той мерой спокойствия, что соответствовала моменту. Про себя добавлял: «Как будет тяга».
И не врал. Он вообще не любил врать. С удовольствием выдавал бы всю правду, да кому она нужна, вся правда? Мужчины тем и хороши, что умеют писать и рассказывать увлекательные, уютные, красивые сказки. Женщины хороши тем, что умеют в эту красоту погружаться и в эти сказки верить. Или делать вид, что верят. И уж ни в коем случае не разрушать уютную историю, которую мы называем совместной жизнью, своими мрачными – пусть и тысячу раз обоснованными – подозрениями. В противном случае нужно бежать друг от друга. Ей бежать к тому, кто снова сумеет очаровать, а ему – к той, что снова сумеет поверить в его чары.
В том случае, когда никто никуда бежать не собирается, рухнувшая, развалившаяся на части сказка – это проблема. Серьезная проблема для отношений. Мужчине приходится ткать полотно новых вымыслов, чтобы залатать дыры в сюжете. Женщина, по мудрости своей и по желанию, помогает проштрафившемуся избраннику, подавая белые нитки и придерживая расползающиеся края.
В прошлый раз по приезду жена нашла женские трусы, наброшенные на спинку стула. Тонкие, черные, изящные, кружевные. Не новые – без бирок и магазинных упаковок.
– Что это? – последовал резонный вопрос.
– Трусы, – соловело зафиксировал он.
– Вижу, – подтвердила она. – Чьи?
– Мои, – ответил он после минутного раздумья.
Он был пьян и потому не в состоянии был выткать оправдания, такие же изящные и тонкие, как кружева трусов. Жена потребовала встать. Приложила трусики к его бедрам. Держала долго, почти минуту, словно пытаясь поверить в это короткое «мои».
– Не твои, – наконец констатировала жена.
После этого досадного, неаккуратного просчета сказочника, после этой мелкой проказы какой-то вредной феи в сказке проявились червоточины. И новые сказочные герои – «дуняши». Именно так, во множественном числе и с прописной супруга стала называть всех фей – и вредных, и не вредных. С прописной – в знак пренебрежения. Во множественном числе – поскольку слишком уж хорошо знала она своего непутевого мужа – слишком много сказочных персонажей порождала его безудержная фантазия.
Период латания все еще был не закончен. Да и будет ли он когда-то закончен? В жизни мужа может быть неисчислимое количество «дуняш» – пока они не всплыли на поверхность. Но, раз проявившись, такая «дуняша» остается навсегда в отношениях, в жизни, в доверии супругов.
Уравновесить «дуняшу» может лишь какой-нибудь «серожа» или «григорий», но все известные ему «серожи» и «григории» были (чего скрывать?) слишком уж давно в жизни жены, а потому утратили актуальность, и даже если всех их накидать на одну чашу весов, всего одна нынешняя не вовремя всплывшая «дуняша» потянет свою чашу вниз, пусть в ней всего-то килограммов сорок пять.
Сколько же раз хотели разорвать муж и жена отношения – безвозвратно, навсегда. Но сказку удавалось пусть и не переписать, но вставить в нее новые главы так, чтобы последующее повествование лилось красиво, надежно и претендовало на счастливый конец, тот самый про «жили они долго и счастливо и умерли в один день».
Все мы закрываем глаза на недостатки своих партнеров. Или, чтобы избежать слова «недостатки», назовем их «неотъемлемыми особенностями». И раз открывшиеся глаза могут быть закрыты только волей, желанием и усилием самого зрячего. Что супруги и делали уже долгие годы. Видели друг друга, но со временем приобрели специальные вуали, световые фильтры, чтобы ненужное размывать, лишать контраста, а нужное делать более отчетливым.
Поэтому про «дуняш» – так называла супруга более или менее анонимных, но абсолютно неизбежных мужниных спутниц – он не врал. В планы холостой недели «дуняши» не входили. Разве что одна… Максимум две… Главное: не более трех. Тут же, как с алкоголем, когда мы бросаем пить: крепкий алкоголь не буду, но пиво-то можно; и не более трех-пяти литров в день, просто чтобы не истязать организм бессмысленными муками.
Нужно отдать должное главному герою этой греховной хмельной повести: не собирался он бросать ни «дуняш», ни выпить. Ведь все это (особенно в совокупности) значительно укрепляет семейные отношения. Наш герой был натурой целостной, несгибаемой и последовательной. Линкор бы пропил, чтобы флот не опозорить.
«Холостые» недели были для него одним из способов медитации. Таким образом он обнулял былое и думы, а потом мог возродить себя к жизни энергичным «младенцем», чтобы с новыми силами и новыми возможностями приступить к выполнению социальных функций, которых, надо сказать, он возложил на себя (или на него было возложено) немало.
Он готовился к перезагрузке, к переформатированию мыследеятельных систем. И делал это с опытным умением, изысканным вкусом, словно писал книгу, новую гастрономическую повесть. «Рыба», как сказали бы сценаристы, была подготовлена заранее, правлена и переправлена за годы беззаветных экспериментов, и теперь он по дням, ролям и репликам знал, как начать, как прожить и как закончить «Холостую» неделю.
Уже за месяц до заветного дня он озаботился ассортиментом винного погреба. Провел ревизию. Всегда с трепетным благоговением спускался он в эту святая святых дома. Прохладная полутьма, замешанная на легких запахах вин, сырости, дерева. Пыльные бутылки на полках, в картонных коробках и в деревянных ящиках. За каждой винной бутылкой – свой вкус, свой терруар, своя история.
И, спускаясь в погреб босиком по холодным ступеням коричневой плитки, как некогда Дороти-Элли выступала в своих серебряных туфельках по дороге из желтого кирпича, он медленно, одному такту, по одной паузе-цезуре на каждую ступень декламировал только что придуманные строки:
Уедешь ты, никто считать не будет
Бутылок выпитых грузинского вина.
Я позабуду, как выходят в люди,
И в доме воцарится тишина.
Не тишина – покой, где каждый шорох
В строку ложится иктом на излом,
Где каждый цвет, и вкус, и запах дорог —
Пронзительное соло о былом…