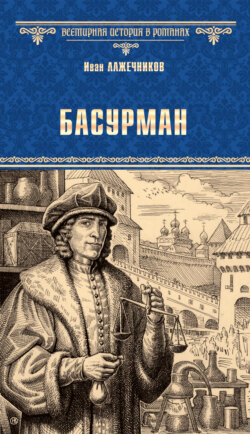Читать книгу Басурман - Иван Лажечников, Иван Иванович Лажечников - Страница 13
Часть первая
Глава девятая. Приезд и встреча
ОглавлениеНе надобно думать, чтобы тогдашние дороги (то есть в XV веке) походили на нынешние шоссе от Москвы до Петербурга!
Полевой. Клятва при Гробе Господнем
По Смоленской дороге, верстах в семи от Москвы, ныряло в снежных сугробах несколько саней, длинных-предлинных, с беседками из обручей, обтянутых парусиной, наподобие тех повозок, какие видим и ныне у приезжих к нам из Польши жидов. Высокие, худощавые лошади, нерусской породы, казавшиеся еще выше от огромных хомутин, испещренных медными полумесяцами, звездами и яблоками, давали знать о мере своего хода чудным строем побрякушек такого же металла. На передках сидели большею частью жиды. Кажется, я уж сказал, что в тогдашнее время не было выгодной должности, которую бы не брали на себя потомки Иудины. Они мастерски управляли бичом и кадуцеем, головой и языком; один меч им не дался. Особенно на Руси, несмотря на народную ненависть к ним, во Пскове, в Новгороде и Москве шныряли евреи-суконники, извозчики, толмачи, сектаторы и послы. Удача им вывозила из Руси соболей, неудача оставляла там их голову.
В авангарде, из-под ощипанного малахая и засаленного тулупа, торчала, как флюгер, остроконечная бородка и развевались пейсики, опушенные морозом. Серые, как у сыча, глаза, казалось, пытали даль. Въехав на Поклонную гору, еврей проворно соскочил с передка. Перед ним прекрасный день запоздалой зимы расстилал окружность на несколько десятков верст. Он протер глаза, еще раз остановил лошадей, подскочил к беседке и, ударив по ней бичом, сказал таким радостным, торжественным голосом, как бы дело шло об открытии на безбрежном океане обитаемого острова.
– Kucke, kucke, geschwind, Herr! (Посмотри скорее, скорее, господин!) Вот Москва!..
– Москва?.. – спросил кто-то из повозки таким же радостным, но дрожащим голосом, и вслед за тем вынырнула из беседки голова, покрытая меховым беретом, и выглянуло приятное, разрумяненное морозом лицо молодого человека. – Москва? – повторил он спустя несколькими тонами ниже: – Да где же она?..
– Вот, вот на горе, меж лесом, – отвечал еврей; но, заметив, что на лице его спутника набегало неудовольствие обманутого ожидания, он прибавил со смущением: – Азе на вас трудно угодить, господин! Вам, мозет быть, хотелось бы Иерусалима!.. Зацем зе вы не зили во времена Соломона? А мозет статься, вам хоцется Кролевца, Липецка или еще цего?
– Да, по твоим словам, честный Захарий, чего-нибудь подобного! – отвечал насмешливо молодой путник и погрузился в даль. Он все еще искал Москвы, столицы великого княжества, с ее блестящими дворцами, золотыми главами величественных храмов, золотыми шпилями стрельниц, вонзенных в небо, и видел перед собою, на снежном скате горы, безобразную груду домишек, частью заключенную в сломанной ограде, частью переброшенную через нее; видел все это обхваченное черною щетиною леса, из которого кое-где выглядывали низенькие каменные церкви монастырей. Река, в летнее время придававшая городу много красоты, была тогда окована льдами и едва означалась извилинами снежных берегов своих. Правда, Москву обсели кругом многочисленные села, слободы и пригородки, отделенные от нее то полями, то лесом и кое-где державшиеся за нее нитями длинных концов; правда, что мысль о соединении всех этих слобод, пригородков и сел должна была изумить огромностью будущей русской столицы; но первое впечатление, полученное через глаза, было сделано, и Москва заключалась для наших путников в том тесном объеме, который и доныне посреди города сохранил имя города. Может статься, в это самое время Антон вспомнил душистый воздух Италии, тамошние дворцы и храмы под куполом роскошного неба, высокие пирамиды тополей и виноградные лозы своего отечества; может статься, он вспомнил слова Фиоравенти: «Пройдя через эти ворота, назад не возвращаются»; вспомнил слезы матери – и грустно поникнул головой.
Из этих дум вырвали его голоса, кругом раздавшиеся:
– Москва, Москва, синьор Антонио! – И повозку его обступили человек пять, разных лет, в зимних епанчах. Школьники, возвращающиеся домой на вакацию, не с большею радостью приветствуют колокольню родного села.
– Да какой негодный городишко! – сказал один из них.
– Кочевье дикарей! – примолвил другой.
– Заметьте, и домы их строены, как шатры, – присовокупил третий, – первое бедное основание зодчества!
– Мы все это исправим! Недаром же и звали нас сюда!
– Мы построим дворцы, палаты, храмы.
– Опояшем город великолепною стеной.
– Взнесем бойницы.
– Начиним их пушками… О! через лет десяток не узнают Москвы…
– А что делает наш Фиоравенти Аристотель, покуда видим груды кирпичей на горе и под горою?
– Собирается на дело!.. – воскликнул насмешливо один из спутников, покручивая ус.
– Десять лет думает, а в одиннадцатый придумает…
– Зато и творит вековое, а не поденничает, – перебил Антон с благородным гневом. – Кто из вас помогал ему выпрямить колокольню в Ченто?{49} Вы только зевали, когда он сдвигал del tempio la Magione![29] Вырастите до него и тогда померяйтесь с ним. А теперь… берегитесь!.. он одним гениальным взором вас задавит.
– Люблю Антонио за обычай! – воскликнул один из толпы, средних лет, до сих пор хранивший насмешливое молчание. – Люблю Антонио! Настоящий рыцарь, защитник правды и прекрасного!.. Товарищ, дай мне руку, – присовокупил он с чувством, протягивая руку Эренштейну, – ты сказал доброе слово за моего соотечественника и великого художника.
Начавшие хвастливый разговор замолчали, пристыженные речью своего товарища. Вероятно, не смели они затеять с ним спор, из уважения к его летам или дарованиям; а перед упреками Антона смирялись, потому что могли всегда иметь в нем нужду, да и рыцарский дух его не терпел жестоких возражений. Тот, который подал ему руку в знак своего удовольствия, был будущий строитель{50} Грановитой палаты[30]. Другие спутники были стенные и палатные мастера и литейщики.
И вот стали они подъезжать к Москве.
Прошло первое неприятное впечатление обманутой мечты, и Антон утешился. Разве для мертвых зданий приехал он в страну отдаленную? Разве любопытство влекло его туда? Любовь к человечеству, к науке, к славе – вот что указало ему путь в Московию. Человек слабый требовал к себе на помощь человека более мощного, и он шел на зов его. «Кому дано, с того и спросится», – говорит сам Христос. «Свет, которым он наделен, должен передать другим, покуда он в долгу у человечества. Может быть, труды великие ожидают его, а без труда нет подвига».
Воображение, настроенное этими утешительными мыслями, представило ему панораму Москвы через стекло более благоприятной. Он привел в нее весну с ее волшебною жизнью, заставил реку бежать в ее разнообразных красивых берегах, расцветил слободы садами и дохнул на них ароматом, ударил перстами ветерка по струнам черного бора и извлек из него чудные аккорды, населил все это благочестием, невинностью, любовью, патриархальными нравами, и Москва явилась перед ним, обновленная поэзией ума и сердца.
В таком расположении духа въехали они в село Дорогомилово. Мальчишки, игравшие на улице в снежки, встретили путешественников восклицаниями на разные голоса. Иные кричали: «Жиды! Собаки! Христа распяли!» Другие: «Татаре-бояре! Бояре-татаре!»[31].
– Что кричат эти мальчики? – спросил Антон своего извозчика, понимавшего русский язык.
– А цто они крицат? – отвечал жид. – По-немецки это знацило бы: «Здравствуйте, дорогие гости!»
И вслед за тем дорогих гостей приветствовали комьями снега. Потом высыпали из домов разноцветные всклоченные бороды, бараньи шапки, лапти, овчинные в заплатах тулупы, рогатые кички, и все это с лицами, очень неблагоприятными для путешественников. Правда, выглядывал кое-где карий глаз из-под черных бровей красавицы, готовый навесть и праведника на грех; улыбка малиновых губ выставляла напоказ ряд жемчужных зубов; выступали и статные молодцы, которых Наполеон с гордостью завербовал бы в свои легионы; но между ними ненависть к иноземцам означалась резкими насмешками. Не для путешественников, однако ж, выступили они толпами из домов; нет, они стремились в Москву, как будто на потеху, на которую боялись опоздать.
– Поспешайте, окаянные басурманы! – кричали они проезжим. – Насилу-то владыки образумились жарить вас… Поспешайте, и вам место будет!
Еврей выгадывал недоброе из этих угроз. Зная, однако ж, что показать страх – напроситься на беду, отвечал с твердостью:
– Кому дурно, а нам будет хорошо! Мы везем к великому князю строителей церковных.
– Исполать господину нашему Ивану Васильевичу! Якшается ныне на свою голову с жидами да с басурманами! – закричал один из толпы.
– Валит домы Пресвятой Богородицы, а на место их ставит палаты и терема боярские да псарские да сады садит, – прибавил другой. – Беда земская, да и только!
– Иное место свято, где был дом Божий, и по сю пору не огорожено, – подхватил третий, – собаки, прости господи, бегают по нем…
– Оттого и пожары московские.
– И страшные видения на небесах.
Так говорил в то время народ русский, недовольный нововведениями и сближением с иностранцами, но говорил там, где знал, что речи его не дойдут до великого князя, который не любил, чтобы ему поперечили или охуждали его дела. Роптали заочно, в глуши, но в самой Москве бояре и народ ходили ниже воды, тише травы. Антон, не понимая речей слободских жителей, догадывался, однако ж, по недоброжелательству, которое выражали их лица, по суровости взглядов, бросаемых на проезжих, что тут живут не кроткие дети времен патриархальных.
Дорога ввела их в бор, опоясавший город. Кресты деревянные, довольно частые, то по дороге, то поодаль в глуши леса, возбуждали в итальянцах мысль о набожности русских; но к этой мысли примешалось бы и чувство ужаса, когда б они знали, что под крестами похоронены несчастные, зарезанные ножом или удушенные петлею. Не только в отдаленное время, но еще и в конце XVIII столетия леса, окружавшие Москву, укрывали шайки разбойников, и душегубства были нередки.
Мост через Москву-реку, устроенный на козлах, качался от повозок, будто эластический. Немного далее, за селом Чертолином (ныне Пречистенка), въехали они в посад Занеглинье. И тут ничто не предвещало столицы великого княжества. Смиренные домики, избушки на курьих ножках, кое-где лачуги, наскоро складенные на пепелищах после недавнего пожара, церкви и часовни во множестве, но все деревянные и бедные, с огромными навесами кругом, какие и ныне видим еще кое-где в степных деревнях; тот же народ в овчинных шубах без покрыши, множество нищих, калек, юродивых у часовен, на перекрестках – все это не было утешительным предметом для наших путешественников.
Лишь только подъехали они к Кучкову валу, идущему от Сретенского монастыря по Москву-реку, на реке, за Великой улицей (набережной, к стороне Кремля), поднялся дымный столб, все гуще и гуще, так что новые струи дыма образовали исполинскую витую колонну, с украшениями небывалого ордена, подпиравшую небо. Художники несколько минут любовались этим чудным явлением, которому пламенное воображение юга придавало творческую существенность, и мысленно снимали его на бумагу. Напротив, Антон рассматривал его с каким-то грустным предчувствием, хотя соглашался с товарищами, что не пожар причиною этого явления.
У въезда в Великую улицу встретило путников несколько приставов, посланных от великого князя, вместе с переводчиком, поздравить их с благополучным приездом и проводить в назначенные им домы. Но вместо того чтобы везти их через Великую улицу, пристава велели извозчикам спуститься на Москву-реку, оговариваясь невозможностью ехать по улице, заваленной будто развалинами домов после недавнего пожара.
При спуске на реку путешественники могли уже разглядеть, что дымный столб образовался из костра, зажженного на самой реке. Не праздник ли какой, остаток времен идолопоклонства? Не пляска ли вокруг огня? А может быть, не сожигается ли по-индейски неутешная вдова?.. Народ кричит, смеется, плещет рукавицами; видно, готовится для него потеха.
У самого костра, за невозможностью ехать далее по тесноте народной, остановили повозки. Чудное зрелище ожидало гостей.
Пылал костер сажени две в ширину. В противной стороне послышались радостные, торжественные восклицания. Множество людей везло на себе что-то огромное. Не колокол ли? Но как скоро двуногая упряжь расступилась, увидели клетку с решеткою из толстой железной проволоки и сквозь нее двух человек. Один был молодой, другой – старик. Отчаяние в глазах их, моления, пылающий костер, железная клетка, радость черни… о! наверно, готовится казнь. Западню с полозьев долой – и прямо на пылающий костер. Огонь, задавленный тяжким бременем, нетерпеливо закурился; днище начало коробиться и вскоре затрещало. Из клетки послышался стон. Сердце путников оледенело, волосы встали дыбом. Антон и его товарищи просили приставов освободить их от печального зрелища. Им на это отвечали только, что в пример другим совершается казнь над мерзкими, богопротивными изменниками – литвином, князем Иваном Лукомским, и его сообщником, толмачом Матифасом, – которые хотели отравить великого государя, господина всея Руси Ивана Васильевича. Антон стал, через переводчика, объяснять с жаром свою просьбу. Ответа не было.
– Всемогущим Богом, – кричали осужденные, кланяясь народу, – нашим и вашим Богом клянемся, мы невинны! Господи! Ты видишь, мы невинны, и знаешь наших оговорщиков перед великим князем… Мамон, Русалка, дадите ответ на том свете!.. Иноземцы, несчастные, зачем вы сюда приехали? Берегитесь… Во имя Отца и Сына и…
Дым обвил их своими складками и задушил слова на устах несчастных.
– Эк мычат! – кричали зрители.
Москворецкий мост, в виду которого происходило ужасное зрелище, кряхтел под народом; перила, унизанные им, ломились от тяжести напора. Напрасно старики и недельщики остерегали смельчаков, слышались только отважные голоса русского фатализма: «Двух смертей не бывать, одной не миновать». И вслед за тем перила затрещали и унесли с собою десятки людей на лед Москвы-реки. Многие ушиблись до смерти.
В это время огонь выбежал на свободу из-под клетки и распустил по ней свои многоветвистые побеги. По днищу разлился пламенный поток. Сквозь пламя означились две темные фигуры. Они крепко обнялись… пали… и вскоре от них ничего не осталось, кроме пепла, которым ветер засыпал очи зрителей. Железная клетка вся озолотилась; по оранжевым прутьям ее бежали кое-где звездочки и лопались, как потешный огонь.