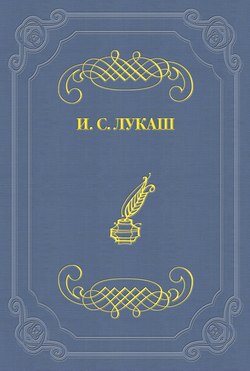Читать книгу Вьюга - Иван Лукаш - Страница 6
Глава V
ОглавлениеОтто Вегенер и Пашка Маркушин сидели на площадке лестницы, на подоконнике, и толковали о войне.
Отто Вегенер разросся, руки и ноги у него стали большие, он не знал, куда их девать. Шинель и казенные сапоги, впрочем, ладно были пригнаны на белобрысом долговязом юнкере.
Сначала Пашка, как и Вегенер, завел себе карту военных действий, расставлял флажки на булавках, потом надоело, булавки и флажки потерялись. Вегенер к тому же знал о войне все: куда пойдут, что возьмут, какая у кого артиллерия и вообще, что будет дальше. Пашка считал русских солдат лучше всех на свете, первыми героями. Вегенер соглашался, но добавлял, что немцы тоже хорошо дерутся. Это Пашку слегка обижало, и он думал о приятеле: «А все-таки немчура».
Лихорадка первых недель войны, когда Пашка бегал на вокзалы провожать уходящие эшелоны, орал до сипоты «ура» и покупал лубки про казака Крючкова, прошла.
В самом начале все весело торопилось, куда-то бежало, гремели военные оркестры, проносились со свистом красные вагоны с солдатами, что-то орущими, машущими руками, иногда с зелеными ветвями на шапках.
Так или почти так было и в Петербурге, и в Берлине, и в Париже. Всюду были уверены, что сильнее, славнее и лучше их солдат нет на свете, что победа несомненна, что все очень скоро кончится и конец будет какой-то особенно праздничным, с музыкой. В театрах и в ресторанах часто играли гимн. Всем нравилось подыматься с торжественным шумом.
Война уже вошла в медлительную жизнь людей, но о ней еще судили по старым журналам. Еще полуверилось, что война может быть теперь, в наше время. Где-нибудь на востоке, на случай усмирения в Китае, держали солдат в барашковых шапках для охраны границ, но никакой настоящей войны с Россией ни у кого не может быть. Россия больше и сильнее всех на свете, что из того, что потерпела поражение от японцев, и если кто ее тронет, она вся подымется, все миллионы ее православных серых героев. Никто не сомневался, что Россия победит, и больше было любопытства, чем тревоги, что же такое получится, если война уже началась. С войной все почувствовали в себе что-то героическое и рассуждали все, как заправские стратеги.
У Пашки, едва ли года два назад бросившего играть в оловянные солдатики, еще сохранились бумажные солдаты на глянцевых листах, длинные ряды французов в красных штанах, альпийские стрелки в зеленом, барсельеры в оперенных шляпах набекрень. Пашка так и думал, что солдаты в чужих армиях вроде его бумажных красавцев. Война для него, и для всех, была еще где-то далеко, сбоку, как-то около жизни, любопытная и смутно красивая, чем-то похожая на парад на Марсовом поле.
Маркушины жили в том же доме на Малом проспекте. После смерти отца в его письменном столе нашли государственную ренту, обернутую в кусок потертой, криво разрезанной замши. Мать стала отпускать домашние обеды. От этого в старой квартире повеселело. Правда, теперь всюду пахло дешевым жареным маслом, борщом, картошкой на сале, в столовой долго сидели и курили незнакомые студенты, барышни, офицер с бледным, немного лошадиным лицом, но кабинет отца и комната матери оставались нетронутыми.
Двери туда были закрыты, чтобы не доходил чад и табачный дым. В кабинете был тот же воздух, какой при отце, та же тишина, и часы звучно тикали на столе, точно отец ходил здесь в своих татарских мягких сапожках. На его столе Пашка готовил уроки, осторожно отодвигая тяжелую отцовскую пепельницу и медную чернильницу. Мать иногда приходила со счетом:
– Посчитай, Пашенька, сколько тут будет.
Он, хотя и сердился, что помешали, но считал.
После смерти отца мать как-то помолодела. Она стала седая и легкая. Весь день она была в хлопотах. Столовники, кухня, обеды, ссоры с зеленщиками и мясниками, Ольгины платья, сапоги, рубашки Николая и Паши, деньги, счета, разбирая которые надо было надевать очки и писать неверной рукой дрожащие длинные цифры, – от всего этого мать и помолодела. Она еще неутомимее вела лютый бой за домашних. Только покойника она звала не батей, как при жизни, а с уважением – Петром Семеновичем. Она еще говорила о нем няньке или чиновнику, у которого получала пенсию, или жильцам, кто поминал его, и плакала легонько. Такие короткие, мгновенные слезы стали для нее привычными, не печальными.
Николай был груб с ней. Мать принимала это с такой же кротостью, как от отца. Она не обижалась и на резкость Ольги. Мать понимала, что всех их: Николая, Ольгу, Пашуню – надо куда-то тащить, помогать им выходить в люди. Она думала, что все они образованные, учатся, Николай так много знает, просто ученый, и, конечно, им надо вовремя приготовить сапоги, заштопать носки или рубашку, подать обед.
Одного Пашку задевало, как Николай и Ольга небрежно говорят с матерью. Он понимал, что мать может каждый из них обидеть, а она не ответит.
Как-то за чаем, когда Николай что-то с равнодушной грубостью сказал ей, он бросил брату: «Какая свинья!» – и вышел из столовой.
Николай с едким презрением стал говорить матери:
– Это вы во всем виноваты…
Он называл мать на «вы»:
– Воспитали дрянь эдакую, психопата.
Мать смущенно обещала, что Пашка извинится.
– Очень мне нужны его извинения. Не подымайте, пожалуйста, историй…
С начала войны Николай уехал в Москву. Он получил службу в каком-то военном комитете по снабжению армии, ставил где-то походные бани, носил романовский полушубок с золотыми погонами и шашку через плечо.
Черноволосый бледный офицер, столовавшийся у Маркушиных, сделал Ольге предложение. В столовой все поздравляли мать и улыбались. Смысл слова «предложение» Пашка не совсем понял, и ему показалось в нем что-то неудобное.
На другое утро после предложения Ольга обиженно кричала на Алену, почему не выглажена серая в клеточку юбка. Белокурая, в не очень чистом голубом халатике, стройная, с голубыми глазами, светлыми от злости, в ночных туфельках, тоже голубых, с пушистым белым мехом, Ольга потрясала на кухне смятой юбкой. Вошла мать. Ольга накричала и на нее.
Пашка пил кофе в столовой. Ему стало подкатывать к горлу от стыда и обиды за мать: он не выносил повышенных голосов. Он толкнул стол, кофе расплескалось по скатерти коричневыми пятнами, побежал на кухню. Как отец, упрямо мотая головой, он затопал на сестру ногами:
– Не смей кричать, дура, не смей.
Это было так неожиданно и повелительно, что все женщины притихли, а Ольга удивленно, без всякой обиды, посмотрела на брата, повернулась красиво, обдавая всех теплым запахом постели, духов, и вышла из кухни.
Вскоре Пашка узнал, что у сестры будет свадьба, что она выходит замуж за черноволосого офицера. Ему стало неловко, что он обидел ее на кухне, он даже немного лебезил перед сестрой, думая, что та еще сердится. А Ольга все забыла в тот же день.
Пашка слегка заискивал и перед ее офицером. У того было вытянутое, бледное лицо, приятный смех, матовый с серебром, и глуховатый голос. Он был поручиком Новочеркасского пехотного полка. Его звали Гогой.
Влюбленными глазами смотрел он на Ольгу. Он мог, кажется, смотреть так часами. Они вместе ездили в театры, чаще всего в оперетту, в Пассаж и по магазинам, покупали всякие пустяки, объедались шоколадом, пьяными вишнями. На извозчике, когда Ольга закрывалась муфтой, он целовал ее, прохладную и смеющуюся. Ольга таскала его по всем своим консерваторкам, и они много танцевали. Любовь Гоги была немудреная, простая, как у миллионов таких же существ, как он.
У Пашки к Гоге была неприязнь, почему он сидит в Петербурге, когда все офицеры должны быть на фронте.
– Почему вы здесь, разве ваш полк не на войне? – спросил он как-то.
– На войне. Я тоже скоро ухожу. С маршевой ротой…
И улыбнулся беспечно, следя за Ольгой влюбленными глазами.
Эта улыбка и взгляд, и особенно матовый смех с серебром начали нравиться Пашке. Ему нравился запах кожи от амуниции Гоги, как ладно он ходит, как ловко закуривает, и то, что не любит говорить о войне, о которой толкуют все, а о газетах отзывается, что они врут.
Скоро Гога начал нравиться ему даже больше Вегенера. Ольгин офицер стал для него самым ловким, смелым и умным человеком на свете. Пашка неприметно для себя подражал ему, как тот говорит, как садится. Перед зеркалом он пробовал причесывать волосы на прямой пробор, как у Гоги. Мокрая щетка была в большом ходу, даже кожа на голове заболела, но проклятые вихры так и торчали.
Ольгу к Гоге влекло что-то неясное, но знакомым барышням, когда те спрашивали шепотом, любит ли, Ольга отвечала искренно:
– Не знаю, но очень милый.
Со свадьбой торопили. Все заторопилось с этой войной. Накануне свадьбы Пашка запер дверь в отцовский кабинет и начал примерять перед зеркалом ремни, офицерскую фуражку Гоги и кожаные перчатки, которые были ему до смешного велики. Его немного удивило, что шашка была тупая, железная. Он решил уехать на фронт.
Эшелон Гоги ушел через два дня после свадьбы. На вокзале Гогу все время отзывали, Ольга никак не могла сказать что-то, что ей хотелось ему сказать. Гога уже прыгнул на площадку вагона: улыбка застыла на его бледном лице, и он не мог ее убрать. Поезд пошел быстрее, выдыхая пар, мутя фонари, и Ольга вдруг поняла, что от нее уходит-уходит что-то самое нежное, самое светлое, что есть на свете. «Но я его люблю», – вдруг подумала Ольга, почему-то оглянулась растерянно и заплакала так же, как мать, не стесняясь слез.
Мать, уже не видя Гоги, все махала платком этому чужому офицеру, сироте из Казани, ласковому и ловкому, кто стал таким родным, принес в дом что-то настоящее, сыновье. Ольга плакала некрасиво. В тумане кричали «ура». Из вагонов смутно и сипло кричали солдаты, поезд стучал, свистел.
Наутро, в туфлях на босу ногу и в голубом капоте, Ольга ходила по всем комнатам. Оттого, что Гоги больше не было, что теперь его могут там убить, она плакала откровенно и горячо.
Пашке было стыдно, что он ссорился с нею. Он присел к сестре на поручень кресла, сказал с нарочитой небрежностью:
– Брось ты, пожалуйста, реветь, не обязательно же всех убивают.
Ольга озлилась. Она даже обрадовалась своей злости, мгновенно перестала плакать, тщательно высморкалась:
– Реветь, – передразнила она. – Без тебя знаю, что делать.
Она гибко встала и ушла.
Перед гимназией, рано утром, Пашка любил вдвоем с матерью пить кофе. Он любил утреннюю тишину.
В это утро он отказался от второй чашки, почему-то начал внимательно рассматривать свои руки, потом собрал на клеенке крошки булки и сказал, стараясь говорить как можно обычнее:
– Да, между прочим, я хочу тебе сказать… – Он никогда не вставлял такого словечка «между прочим». – Я решил ехать на фронт.