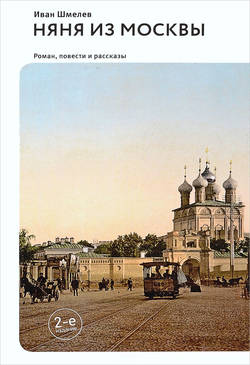Читать книгу Няня из Москвы (сборник) - Иван Шмелев - Страница 8
Няня из Москвы
VI
ОглавлениеВерно, барыня, много добывал, да на много и дыр-то много. Сколько у них утех-то было, на каждой тумбочке! Да они всегда порядочные были, худого слова про них не скажу, верно вы говорите, – а все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор-лихач, так он всех по Москве его канареек знал, нашему бутошнику сказывал. А бутошник у нас заслуженный был, кресты-медали, крестнику моему дядей доводился. Вот мне крестник и сказывал… рыбкой он в Охотном торговал, рыбку мороженую нам нашивал, судачков, наважку, копчушечек… – придет и шепнет:
«А у доктора новенькая завелась, в Таганке».
А то на Арбате. А барыня и не чует. Начнет как барыне душестых груш привозить либо цветы в корзинках, так я и примечала – новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня… живая правда. А барыню дострасти любил, а из баловства, для разгулки так. Барыня ведь красавица была, графской крови, по дедушке, а потом их из графов отменили… барыня мне не сказывала, а барин ее корил когда, что, мол, графы твои фамилию профуфукали за хорошие дела… а она в слезы, его корить – «а ты подзаборный мещанин!» Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица, хрупенькая, на ладошку барин ее сажали и носили, как пирожок: «ах, галочка моя… ды-ах, цыганочка моя… ах, перышка моя!..» – заласкивал. А баловство бывало. И по городам бывали, для прахтики когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня, деньги у кого вольные да человек веселый! И закону у них не было, строгости-соблюдения, и в церкву не ходили, о душе и не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили, – «все теперь наши бабы!» От Бога отказались, досыта лопали, ну и… – «у нас, – говорит, – кровь играет… на сладкое положение выходим!» Вот гроза-то на нас нашла, за Катичку как дрожала… расскажу-то. Вот и барин, от сытой жизни.
И в хороших семействах у них бывали, из прахтики. Да в разных… На энтих уж он не тратился, а все партреты свои дарил, на память. Цельная у него пачка была в запас, побольше, а то поменьше, по уважению. Были-то какие? Вот даже какие были, с аршин, самые уж уважительные. Да забыла я, барыня, фамилии, где ж упомнить. Андра-шкина?.. Помнится, была… Кто еще? Нет, про Сударикову не слыхала, а шелковиха одна была, только не Сударикова. Мелкова еще, в ресторане-то застрелилась, в заграницу ее увезли после. Да Господь с ними, барыня… Нет, Старкову что-то не припомню… А Локоткову, может, слыхали… у них меховое дело было? Тоже уважительная была; шубу барину какую сделали, за двести рублей, а ей цена за две тыщи. Тогда барыне соболью буу барин подарил, что-то недорого тоже, а какая буа-то… от мамаши Катичке досталась.
Как не знать, и барыня про партреты знала, а умел так разговорить, – для прахтики так надо, пациенки желают, из уважения. Это уж все потом раскрылось… и вспомнить страшно, – в наказание так Господь послал. А то и в испытание… Анна Ивановна говорила, милосердная сестра. Вот святая душа была-а… расскажу-то вам. Сплетни-то доходили, и письма барыне подсылали, со зла которые, пациенки. Растревожится она, закричит:
«Негодник ты негодный, бабник ты, юбошник… не смей до меня касаться!..» – кулачками так затрясет. А он ей, удивится словно:
«Ты что, милая… белены объелась?..» Она ему в лицо шварк – письмо! «А это что?!. Негодный ты, порститут!..» Повертит письмо, плечом подернет… «А, стерьва… – скажет, – теперь понятно, это же она со зла, шельма, что финтифлюшки ее не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу!..» Она и рассахарится, поверит словно: «Да-а… – скажет, – актерщик ты известный!» Всегда и извернется. Зацелует, у коленок поерзает, груш привезет, – и все. Понятно, в себе держала. А как накалит его, он шубу на плечо, дверью хлоп, и на свое взаседание, на всю ночь.
У них ученые взаседания были, и еще казенные взаседания, чтобы царя сместить. Это мне Глафира Алексевна по секрету говорила: партию они делают. Вот и сместили, добились своего… только вот порадоваться-то не довелось. А уж ждали-ждали… барыня все сулилась:
«Вот, няня, погоди, скоро всему перемен будет, по-новому все будет, Костик тогда над всеми больницами будет… и всем тогда хорошо будет… и тебе богадельню выстроим, для всех старушек, и всем хорошее занятие будет, и жалованье большое будет, трудящим всем. Хлопочем все, так хлопочем… партию делаем, для всего народа чтобы».
Вот и схлопотали, в Америку попала. Да что, про себя и не говорю, а… не поймешь ничего.
Ну, уедет он в заседание, и она в свое взаседание, хлопотать. А то, под конец уж это, капли стала веселые в бок впускать. Впускала, барыня, своими глазами видала, как… и испортила себя каплями. Завеселеет, забегает, а там пуще еще расстроится, плакать ко мне придет:
«Ах, няничка… и что я за несчастная… и красивая я, и молода я, а Костик меня обманывает, чую!..»
А они ведь хорошенькие были, красавица из красавиц, все-то на них заглядывались. Ну, может, и не первая красавица, вы-то как говорите… а уж такая была красотка! Это вы правду, барыня, росточку небольшого и на цыганочку маленько похожа… так это с каплев у ней личико желтеть стало, а то прямо ягодка была, как куколка какая. Барин дышали над ней прямо, так любили. Он рослый был, рука, чисто тарелка… посадит на ладонь и носит по зале, как птичку какую, – «ах, галочка моя… ах, бабочка моя!..» – всякие приберет слова. Скажу ей – Богу молиться надо, мысли и разойдутся. А и вправду. Где душе-то спокой найти, о себе да о себе все, бо-знать чего и думается. Уедет барин, она все ящики у него обшарит, – нет ничего, все концы умел с хоронить. А то прибегла ко мне, – веселая, – «любит меня Костик, одну меня!» Письмо нашла, а на письме барин чего-то прописал, барыню какую-то обругал. А от такой раскрасавицы письмо было!.. Маленько и отошла. А скажешь ей про Бога, она так и закинется:
«Что ты, старая, заладила – Богу-Богу!..»
И Катичка вот, бывало. Это уж ее Анна Ивановна наставила, – молиться она стала, в Крыму уж. Да что, и в Америке жили – попрекала:
«И все-то не по тебе, ворчишь! Старый дух в тебе. Сколько было, все другие стали, все кверх ногами стало… с чего ты одна такая, никак не меняешься, как тумба? Старый дух!..»
А что вот и по-старому говорю, и куча я муравьиная, и платье на мне все то же, и платок ковровый с собой взяла, и тальма на мне с висюльками, – старое ей все поминается. Скажешь ей – а чего мне новой-то быть, не бельишко, не выстираешь, а какой мне Бог вид дал, такой и ношу, не оборотень какой, не скидаюсь… губы мне красить, что ли! Это нечистый образины всякие принимает, норовит все наоборот вывернуть. Ну, это как расстроится. А то – лучше меня и нет.
Про барыню-то я… страшно бывало слушать.
«Бог-Бог… что ж он мне не поможет, твой Бог!» – чумовая будто.
Так вся и исказится. Ну, известно, астеричная. И барин все, как вот вы сказали, – астеричная ты! А то косы распустит, – а волосы у ней чуть не до пят были, – обкрутится ими, шею замотает и кричит незнамо чего: «Ах, разведусь! Ах, задавлюсь… себя и его убью!..» А без него и часу не могла, так мог приворожить. Да вы их, барыня, сами знали, как обойтись умел. Борода одна чего стоит, шелковая, кудрявая, за плечо, бывало, закинуть мог. А как все по-новому стало, они и бороду обстригли… не узнать, болезнь уж ихняя началась. Бывало, в бороду духи льют, а потом вымоют, в полотенце закрутят, она и вьется. И голос приятный, и манеры такие благородные, все-то в зеркало красовались, хохолок взбивали. Барыня ему – «ах, какет какой!» Все барыни от них без ума были, барыня сама сказывала, и ей это словно приятно было. А чистоту любил!.. Принесет прачка трахмальные рубашки, все-то переглядит, перещупает, все им трахмалу мало, – грудь все чтобы гремела, горбом стояла. Прачка, бывало, плачет: назад и назад, перетрахмаливать. Белья полны комоды, да все тонкое самое, голанское… а галстуки эти так и шваркали, чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые, – все шелковое, цветное… и подштанники, извините, разноцветные, шелковые, и эти подушечки везде, для аромату, саше́. Что говорить, любили покрасоваться.
Вы-то, барыня, сурьезная при семейной жизни, Глафира Алексеевна за пример вас все ставила, а и вас даже приревнует. Да опасалась, ну-ка он с вами завлекется. Милионерки были, всем соблазнить могли. А брилиянтам завиствовала!.. И у ней чего показать было, от ихних графов еще осталось, а не сравнять, как можно… горели-то на вас, чисто вот как жар-птица. То вот как расхваливает вас, до бегов это еще, а то давай честить, уж простите. Да что говорила… разное, как придется. Дело прошлое, уж не обижайтесь на покойницу… а всякими, бывало, словами…: мне уж и говорить стеснительно-с. Ну, уж если угодно, правду скажу, не скрою… И хитрая-то она, и фабрикантша фальшивая, да-а… и месалиная она… И сама не знаю, какая такая мисалиная… а все, бывало, так – мисалиная… И ноги лаптем, и кукла золотая… – уж извините, от слова не станется, а всердцах мало ли что с языка соскочит!.. – и чего она к нам повадилась, и чего Катюньчика игрушками завалила… и деньги дерут с народа, и как посмела запонки Костику подарить такие… А вы куклу Катичке заграничную привезли, с нее ростом, и полон короб приданого куклина, не видано никогда, так все и издивились. А запонки… она их всердцах в этот… в клазет спустила! В клазет, барыня, сама барину повинилась. Только вы в заграницу, – она их и спустила. Барин ее кали-ил:
«Что ты наделала, безумная! боле пяти тыщ запонки, такие брилиянты!..»
Цену они уж знали. Не помните… А я упомнила, денежки-то какие! А, может, и от другой какой, спутала. Так серчал!..
«Это мне память дорогая, я Медынке с Ордынки жизнь спас!..»
За заставу покатил, куда трубы подают. Да где там найти, со всей Москвы сплывает. Копались тамошние золотари, – барин им посулил, – не нашли. Очень вас, барыня, почитал. И партрет ваш на столике держал. Барыня схватит – и в нос ему:
«На, повесь в угол, молись на свою святую!»
А он ей смехом:
«Постой, лампадку вот дай куплю. Да глупая ты… да одну ведь тебя ценю, как золотой алмаз!»
Она и кинется к нему на шею, и за шимпанским сейчас пошлют. И меня угостят. Да я его не любила, по мне нет лучше ланинской водицы черносмородиновой.