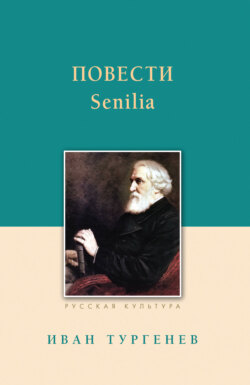Читать книгу Повести. Senilia - Иван Тургенев - Страница 11
Повести
Поездка в Полесье
День второй
ОглавлениеНа следующее утро мы опять втроем отправились на «Гарь». Лет десять тому назад несколько тысяч десятин выгорело в Полесье и до сих пор не заросло; кой-где пробиваются молодые елки и сосенки, а то все мох да перележалая зола. На этой «Гари», до которой от Святого считается верст двенадцать, растут всякие ягоды в великом множестве и водятся тетерева, большие охотники до земляники и брусники.
Мы ехали молча, как вдруг Кондрат поднял голову.
– Э! – воскликнул он, – да это никак Ефрем стоит. Здорово, Александрыч, – прибавил он, возвысив голос и приподняв шапку.
Небольшого роста мужик в черном коротком армяке, подпоясанном веревкой, вышел из-за дерева и приблизился к телеге.
– Аль отпустили? – спросил Кондрат.
– А то небось нет! – возразил мужичок и оскалил зубы. – Нашего брата держать не приходится.
– И Петр Филиппыч ничего?
– Филиппов-то? Знамо дело, ничего.
– Вишь ты! А я, Александрыч, думал: ну, брат, думал я, теперь ложись гусь на сковороду!
– От Петра Филиппова-то? Вона! Видали мы таких. Суется в волки, а хвост собачий. На охоту, что ль, едешь, барин? – спросил вдруг мужичок, быстро вскинув на меня свои прищуренные глазки, и тотчас опустил их снова.
– На охоту.
– А куда, примерно?
– На Гарь, – сказал Кондрат.
– Едете на Гарь, не наехать бы на пожар.
– А что?
– Видал я глухарей много, – продолжал мужичок, все как бы посмеиваясь и не отвечая Кондрату, – да вам туда не попасть: прямиком верст двадцать будет. Вот и Егор – что говорить! в бору, как у себя на двору, а и тот не продерется. Здорово, Егор, Божия душа в полтора гроша, – гаркнул он вдруг.
– Здорово, Ефрем, – медленно возразил Егор.
Я с любопытством посмотрел на этого Ефрема. Такого странного лица я давно не видывал. Нос имел он длинный и острый, крупные губы и жидкую бородку. Его голубые глазки так и бегали, как живчики. Стоял он развязно, легонько подпершись руками в бока и не ломая шапки.
– На побывку домой, что ли? – спросил его Кондрат.
– Эк-ста, на побывку! Теперь, брат, погода не та: разгулялось. Широко, брат, стало, во как. Хоть до зимы на печи лежи, никака собака не чукнет. Мне в городе говорил этот-та производитель: брось, мол, нас, Лександрыч, выезжай из уезда вон, пачпорт дадим первый сорт… да жаль мне вас, святовских-то: такого вам вора другого не нажить.
Кондрат засмеялся.
– Шутник ты, дядюшка, право шутник, – проговорил он и тряхнул вожжами. Лошади тронулись.
– Тпру, – промолвил Ефрем. Лошади остановились. Кондрату не понравилась эта выходка.
– Полно озорничать, Александрыч, – заметил он вполголоса. – Вишь, с барином едем. Осерчает, гляди.
– Эх ты, морской селезень! С чего ему серчать-то? Барин он добрый. Вот посмотри, он мне на водку даст. Эх, барин, дай проходимцу на косушку! Уж раздавлю ж я ее, – подхватил он, подняв плечо к уху и скрыпнув зубами.
Я невольно улыбнулся, дал ему гривенник и велел Кондрату ехать.
– Много довольны, ваше благородие, – крикнул по-солдатски нам вслед Ефрем. – А ты, Кондрат, напредки знай, у кого учиться; оробел – пропал, смел – съел. Как вернешься, у меня побывай, слышь, у меня три дня попойка стоять будет, сшибем горла два; жена у меня баба хлецкая, двор на полозу… Гей, сорока-белобока, гуляй, пока хвост цел!
И, засвистав резким свистом, Ефрем юркнул в кусты.
– Что за человек? – спросил я Кондрата, который, сидя на облучке, все потряхивал головой, как бы рассуждая сам с собою.
– Тот-то? – возразил Кондрат и потупился. – Тот-то? – повторил он.
– Да. Он ваш?
– Наш, святовский. Это такой человек… Такого на сто верст другого не сыщешь. Вор и плут такой – и Боже ты мой! На чужое добро у него глаз так и коробится. От него и в землю не зароешься, а что деньги, например, из-под самого хребта у тебя вытащит, ты и не заметишь.
– Какой он смелый!
– Смелый? Да он никого не боится. Да вы посмотрите на него: по финазомии бестиян, с носу виден. (Кондрат часто езживал с господами и в губернском городе бывал, а потому любил при случае показать себя.) Ему и сделать-то ничего нельзя. Сколько раз его и в город возили и в острог сажали, только убытки одни. Его станут вязать, – а он говорит: «Что ж, мол, вы ту ногу не путаете? путайте и ту, да покрепче, я пока посплю; а домой я раньше ваших провожатых поспею». Глядишь: точно, опять вернулся, опять тут, ах ты, Боже ты мой! Уж на что мы все, здешние, лес знаем, приобыкли сызмала, а с ним поравняться немочно. Прошлым летом, ночью, напрямки из Алтухина в Святое пришел, а тут никто и не хаживал отродясь, верст сорок будет. Вот и мед красть, на это он первый человек; и пчела его не жалит. Все пасеки разорил.
– Я думаю, он и бортам спуска не дает.
– Ну нет, что напраслину на него взводить? Такого греха за ним не замечали. Борт у нас святое дело. Пасека огорожена; тут караул; коли утащил – твое счастье; а бортовая пчела дело Божие, не береженое; один медведь ее трогает.
– Зато он и медведь, – заметил Егор.
– Он женат?
– Как же. И сын есть. Да и вор же будет сын-то! В отца вышел весь. Уж он его и теперь учит. Намеднись горшок с старыми пятаками притащил, украл где-нибудь, значит, пошел да зарыл его на полянке в лесу, а сам вернулся домой, да и послал сына на полянку. Пока, говорит, горшка не отыщешь, есть тебе не дам и на двор не пущу. Сын-то день целый просидел в лесу, и ночевал в лесу, а нашел-таки горшок. Да, мудреный этот Ефрем. Пока дома – любезный человек, всех потчует: пей, ешь сколько хочешь, пляска тут у него поднимется, балагурство всякое; а что коли на сходке, такая у нас сходка на селе бывает, уж лучше его никто не рассудит; подойдет сзади, послушает, скажет слово, как отрубит, и прочь; да уж и слово-то веское. А как вот уйдет в лес, ну, так беда! Жди разорения. А и то сказать: он своих не трогает, разве самому тесно придется. Коли встретит кого святовского – «Обходи, брат, мимо, – кричит издали, – на меня лесной дух нашел: убью!» Беда!
– Чего же вы смотрите? Целая вотчина с одним человеком справиться не может?
– Да уж пожалуй, что так.
– Колдун он, что ли?
– Кто его знает! Вот намеднись он к соседнему дьячку на пасеку забрался ночью, а дьячок-то караулил сам. Ну, поймал его, да впотемках и приколотил, Как кончил, Ефрем-то и говорит ему: а знаешь ты, кого бил? Дьячок, как узнал его по голосу, так и обомлел. Ну, брат, говорит Ефрем, это тебе даром не пройдет. Дьячок ему в ноги: возьми, мол, что хочешь. Нет, говорит, я с тебя в свое время возьму, да и чем захочу. Что ж вы думаете? Ведь с самого того дня дьячок-то, словно ошпаренный, как тень бродит! Сердце, говорит, во мне изныло; слово больно крепкое, знать, залепил мне разбойник. Вот что с ним сталось, с дьячком-то.
– Дьячок этот, должно быть, глуп, – заметил я.
– Глуп? А вот это как вы рассудите. Вышел раз приказ изловить этого самого Ефрема. Становой такой у нас завелся вострый. Вот и пошло человек десять в лес ловить Ефрема. Смотрят, а он им навстречу идет… Один-то из них и закричи: вот он, вот он, держите его, вяжите! А Ефрем вошел в лес да вырезал себе древо, эдак перста в два, да как выскочит опять на дорогу, безобразный такой, страшный, как скомандует, словно енарал на разводе: «На коленки!» – все так и попадали. «А кто, говорит, тут кричал: держите, вяжите? Ты, Серега?» Тот-то как вскочит да бежать… А Ефрем за ним, да древом-то его по пяткам… С версту его гладил. И потом все еще жалел: «Эх, мол, досадно: заговеться ему не помешал». Дело-то было перед самыми филипповками. Ну, а станового в скором времени сместили, – тем все и покончилось.
– Да зачем же они все ему покорились?
– Зачем! то-то и есть…
– Он вас всех запугал, да и делает теперь с вами что хочет.
– Запугал… Да он кого хочешь запугает. И уж горазд же он на выдумки, Боже ты мой! Я раз в лесу на него наткнулся, дождь такой шел здоровый, я было в сторону… А он поглядел на меня, да эдак меня ручкою и подозвал. «Подойди, мол, Кондрат, не бойся. Поучись у меня, как в лесу жить, на дождю сухим быть». Я подошел, а он под елкой сидит и огонек развел из сырых веток: дым-то набрался в елку и не дает дождю капать. Подивился я тут ему. А то вот он раз что выдумал (и Кондрат засмеялся), вот уж потешил. Овес у нас молотили на току, да не кончили; последний ворох сгрести не успели; ну и посадили на ночь двух караульщиков, а ребята-то были не из бойких. Вот сидят они да гуторят, а Ефрем возьми да рукава рубахи соломой набей, концы завяжи, да на голову себе рубаху и надень. Вот подкрался он в эдаком-то виде к овину, да и ну из-за угла показываться, помаленьку риги-то свои выставлять. Один-то малый и говорит другому: видишь? – Вижу, говорит другой, да как ахнут вдруг… только плетни затрещали. А Ефрем нагреб овса в мешок да и стащил к себе домой. Сам потом все рассказал. Уж стыдил же он, стыдил ребят-то… Право!
Кондрат засмеялся опять. И Егор улыбнулся. «Так только плетни затрещали?» – промолвил он.
– Только их и видно было, – подхватил Кондрат. – Так и пошли сигать!
Мы опять все притихли. Вдруг Кондрат всполохнулся и выпрямился.
– Э, батюшки, – воскликнул он, – да это никак пожар!
– Где, где? – спросили мы.
– Вон, смотрите, впереди, куда мы едем… Пожар и есть! Ефрем-то, Ефрем ведь напророчил. Уж не его ли это работа, окаянная он душа…
Я взглянул по направлению, куда указывал Кондрат. Действительно, верстах в двух или трех впереди нас, за зеленой полосой низкого ельника, толстый столб сизого дыма медленно поднимался от земли, постепенно выгибаясь и расползаясь шапкой; от него вправо и влево виднелись другие, поменьше и побелей.
Мужик, весь красный, в поту, в одной рубашке, с растрепанными волосами над испуганным лицом, наскакал прямо на нас и с трудом остановил свою поспешно взнузданную лошаденку.
– Братцы, – спросил он задыхающимся голосом, – полесовщиков не видали?
– Нет, не видали. Что это, лес горит?
– Лес. Народ согнать надо, а то, коли к Тросному кинется…
Мужик задергал локтями, заколотил пятками по бокам лошади… Она поскакала.
Кондрат также погнал свою пару. Мы ехали прямо на дым, который расстилался все шире и шире; местами он внезапно чернел и высоко взвивался. Чем ближе мы подвигались, тем неяснее становились его очертания; скоро весь воздух потускнел, сильно запахло горелым, и вот, между деревьями, странно и жутко шевелясь на солнце, мелькнули первые, бледно-красные языки пламени.
– Ну, слава Богу, – заметил Кондрат, – кажется, пожар-то поземный.
– Какой?
– Поземный; такой, что по земле бежит. Вот с подземным мудрено ладить. Что тут сделаешь, когда земля на целый аршин горит? Одно спасение: копай канавы – да это разве легко? А поземный – ничего. Только траву сбреет да сухой лист сожжет. Еще лучше лесу от него бывает. Ух, батюшки, гляди, однако, как шибануло!
Мы подъехали почти к самой черте пожара. Я слез и пошел ему навстречу. Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огонь бежал по редкому сосновому лесу против ветра; он подвигался неровной чертой или, говоря точнее, сплошной зубчатой стенкой загнутых назад языков. Дым относило ветром. Кондрат сказал правду: это действительно был поземный пожар, который только брил траву и, не разыгрываясь, шел дальше, оставляя за собою черный и дымящийся, но даже не тлеющий след. Правда, иногда там, где огню попадалась яма, наполненная дромом и сухими сучьями, он вдруг, и с каким-то особенным, довольно зловещим ревом, воздымался длинными, волнующимися косицами, но скоро опадал и бежал вперед по-прежнему, слегка потрескивая и шипя. Я даже не раз заметил, как кругом охваченный дубовый куст с сухими висячими листами оставался нетронутым, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не мог понять, отчего сухие листья не загорались. Кондрат объяснял мне, что это происходило оттого, что пожар поземный, «значит, не сердитый». Да ведь огонь тот же, возражал я. Поземный пожар, повторил Кондрат. Однако хоть и поземный, а пожар все-таки производил свое действие: зайцы как-то, беспорядочно бегали взад и вперед, безо всякой нужды возвращаясь в соседство огня; птицы попадали в дым и кружились, лошади оглядывались и фыркали, самый лес как бы гудел, – да и человеку становилось неловко от внезапно бьющего ему в лицо жара…
– Чего смотреть! – сказал вдруг Егор за моей спиной. – Поедемте.
– Да где проехать? – спросил Кондрат.
– Возьми влево, по сухоболотью проедем.
Мы взяли влево и проехали, хоть иногда трудненько приходилось и лошадям и телеге.
Целый день протаскались мы по Гари. Перед вечером (заря еще не закраснелась на небе, но тени от деревьев уже легли неподвижные и длинные, и чувствовался в траве холодок, который предшествует росе) я прилег на дорогу вблизи телеги, в которую Кондрат не спеша впрягал наевшихся лошадей, и вспомнил свои вчерашние невеселые мечтанья. Кругом все было так же тихо, как и накануне, но не было давящего и теснящего душу бора; на высохшем мхе, на лиловом бурьяне, на мягкой пыли дороги, на тонких стволах и чистых листочках молодых берез лежал ясный и кроткий свет уже беззнойного, невысокого солнца. Все отдыхало, погруженное в успокоительную прохладу; ничего еще не заснуло, но уже все готовилось к целебным усыпленьям вечера и ночи. Все, казалось, говорило человеку: «Отдохни, брат наш; дыши легко и не горюй, и ты перед близким сном». Я поднял голову и увидал на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают «девицами», а наш бесхитростный народ прозвал «коромыслами». Долго, более часа не отводил я от нее глаз. Насквозь пропеченная солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками… вот и все. Глядя на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе – вот самая ее основа, ее неизменный закон, вот на чем она стоит и держится. Все, что выходит из-под этого уровня – кверху ли, книзу ли, все равно, – выбрасывается ею вон, как негодное. Многие насекомые умирают, как только узнают нарушающие равновесие жизни радости любви; больной зверь забивается в чащу и угасает там один: он как бы чувствует, что уже не имеет права ни видеть всем общего солнца, ни дышать вольным воздухом, он не имеет права жить; а человек, которому от своей ли вины, от вины ли других пришлось худо на свете, должен по крайней мере уметь молчать.
– Ну, что ж ты, Егор! – воскликнул вдруг Кондрат, который уже успел поместиться на облучке телеги и поигрывал и перебирал вожжами, – иди садись. Чего задумался? Аль о корове все?
– О корове? О какой корове? – повторил я и взглянул на Егора: спокойный и важный, как всегда, он действительно, казалось, задумался и глядел куда-то вдаль, в поля, уже начинавшие темнеть.
– А вы не знаете? – подхватил Кондрат, – у него сегодня ночью последняя корова околела. Не везет ему – что ты будешь делать?..
Егор сел молча на облучок, и мы поехали. «Этот умеет не жаловаться», – подумал я.
1857