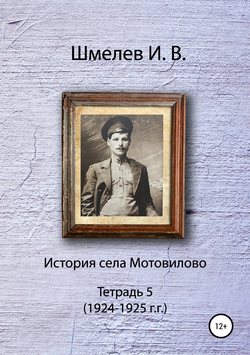Читать книгу История села Мотовилово. Тетрадь 5 - Иван Васильевич Шмелев - Страница 4
Жители села. Раздел семьи Федотовых
ОглавлениеНе совсем сладко проводят свой медовый месяц молодожены в русском крестьянском быту. Особенно в тех семьях, у которых одна изба: всюду чувствуется неудобство и стеснительность. Молодые обычно располагаются со своей постелью на кутнике или же подальше от посторонних глаз, на полатях. Да вот беда: лежи и не шелохайся. Чуть повернулись – скрипу не оберёшься. Еще дело усугублялось и тем, что старики, занимающие место для спанья на печи, грея бока и прокаливая свои простуженные и натруженные ноги на голых разогретых кирпичах, мало когда спали – все дремали. Уши, само собой разумеется, не затыкали. Малейший шорох их настораживал, поэтому-то и приходилось молодым вынужденно говеть: целоваться и миловаться тайно, в пол–азарта, в полунаслажденье. Млели втихомолку во избежание предательского скрипа, изнывая втиходвижку. Но тем не менее молодежь женилась и производила потомство.
Не проходило и году – у молодой пары появлялся ребенок. В избной тесноте появлялась и зыбка, подвешенная к потолку на очепе или же на пружине. Вновь появившегося на свет человека, наряду с молоком из материнской тощей груди, вскоре начинают приваживать и побочной пищей: подкармливают коровьим молоком из коровьего же рога через приделанный к нему коровий же сосок, отрезанный от вымени при заколе коровы. Тут и грязь, и мухи. А вскорости начинают ребенка приучать и к грубой пище: нажёванным хлебом через марлю.
Зыбка, согнутая из лубка, на дне – подстилка из соломы, сверху прикрытая тряпьем. Промокшая и обкаканная пелёнка, мухи, клопы, тараканы. Вот обстановка вступившего в жизнь человека в крестьянской действительности. Если ребенок родился дома – он счастливец, а то бывает рождение и в поле, на жнитве. Тут уж обстановка куда хуже домашней…
Частенько во время сенокоса и жнивы ребенка оставляли на целый день на попечение малолетних нянек, за которыми за самими-то нужен присмотр. Эти-то няньки, убаюкав ребенка в зыбке, выбегали на улицу играть, забывали о ребенке, а он уж давно проснулся и орет во всю своим голосисто–пронзительным криком. Ребёнок проснулся или из-за того, что его укусила злодейка муха, нахально пробравшись под положек, накрывающий зыбку, или же от того, что он весь обмочился и обваракался, или от того, что захотел поесть, или же от того, что летняя жара возбудила в ребенке жажду. Он нестерпимо захотел пить, но няньки, наигравшись, совсем отвлеклись от своей обязанности по воспитанию такого же почти как они сами ребенка и не слышат истошного с взвизгиванием крика.
Ребенок наплакивался до того, что обессиливал и изнемогал. Спохватившиеся няньки думают, что он умирает, но догадавшись напоить через рожок, как ребенок снова оживал, начинал дрыгаться и позволял себе даже улыбаться.
Часто с грудными детьми происходили и несчастные случаи. Он или по своей глупости засунет себе в рот какую-нибудь вещицу, или же по неопытности нянька, кормя сверх нормы, засунет в рот ребенку грубоватой пищи. Ребенок начинает давиться, а нянька, испугавшись, деловито начинает колотить его по спине, приговаривая: «Выплюнь, выплюнь!».
Обрыв очепа или веревки с пружиной, на которой висит зыбка, часто были причиной изрядных испугов и ушибов ребенка, от чего в результате этого были всевозможные калеки: кривые, косые, горбатые, напуганные дурачки. Часто были и смертельные исходы. От поноса или же от других детских болезней частенько, особенно по летам, то и дело относились маленькие гробики на кладбище.
Если у матери умирал ее единственный ребенок, то бабы, сожалеючи, хмакали. Если же у матери оставалось еще двое–трое «ваньков», то бабы ей завидовали и высказывали свою нескрываемую радость: «Какая Марья-то все же счастливая, схоронила ребенка-то, а то ее бы заполоскали, у нее их вон какая прорва!»
Все это и зарождало у молодых людей желание заиметь свою избёнку и отделиться от многолюдной семьи. Из-за этого и стало село расширяться во все стороны.
В многолюдной семье Федотовых тоже неудобство для молодых есть. Ванька, наточив колёсиков на шестнадцать каталок, вылез из-за станка, с устатку сладко потянулся, блаженно вытянув руки к потолку. Ему вздумалось для разнообразия поиграть, позабавляться с молодой женой, из токарни он поспешно пошёл в избу. Его Марья сидела на передней лавке, пряла. Она тоже была не против полюбезничать.
Перехватив улыбающийся взгляд входящего мужа, она ответно ласково, играючи, взглянула на него, а ведь нет лучшей игры, чем игра впереглядушки влюблённых. Ванька, не постыдившись и не вытерпев, подошёл к жене вплотную и стал с ней заигрывать, намекая на уединенность, озорно теребя куделю из гребня.
– А ты дай мне допрясть-то! – понимающе и взволнованно унимала Марья мужа. – Вот допряду эту мочку, и поиграем.
– Ну и дела! – с упреком заметил отец, подковающий кочедыком лапоть и наблюдавший за поведением молодых и укоряя сына. – Надо бы работать, он с молодой бабой валандается, а работа ему и на ум нейдёт. Хоть бы ночью миловались, не днем, да вдобавок пост сейчас, а они то и дело играют, и не надоест им! Кесь пора и насытиться! Пра, ешлитвою мать, – с дружелюбной улыбкой и тряся жиденькой бородой, отшутился отец.
– А ты, отец, не унимай их, чай, и мы были молодыми-то, все бывало! – заступнически вступила в Иванов разговор Дарья и сочувственно к снохе:
– Пойди-ка Марья, выскреби скребком пол в сенях, да почище, чтоб ни одной шишки не осталось.
Ванька предчувственно, догадливо вышел из избы. Обрадованная таким приказанием Марья встала с донца гребня, сладко потянулась, разнимая замлевшие в сидении ноги. Ноги ее были обуты в шерстяные чулки. Перед выходом в сени она, присев на сундук, стала обуваться в лапти (в будень валенки обувать не полагается). Разравнивая на ноге суверть портянки, она в забытьи бесстыдно раскорячилась. Заметя это, свекор не стерпел, чтоб с усмешкой не заметить: «Закрой сковорешницу-то, а то воробей влетит!» – Сладострастно хихикая, разразился смехом Иван. Участливо усмехнулась и Дарья.
Выйдя в сени и вооружившись скребком, Марья, наклоняясь, старательно принялась скрести пол в сенях. Он был изрядно покрыт нашлёпанными ногами грязными примёрзшими шмотками. К Марье сзади подкрался Ванька, он, играючи, обхватил ее руками. Она от неожиданности испугалась: «Ой! Как ты меня испугал! Я инда вздрогнула, и все во мне передернуло», – крикливо упрекнула она его. «А ты потише кричи. Ну и голос у тебя крикливый, словно, как в лесу, – дружелюбно заметил он ей. – Ты так-то можешь всех взбулгачить», – с досадой выговорил Ванька, страстно желая утащить ее в укромное место двора. Натешившись, Ванька снова в токарню и снова за станок, точить колеса и оси.
Наступила весна, пришла Пасха – самый большой праздник в году, пора весеннего веселья. Лежа в постели, Марья украдышным шепотом наговаривала на ухо мужу:
– У всех разговелось, а у нас ни молока, ни мяса… С такой пищи ноги не потащишь.
А во взаимной перебранке со свекровью она, натерпевшись и не сдержавшись, напрямик бухнула:
– У вас с такой пищи с голоду сдохнешь! – Дарья сдержанно протерпела, «в гору» со снохой не полезла. Только высказала ей: «Скажи спасибо, что пригрели тебя». А своему мужу, Ивану, выговорила: «И правда, отец, мы без коровы-то совсем заголодовались. Ты толкнись к Лабину, попроси денег на корову-то у Василия Григорьевича. Кстати, вон по дороге, кажется, он идет.
Иван полушубок в руки и поспешно выскочил на улицу. Перехватив путь Лабину, Иван учтиво поздоровался с ним.
– Василий Григорьич! Погоди-ка на минутку! У меня каталок-то полон двор, робяты каждый день по шестнадцать штук из токарни выкидывают. Так ты их, пожалуйста, забери, а то класть стало некуда. А мне в счет их деньжонок на корову дай.
– Сколько тебе, рублей двадцать пять, что ли?
– Нет уж, давай все тридцать. Семья-то у меня без коровы-то совсем заголодовалась. С плохой-то пищи, говорят, скоро ног не потащишь, а старшим-то, женатым сыновьям, не только за станком, а и по ночам с бабами работать приходится, – добродушно улыбаясь, шутил Иван.
– Я сочувствую, только у меня с собой-то денег-то нет, – с сожалением сказал Лабин. – Хотя, погоди: я вот сейчас к Савельеву Василию зайду, денег перезайму и тебе на дом принесу.
Перезаняв тридцать рублей у Василия Ефимовича, Лабин отнёс деньги Федотову прямо на дом. На другой день во дворе Федотовых снова появилась корова – купили.
Как-то ночью, идя с гулянья, подкрался, припал ухом к замочной дыре Мишка Крестьянинов, со злонамеренным любопытством выслушал задушевные секреты у молодой пары. Снедаемый местью за обиду от Ваньки (на Святках), решил отомстить. Мишка мало того, что разболтал парням о подслушанном секрете, да еще прихвастнул и с ехидным злорадством, хвалясь, разносил по селу:
– Иду я поздней ночью с гулянья, слышу где-то гутарят. Я к Федотовой мазанке подкрался, прильнул ухом, а внутри ее слышен приглушённый говорок, а о чем разговаривают никак не разберу. Я ухо примкнул к дыре, куда большой ключ втыкают, прислушался и все понял, все докумекал. Народ, бабы, новость подхватили и пошло по селу, поехало! По всему селу расползся слушок.
Послала Дарья Марью вылить из поганого ведра грязные помои, а она по простоте своей или по незнанию выбухнула эту грязь прямо на дорогу. Случайно подвернувшегося тут Николая Смирнова всего обдало брызгами. Наблюдавшая за снохой Дарья пожурила ее за это. А вечером послала Дарья сноху за коровой к стаду – опять неувязка. По неопытности вместо своей пригнала Марья домой чужую корову. Дарья, стоя у ворот, встретила ее с ехидной издевательской улыбкой:
– Ну, пригнала! Вот у нас и две коровы стало! Погляди, наша-то сама домой пришла и давно в хлеве стоит.
Краска стыда заревом полыхнула в лицо растерявшейся Марье. Затосковала Марья от нахлынувшей на нее кручины. Она вышла в город, повстречала там соседку Савельеву Любовь, решила поделиться с ней своей печалью, пожаловаться на свое житье–бытье.
– Ну и свекровушку бог мне дал! За каждым моим шагом следит. У нее и сзади-то глаза. Прямо поедом меня съела! – жаловалась Марья. – Да еще сношельница к свекрови подъюльнулась и, видимо, неспроста. И все на меня, и все на меня поливают. А каково мне все это переживать-то, а? А я все терплю, мне бы, дуре, надо осердиться, а я, как простофиля, не докумекиваю, все стерпливаю, а терпенье-то выносливо!
– А вон Анна Крестьянинова своей снохой не нахвалится, говорит, всем взяла, работяща, баслива и умна, – высказала свое суждение Любовь.
– Зато свекор об ней отзывается не лестно. У нее, говорит, больно кость широка, ее содержать расчёту нет, съедает помногу и материи на ее тело много надо, – чтоб несколько смягчить свое горе, высказалась о Крестьяниновой снохе Марья. – Да еще Мишка их, курносый дьявол, со своим языком сунулся, наплёл на меня разной небылицы. Ну, свекровушка-то и вовсе готова меня с вольного света свести. А я ни душой, ни телом ни в чем не виновата, а от колючей насмешки больнее, чем от удара!
– А ты бы Мишке-то выговорила, да постыдила его как следует, – предложила Любовь Марье.
– Я и так ему все высказала. Говорю ему, вот за то, что ты наболтал на меня, какую корысть получил? А он только, как изверг, зубоскалит и поводит своим носом-пятачком, и хоть плюй ему в нахальные буркалы. Ну, тетя, я тебе только одной откроюсь: жизни я своей не рада!
Марью крикнули чай пить. За столом сидела вся семья, к столу присела и Марья. Чай пили с сахаром, подбеливали топленым молоком, черпая его из деревянной чашки ложкой. Дарья, сидя на табуретке, блаженно схлёбывая чай с блюдечка, топыря глаза к потолку, вела непринуждённый разговор на хозяйственную тему:
– У нас новокупленная корова что-то уж больно доит молока-то помалу, прямо, вукороть. Беречь надо его и есть-то надо с убережью. Зря-то не расхлебаешься, только рази робёнку. Он какой-то золотушечный, ему нельзя ни картошку, ни конфетку, да еще видно молочные зубы выпадают.
И как бы между прочим, Дарья обратилась к мужу:
– Хозяин, а знаешь, что?
– Что?
– А корова-то у нас, знать, к быку просится. То-то я все наблюдаю, у ней хвост на бок.
– Вот и дело-то. Если бы сейчас обошлась, то как раз к Рождеству отелилась бы.
– Неплохо бы! – согласился с Дарьей Иван.
Выпив две чашки сладкого беленого чая, Марья повеселела, на ее лице появилась сдержанная улыбка, а когда ее Ванька, встав из-за стола, подошёл ближе к самовару, задрав рубаху, так что оголилось его брюхо выше пупка, стал подолом рубахи чистить горячий самовар, Марья не стерпела, с усмешкой шутливо ему заметила:
– Гляди, брюхо-то обожжёшь и хозяйство ошпаришь!
Все сидящие за столом весело рассмеялись. А отец счел нужным добавить:
– Какой ты, Ваньк, все же не сообразительный, так-то ты и в самом деле без струменту остаться можешь. Пра! – трясясь от смеха, добавил он.
Ванька недружелюбно посмотрел в сторону жены, та поняла, что позволила себе сказать не дело, снова потупела и утихла. Тяжело вздохнув, вышла на двор.
В сумерки Марье вздумалось навестить родителей. Она нерешительно подошла к свекрови, едва слышно спросилась:
– Матушка, я не надолго схожу к нашим?
– Сходи, разгуляйся, – разрешила Дарья.
Ушла Марья к своим, рассказала кое-что сочувствующей матери, да так и осталась в родном доме. К Федотовым не вернулась, прижилась у матери. Встретившая на улице ее подруга спросила ее:
– Надолго ли ушла?
Она без запинки ответила:
– Теперь меня к ним калачом не заманишь!
– А жалко тебе Ваньку-то?
– Я и сама-то не знаю, не пойму. Сначала-то вроде было жалко, а как раздумаюсь, да вспомню, что было, аж сердце жмет так, будто становится и не жаль.
– А може, вернешься? Говорят, вторая-то молодость злее?
– Не знаю, еще не испробовала такой прелести, – спокойно ответила Марья своей подруге-собеседнице.
Прожила Марья у матери с неделю. Как-то пошла на озеро за водой, наклонилась на мостках, чтоб зачерпнуть ведром воды, а внутри, где-то в боку, что-то так трепехнулось, что Марья от испуга обомлела и в недоумении так и присела. Прошептав молитву, вошла в себя и догадалась: в брюхе ворызнулся ребенок. Живое существо, толкнувшее Марью изнутри ее в бок, напомнило ей, что оно живет независимо от нее, растёт, придёт время, в виде человека появится на свет.
Выждав, когда вечер совсем погасил зыбкий сумрачный свет, Марья пришла в дом. Маскируясь тягучей темнотой, она в нерешительности робко присела на кутник. Дарья, поняв, что сноха вернулась, проговорила:
– Что же не раздеваешься, ай на побывку пришла? Ты уж поживи у нас, – улыбаясь, пошутила она.
Марья неторопко побрела к мазанке. В ее голове роились мысли, как она встретится с мужем и что будет говорить. Марья в нерешительности отворила дверь мазанки, там никого не было, постель пустовала. Она торопливо разделась и юркнула под одеяло. Вскоре откуда-то пришёл и Ванька.
– Ну, явилась! – коротко проговорил он и в нерешительности подсел на край кровати.
– Боюсь тебе сказать, а умолчать нельзя, – взволнованно и тяжело дыша, продолжала она свой бессвязный разговор, подбирая нужные слова. Но вместо слов она судорожно схватила его руку и, приложив ее к своему животу, выдохнула:
– Чуешь! Нынче только почувствовала, как он впервой ногой дрыгнул!
Ванька своей шершавой ладонью под теплой округлой кожей живота жены ощутил трепещущую толкотню живого невидимого существа. В этот момент в сознании Ваньки ворохнулась мысль, что там ворочается ребенок, которому отцом является он, Ванька. Он трепетно припал к жене, горячо и нежно поцеловал ее. Забился Ванька головой о теплую, пахнувшую сладковатым бабьим потом подмышку, перинюхался, пригрелся и вскоре уснул.
Хотя с мужем Марья и примирилась, но в семье чувствовала себя все также неловко и придавлено. Свекровь отношение к снохе не изменила и все так же с нее из-за малостей взыскивала. И деверь Санька с своим болтливым языком не унимался, частенько дело не в дело, высказывал свои насмешки с подковырками, хотя иногда и осаждал его отец:
– Ты свой поганый язык прикуси, а то я тебе его обрежу! – Санька после таких слов затихал, а дня через три все забывал и начинал снова.
Одно у Марьи утешенье – выйдя в огород, она ждет, когда там появится шабрёнка Савельева Любовь. Она с ней и побеседует, по-бабьи поговорит, отведёт свою наболевшую душу.
– Ну как, молодая, дела-то? Опять пришла, – сочувственно завела разговор Любовь.
– Ничего! Я бы не вернулась, да внутре почувствовала,там стало часто дрыгаться. Перед уходом я зафорсила, а теперь опомнилась, приходится стерпливать. Хотя я ни в чем не виновата была.
– А жалко тебе мужа было, когда уходила? – спросила Любовь.
– И жалко, и нет, ведь он, кроме каталок, ни лаптей сплести не может, ни кола обтесать не может, – расхаивая способности мужа, высказалась Марья.
– Конечно, он звезд с неба не хватает! – поддержала ее и Любовь.
– Это было бы полбеды, – продолжала Марья, – да все дело в свекрови, ведь она меня во всем упрекает и контролирует. Послала она меня одну в поле картошку полоть, наложила она мне в кошель обедку, так я за обедом побоялась все-то съесть, постеснялась, как бы обжорой не назвала. У нее на это ума хватит. Да и брюхо-то у меня и так распирает.
– Уж больно дивно получается, свою же сноху и так возненавидела, – пожалела Марью Любовь.
Знатный в селе труженик, семьянин Иван Федотов, решил отделить сына Михаила. В такой большой семье всем не ужиться. Летом, после весеннего сева, занялся постройкой дома для Михаила. Место подвернулось поблизости. Увезли на катках свой дом на новое место Комаровы. Вот тут, на углу, и решил Иван поселить сына Михаила.
Желая сына отстроить как можно скорее, Иван вставал утром спозаранку, пока остальные еще спят, брал в руки топор и отправлялся на стройку. Потяпывал топором, прилаживал бревна.
– Бог помочь! – поприветствовал Ивана мимо его проходивший Семион Селиванов. – А ты отдохни, уж больно ты круто взялся. Давай посидим, закурим.
– Бог спасет! – весело отозвался Иван, – только я сыздетства не курю, не сосу, рази когда был ребенком, сосал, и то не помню, – отшутился Иван. – Так что не в коня корм тратить, а вот насчёт отдохнуть – это я не против, я с солнышком вышел сюда.
– То и есть-то! – подхватил слова Семион. – Ты это бревно как хочешь положить-то? – поинтересовался у Ивана Семион.
– Вот сюда комлем, – деловито ответил Иван.
– Ах, да, ну да, оно так и гласит. Ну, тогда так и валяй, вваливай, – порекомендовал ему Семион. – С детями-то так, одного не успеешь отстроить, как другой подоспеет, с ними только растуривайся.
– Вот именно.
– Ну, пока, я пошёл.
– Всего хорошего, Семион Панфильич!
После кратковременного отдыха Иван один не долго провозился на стройке. Ему вздумалось позавтракать, да и ребят пора будить.
– А я уж давно устряпалась! – встретила его Дарья, подавая ему стопку блинов из чулана. Наевшись, Иван пошёл будить.
– Мишк, Мишк, вставай, очнись! Эх, вот привалило! Спит, как убитый, тебе ли бают, проснись! Рази не для тебя строю! – последний довод пружиной поднял Михаила. Выбравшись из-под теплого одеяла и покинув припахнувшее сладковатым бабьим потом, разомлевшее тело жены, он, кряхтя, встал обуваться в лапти. Иван оторвал от сна и Ваньку, а Панька, Сергунька и Санька как холостяки остались досыпать. Они поднимутся с постелей попозднее и займут свое рабочее место в токарне. После завтрака на стройке работа пошла подружней и поподатней. Тяжёлые бревна подтаскивали веревкой под «Дубинушку». «Дубинушку» запевал сам отец, и под весёлое озорное уханье все трое, по-бычиному упираясь, волокли бревна к месту, укладывали их в сруб.
– Вот, робяты, как под «Дубинушку»-то легко и податно работать-то, а!? – весело усмехался отец, оскаливая свой редкозубый рот и тряся своей редковолосой и отвисшей, как у козы, бородой. Сыновья, подхваливаемые отцом, задорно работали, подражая отцу, азартно смеялись. Все трое работали упористо и дружно. Все трое народ крепкий и хлебный, сила есть. Все трое некурящие, отдыхали мало. Рубя сруб, орудуя топорами, вырубая чашки в бревнах, сыновья вели по одному углу, отец вел два угла.
За ужином отец мало ел от усталости и дремоты, клевал носом.
– Отец, что не ешь? – заметила ему Дарья.
– Я не особо хочу, утром блинов наелся. Я ведь их съел семь блинов всухомятку, да восемь с молоком.
– Эт что же выходит, у тебя в брюхе-то пятнадцать блинов уместилось?
– Выходит, так! И вроде бы как не сыт, ни голоден! – усмехнувшись, добавил он. – Это бы ничего, да утром-то один таскамши бревна, видно, надорвался: животом страдаю, должно быть, от натуги сорвал все в себе. В брюхе, как ножами режет, урчит и понос на девятый венец открылся под вечер. Стало невтерпеж, гашник из рук не выпускаю, замучился, – жаловался он Дарье. В животе у него громко урчало, словно лихая тройка резво разъезжалась по мосту.
– Здоровье всего дороже! – поддержала его Дарья.
– А нам, в крестьянстве, хворать неколи, – заключил свою жалобу Иван и, кряхтя, побрел к печи с тем расчётом, чтоб завалиться на ее разогретую стлань и брюхом припасть к горячим кирпичам, чтоб утихомирить ложные позывы. А Михаил и Ванька, изрядно уставшие за день, едва доплелись до дому, но аппетит у них разыгрался волчий. За ужином они ухобачивали за обе щеки, только за ушами трещало. Припасённое на столе они подмели под метелку. Наверсытку Ванька, взяв в руки пирог величиной с лапоть, начинённый мятой картошкой, примерочно приложив его к животу, не обращаясь ни к кому, шутейно спросил:
– Как по–вашему, уместится он у меня в брюхе, ай нет?
Дарья, видя, что семья разъелась не на шутку и на сыновей напал непомерный жрун, чувствуя, что в чулане хлеб на исходе, а утром придётся плотников кормить завтраком, решила пойти к Крестьяниновым, перезанять хлеба.
Вешая каравай на ухвате (за отсутствием безмена), Анна выговорила Дарье:
– Смотри, и ты принеси в случае хлеб-то тоже без картошки!
Придя домой, Дарья, укоряя, ругала себя:
– Дура я или нет: взбрело же мне в голову пойти, к кому хлеба взаймы попросить. Пошла и три раза испокаялась! Хлеб дают взаймы, и то с выговором, как будто мы не люди!
– Ну, так не ходила бы, – заметил ей с печи Иван.
На утро следующего дня мужики, как обычно, занялись стройкой, а Марья взялась за стирку белья. Набрав полную корзинку мокрого белья, она пошла на озеро полоскать. В правой руке корзинка, в левой – валек. Избоченясь от груза, она с одолевавшей ее одышкой, пересиливая себя от рези в животе, тихо пробралась на средину колыхающегося под ней плота мостков. Подобрав подол сарафана и зажав его между колен, она с натужностью принялась полоскать рубахи, штаны и кальсоны, шлепая по ним вальком и выбивая из них излишнюю грязь. Возвратясь с озера к дому, Марья сполоснутое белье развесила на шест, прибитый к углам избы под самыми окнами.
– Бедная, еле ходит, видно, гороху много съела. Видимо, последние дни ходит. И что мучают бабу, – не то жалея, не то так просто заметил про себя сосед Василий, наблюдая, как пересиливается, натруждаясь, Мария.
В полдень мужики пришли со стройки обедать. Усаживаясь на лавке, отец продолжал, видимо, начатый еще там, на стройке, разговор, восхваляя Михаила с чувством превосходства его и в мастерстве, и в силе перед Ванькой:
– Нет, Ваньк, ты спрыть Мишки, видать, мало каши ел! – задорно смеясь, подзадоривая, хохотал он.
– Да я особенно-то и не хвалюсь! – отзывался Ванька.
– А ты, отец, не подтравляй и их не разъерехонивай! – строго прикрикнула Дарья, – и вообще, скорее обедайте и живей выкатывайтесь из избы-то!
– А что? – удивленно опешил Иван.
– Так ничего! Марья что-то занемогла, – намекающее уведомила семью.
– А где она?
– Я ее в баню отвела.
Поняв, в чем дело, Иван затормошился, заволновался. Он поспешно вылез из-за стола, бесцельно хлопотливо затолмошился по избе.
– Ах, ты, батюшки, надо бы сватьёв известить! Я, пожалуй, к ним сбегаю, – разохотился Иван, не находя себе места, топтался по полу.
– Ладно тебе ввязываться-то в наше бабье дело-то, – укротила его Дарья.
Не поев как следует, мужики вышли из-за стола. Вылезая, перекрестились на образа. Отец с Михаилом зашагали на стройку, а Ванька задержался у дома. Он в раздумье о жене притупленным взором смотрел на развешенное под окнами ею белье, среди прочих вещей он глазами отыскал висевшую Марьину нательную рубашку, рядом с ней он увидел трепыхающиеся на ветру свои подштанники. Надуваясь ветром, они рогатились и снова, отвиснув, опадали. Ванька тихо побрел на стройку.
Тем временем, Санька Федотов с Ванькой Савельевым, подбирая яблоки, опавшие с яблонь, попытались было заглянуть в баню, их одолевало детское любопытство, но Дарья их шелыгнула, наделяя угрозами и руганью.
– Ах, вы, баловники, эт вы куда забрались! Все яблоки обили, по целым за пазухам набили, весь сад ополовинили. Самовольники, я вот вам сейчас задам, крапивой жопы напорю! Вы у меня будете знать, как по огородам лазить! Ах, вы, дуй вас гора! Мошенники, дьяволята! – крича во все задворки, не унималась Дарья. – Держи их, держи! – ни к кому не обращаясь, стараясь подальше отогнать их, орала она. А Санька с Ванькой пыхнули, только их и видели.
Роды, по деревенскому обычаю, происходили в бане. Бабкой-повитухой была сама свекровь, Дарья. Приняв голосисто кричавшего мальчика, она все устроила, что полагается и требуется в таком случае. После всех родовых процедур Дарья намыла роженицу и уложила ее на полок отдыхать, подложив ей под голову подушку.
Ребенок рос и развивался. Он усилил тесноту в доме, ускорил подготовку к разделу семьи, заставил ускоренными темпами отделывание дома для Михаила. На достройку ринулась вся семья: отец, Михаил, Ванька, Панька, Сергунька и даже малолеток Санька помогал по своей силе и возможности – прямил гвозди, подавал плотникам нужную доску.
– Санька! А ну-ка, подай сюда мне вон этот обрезок доски, – попросил его отец сверху. Санька со всем детским услужливым рвением бросился, отыскал ту дощечку и угодливо подал ее отцу. Подмывало Саньку какое-то радостное веселье, хотелось ему, чтоб поскорее отделился Михаил, и он, Санька, будет побегивать к брату на ночлег – для охоты.
То и дело слышался распорядительный голос отца. То он давал деловые указания сыновьям, как лучше приладить ту или иную слегу, жердь к стропилам, доску с фронтону. То раздраженно покрикивал, чтоб они оплошно не зазевывались и нечаянно не зашибли друг друга.
– Ты, Сергунька, только вертишься, как бельмо на глазу. Не столько помогаешь, сколько мешаешься под ногами. Тово гляди с тобой беды наживёшь! – обрушился отец на вяловатого в движениях, хилого, долговязого Сергуньку. Тот смущенно и виновато глядел в глаза отца, стараясь понять, за что же так незаслуженно упрекает его отец, ведь он, как и все, всем своим старанием желает, чтоб дом для Михаила отделать поскорее.
К вечеру этого дня отец, лазая по стропилам, так намучился и устал, что еле добрел до дому. Он, не разувшись, брякнулся на кутник, стал жаловаться Дарье:
– Эх, я нынче и устал, едва доработался до вечера. Мало ноги наломал, лазая по обрешётке стропил, да еще вдобавок всю грудь заложило, дыхнуть больно, и руки болят, пальцы все в заусенцах! Это бы еще ничего, да вдобавок к самому вечеру голова разболелась! – насчитывал свои боли он.
– А ты выдь на улицу, и всю боль из головы ветром выдует! – деловито порекомендовала ему Дарья.
– Эх, у меня нынче тоже голова разболелась, – сунулся с языком Санька.
– А тебе делать нечего, залезь на печь, голова не задница, завяжи и лежи! – усмешливо заметила ему мать.
Отец разразился таким задорным смехом, что не в силах воздержаться, смеялась вся семья.
После жнитвы, под самую осень, настал день раздела многолюдной федотовой семьи и делёжки имущества, находящегося в хозяйстве. На дележ собралась в избе вся семья, как на некий праздник. Сам хозяин Иван, усевшись на председательском месте, на лавке под образами, пустив растроганную слезу, начал так:
– Ну, Мишка, отделяйся, опосля не кайся! – едва сдерживая себя, чтоб не разрыдаться, гаркнул он. – Коль назвался груздем – полезай в кузов! – многозначительно, загадочно и с намёками продолжал он. – Впрягайся в хозяйство, ты теперь сам домохозяином будешь! Хватит, пожил за отцовой-то спиной. Я вот погляжу, что от вас тронется. Или спать без просыпу будете, или с бабами валандаться по целому уповоду будете! Ешлитвою мать-то! – с самодовольным хихиканьем в смехе трясся он. – Ну, ладно, ничего, это так, к слову, чай, все люди грешные. И мы молодые-то были, а если бы этого не было, и нас бы не было. Бывало, было и так, при разделе иной семьи имущества, кроме общей избы, ничего не оказывалось, и вместо надела отец отделявшемуся сыну давал жену, сковородник вместо подожка в руки, и провожал из дома. Сын уходил и говорил: «Спасибо, тятя, на наделе!» А я, Мишк, тебе даю: дом, хлеба! Наделяю тебя как полагается по едокам, картошку разделим по всем правилам, когда выроем ее, кое–что из посуды и инвентаря, квашню, чашки, ложки. Вот, пожалуй, и все. Живите, добра наживайте! – напутствовал отец Михаила. Его деловую и назидательную речь слушала вся семья внимательно, не перебивая, потому что эта речь отца касалась не только Михаила, но и остальных сыновей.
Ванька, не выдержав, сдержанно и боязливо, чтоб не разгневить, выговорил отцу:
– А ты зачем, тятьк, Мишке сверх всего этого самовар-то посулил?
– А ты перве узнай, а там уж и бай! – ощетинившись, обрушился на него отец. – Ты отколь знаешь, что я посулил? Вроде я не знаю, что нам с семьёй без самовара-то оставаться, как без коровы. Вот выдумщик какой нашёлся! – наседая на Ваньку, ругая его, ерепенился отец. – Пусть сами наживают. Поживут с годик, можа, и самовар приобретут, – остывая, закончил свою речь отец.
Мать Дарья от себя тоже давала наказ отделявшемуся сыну Михаилу и снохе, да и вообще всем, которым предстоит отделиться в будущем.
– Вам, бабам, особый мой наказ и поученье: чтобы в доме хлеб не переводился, пустую квашню в сени не выносите, пока хлебы в печи сидят. Это первая моя заповедь. А вторая: нас не забывайте, почаще наведывайтесь к нам, и мы вас будем навещать, с шабрами в миру живите, потому что соседи-шабры ближе всякой родни, с людьми будьте вежливыми, старших уважайте, к знатным людям села относитесь с почтеньем и покорностью.
После раздела крупного инвентаря начали делёжку мелочи: ведер, коромыслов, ухватов, кочерег, серпов, из-за чего расспорились и чуть не подрались.
Наступил день проводов Михаила с семьёй и наделом в новый дом, на новое местожительство. Вся семья собралась в избе в торжественных позах все расселись по лавкам. Сам хозяин, отец, занял место перед столом на табурете. Поговорили, побеседовали, еще раз словами понапутствовали Михаилу с Анной.
– Ну, вставайте, – скомандовал отец. – Помолимся, да и с Богом!
Все торжественно и деловито помолились.
– Ну, пошли! – приказал отец, едва сдерживая просившиеся из глаз слезы.
Провожая сына из избы (старый скворец молодого птенца из скворешницы), впереди пошёл сам Иван, за ним с большим караваем и с солоницей в руках двинулся Михаил, за ним с ребенком на руках следовала Анна, за ней шествовала Дарья. Остальная семья шла сзади. При выходе из дома все остановились у окна.
– Ну, ступайте! – захлёбываясь от горечи в горле, едва проговорил отец и рухнул на завалину, затрясся в рыдании. Михаил, не смея смахнуть с глаз слезы (да и руки были заняты), не оборачиваясь, пошёл от избы, в которой он родился, возрастал и возмужал. Его жена Анна, едва сдерживая рыданья, со слезами на глазах с благодарностью выкрикнув «Батюшке и матушке спасибо на наделе!», степенно и покорно зашагала за Михаилом.