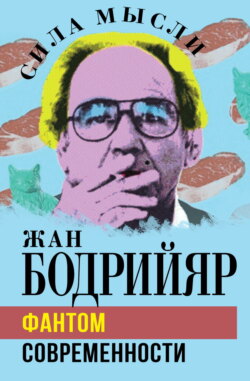Читать книгу Фантом современности - Жан Бодрийяр, Жан Бодрийяр - Страница 3
Америка
Пустыня
ОглавлениеТехас
Ностальгия, рождающаяся от необъятности техасских холмов и сьерр Новой Мексики: петляние по автотрассе, суперхиты в стереосистеме «Крайслера», волны раскаленного воздуха – просто в фотографии всего этого не передать, нужен целый фильм о путешествии в реальном времени, в котором запечатлелась бы и невыносимая жара, музыка, – фильм, который потом можно было бы целиком смотреть у себя, в затемненной комнате, вновь ощущая магию автотрассы и расстояния, охлажденного алкоголя в пустыне, скорости, переживая все это на видеозаписи, дома, в реальном времени – не только ради ни с чем не сравнимого удовольствия, которое мы получаем от воспоминаний, но еще и потому, что очарование бессмысленного повторения уже заключено в абстрактности путешествия. Движение пустыни бесконечно близко вневременности фильма.
Сан-Антонио
Мексиканцы служат гидами в Эль Аламо и воздают хвалу героям американской нации, которых доблестно истребляли их же собственные предки; но несмотря на все мужество последних, в конце концов каждый добился своего: сегодня их внуки и правнуки здесь, на поле битвы, прославляют американцев, укравших их землю. История хитра на выдумки. Мексиканцы, которые тайком переходят границу, чтобы найти здесь работу – тоже.
Солт-Лейк-Сити
Помпезная мормонская симметрия; всюду мрамор – безукоризненный и погребальный (Капитолий, орган Центра Посетителей). И вместе с этим лос-анджелесская современность, все необходимые гаджеты абсолютного, инопланетного комфорта.
Христианский купол (все изображения Христа здесь смахивают на Бьерн Борг, поскольку скопированы с «Христа» Торвальдсена) представляет собой симуляцию третьего уровня: религия сделалась спецэффектом. При этом весь город содержит в себе прозрачность и нечеловеческие черты внеземного объекта. Симметричная, светоносная, властвующая абстракция.
Бой электронных часов разносится по всей территории скинии, сотканной из роз, мрамора и евангелического маркетинга – такова удивительная пуританская обсессия на фоне жары, в самом сердце пустыни, возле озера с тяжелой водой, столь же гиперреальной по причине высокой плотности соли; а дальше – Великая Пустыня, где пришлось изобрести скорость современных автомобилей, чтобы победить абсолютную горизонтальность…
Но сам город – словно жемчужина, со своим чистым воздухом и урбанистическими перспективами, от которых захватывает дух и которые еще более прекрасны, чем в Лос-Анджелесе. Удивляющее великолепие и верность современному духу этих мормонов – богатых банкиров, музыкантов, всемирно известных знатоков генеалогий, многоженцев (Эмпайер Стэйт в Нью-Йорке имеет что-то общее с этим похоронным пуританством, возведенным в энную степень х.
Транссексуальная капиталистическая надменность мутантов создает магию этого города, так непохожую на магию Лас-Вегаса – огромной шлюхи на другом краю пустыни.
Великий Каньон
Геологическая, а стало быть и метафизическая, монументальность в противовес физической высоте обычных рельефов. Обращенные рельефы, изрытые ветром, водой, льдом, затягивают вас в водоворот времени, в кропотливую вечность медленно разворачивающейся катастрофы. Сама мысль о миллионах и сотнях миллионов лет, которые потребовались на то, чтобы постепенно уничтожить в этом месте земную поверхность, оказывается мыслью перверсивной, ибо она заставляет смутно почувствовать существование знаков, которые задолго до появления человека вышли из своего рода договора об изнашивании и эрозии, заключенного между различными стихиями.
К этому гигантскому нагромождению знаков, к этой чисто геологической реальности человек не имеет никакого отношения. Быть может, только индейцы и смогли истолковать малую часть этих знаков. И тем не менее все это знаки. На самом деле внекультурность пустыни только кажущаяся. Вся страна навахо, длинное плато, ведущее нас к Великому Каньону, утесы перед Долиной Памятников, пропасти Зеленой реки (секрет всего этого края скрывается, может быть, в том, что ее рельеф – это рельеф бывшего морского дна, сохранившего по выходе на поверхность свои сюрреалистические океанические очертания), – весь этот край осенен магическим присутствием, не имеющим ничего общего с природой. Очевидно, что потребовалась индейская магия и самая жестокая религия, чтобы победить такой абстрактный масштаб геологического и астрального факта пустыни и жить, соответствуя такому окружению.
Что же есть человек, если предшествующие ему знаки обладают такой силой? Человеческая раса должна изобретать жертвоприношения, равные порядку естественных катаклизмов, которые ее окружают.
И может быть, именно эти рельефы, утратившие свою естественность, и дают полное представление о том, что такое культура. Долина Памятников: внезапно возведенный массив языка, в дальнейшем подвергшийся неизбежной эрозии, тысячелетние осадочные образования, глубина которых явилась результатом эрозии (смысл рождается из эрозии слов, значения – из эрозии знаков) и которые сегодня обречены, как и вся культура, стать заповедником.
Солт-Лейк-Сити: мировые генеалогические архивы, оберегаемые в глубине гротов пустыни мормонами, этими богатыми пуританами-конкистадорами, и Бонвильская трасса, пролегающая по девственно чистой поверхности пустыни, на которой, развиваются самые высокие скорости в мире. Происхождение рода подобно глубине времени, а скорость звука – чистой поверхностности.
Аламогородо: первое испытание атомной бомбы среди Белых Песков, бледно-голубые очертания гор и сотни миль белого песка – ослепляющий неестественный свет бомбы против ослепляющего света земли.
Торреа Каньон: Институт Солка – святыня ДНК и всех лауреатов Нобелевской премии по биологии, здесь, в этом здании из белого мрамора, которое своей архитектурой напоминает дворец Миноса и обращено в безбрежность Тихого океана, взращивается будущая ученая элита…
Это поразительное место, высшие сферы воплощенного вымысла. Возвышенная и трансполитическая зона инопланетного мира, где совпали нетронутое геологическое величие земли и сложнейшие технологии – ядерная, орбитальная, информационная.
* * *
Я искал звездную Америку, Америку бесплодной и абсолютной свободы freeways, и никогда – Америку социальную и культурную, Америку скоростей пустыни, мотелей и каменистой поверхности, и никогда – Америку глубинную, Америку менталитета и нравов. В стремительной смене картин, в безразличном свечении телевизора, в череде дней и ночей, проносящихся сквозь пустое пространство, в чудесной безаффектной последовательности знаков, образов, лиц, ритуалов автотрассы я искал то, что ближе всего к той ядерной и вылущенной вселенной, в которую, возможно, вплоть до европейских хижин, превратилась наша вселенная.
Я искал будущую социальную катастрофу в той, что произошла в геологии, в этом выворачивании глубины, о котором свидетельствуют изборожденные пространства, нагромождения солей и камня, каньоны, в которых исчезают окаменевшие потоки, древняя пропасть медлительности, которую создают геологические процессы; я искал это даже в вертикальности мегаполисов.
Об атомном характере этой будущей катастрофы я знал еще в Париже. Но для того чтобы понять это, необходимо отправиться в путешествие, которое реализует то, что Вирилио называет «эстетикой исчезновения».
Ибо, вырастая на глазах, ментальный образ пустыни представляет собой очищенную форму социального дезертирства. Дезаффектация здесь находит совершенную форму в неподвижности. Холод и мертвенность, заключенные в дезертирстве или социальной энуклиации, здесь, в зное пустыни, обретают свой зримый образ. В поперечности пустыни, в иронии геологии трансполитическое обретает свое родовое и ментальное пространство. Бесчеловечность нашего запредельного, асоциального и поверхностного мира сразу же находит здесь свою эстетическую и экстатическую форму. Ибо пустыня – это всего лишь экстатическая критика культуры, экстатическая форма исчезновения.
Значение всех пустынь состоит в том, что они в своей иссушенности оказываются негативом земной поверхности и наших цивилизованных установок. Это место, где рассеиваются страсти, и где прямо от созвездий, настолько чист воздух, нисходит звездное влияние. Может быть, даже существовала определенная необходимость, чтобы индейцы были истреблены, вследствии чего, приоткрылись предшественники более великие, чем человек: минералы, геологические процессы, звездность, нечеловеческая искусственность, сушь, изгоняющая искусственные крупицы культуры, и такая тишина, которой нигде в мире больше не существует.
Тишина пустыни одновременно и визуальна. Она создается протяженностью взгляда, который не находит для себя ничего, на чем бы он мог сосредоточиться. В горах вообще не может существовать тишины, поскольку горы кричат своими очертаниями. К тому же, чтобы тишина существовала, необходимо, чтобы и время стало в каком-то смысле горизонтальным, чтобы не существовало никакого отзвука времени в будущем, чтобы остались лишь оседание геологических пластов и исходящий от них каменный гул.
Пустыня: светоносные и окаменевшие сплетения нечеловеческого разума, предельного безразличия – не только неба, но и колебания земных пластов, где кристаллизуются одни метафизические страсти пространства и времени. Здесь ниспровергаются границы желания: каждый день и каждая ночь уничтожает их. Но подождите, пусть наступит утро и вместе с ним проснется каменный гул, пробудится животная тишина.
Скорость создает чистые объекты, и сама по себе она также является чистым объектом, поскольку устраняет поверхность и территориальные референции, ускоряет течение времени, стремясь к его полной отмене, поскольку движется быстрее, чем ее собственное основание, и ускоряет движение, чтобы это основание уничтожить. Скорость – это победа следствия над причиной, триумф мгновения над временем как глубиной, триумф поверхности и чистой объектности над глубиной желания. Скорость создает инициационное пространство, которое может нести в себе смерть и единственный закон которого – стирание следов.
Торжество забвения над памятью, безоглядное опьянение, амнезия. Поверхностность и обратимость чистого объекта в чистую геометрию пустыни. Движение создает своего рода невидимость, прозрачность, внеположенность вещей пустоте. Это своего рода замедленное самоубийство посредством истощения форм, упоительный вид их исчезновения. Скорость не вегетативна, она располагается ближе к миру минералов, к преломлению света в кристалле, и сама по себе оказывается местом катастрофы и поглощения времени. Но, может быть, ее очарование – только лишь очарование пустоты, тогда как соблазняет только тайна. Скорость – инициационное пространство пустоты: ностальгия по возвращению неподвижности, обратная сторона возрастания подвижности. Что-то вроде ностальгии по живым формам в геометрии.
Однако здесь, в этой стране, существует сильный контраст между возрастающей абстракцией атомного универсума и первичной, внутренней, неудержимой витальностью – проистекающей не из укорененности, а из искорененности – метаболической витальностью как в сексе, так и в работе, в телах или дорожном движении.
* * *
В сущности, Соединенные Штаты со своим пространством, со своей черезвычайной технологической изощренностью и простодушием, включая и те пространства, которые они открывают для симуляции – единственное реально существующее первобытное общество. И все очарование состоит в том, что можно путешествовать по Америке как по первобытному обществу будущего, обществу сложности, смешанности, все возрастающей скученности, обществу жестоких, но прекрасных в их внешнем разнообразии ритуалов, обществу непредсказуемых последствий тотальной метасоциальности, очаровывающего своей имманентностью, и в то же время – обществу без прошлого, которое можно было бы осмыслить, а значит, подлинно первобытному… Первобытность проникла в этот гиперболический и нечеловеческий универсум, который ускользает от нашего понимания и далеко превосходит свои собственные моральные, социальные и экологические основания.
Только пуритане могли изобрести и развить эту экологическую и биологическую мораль самосохранения и, соответственно, мораль расовой дискриминации. Все становится сверхзащищенным природным заповедником, столь опекаемым, что сегодня говорят о денатурализации Йосемитского национального парка и необходимости его возращения природе, как это произошло с племенем тасади8 на Филиппинах. Пуританская одержимость истоками характерна именно там, где больше не существует территории. Одержимость нишей, контактом там, где в действительности все происходит при равнодушном попустительстве звезд.
В обыденности искусственных парадизов, если только они охватывают всю вне-культуру, есть что-то похожее на чудо. В Америке именно пространство порождает разгул обыденности suburbs9 и funkey towns.10 Пустыня находится повсюду и спасает незначимое. Пустыня, где чудо автомобиля, льда и виски совершается постоянно: чудо удобства, смешанное с фатальностью пустыни. Собственно американское чудо непристойности: тотальная свобода, прозрачность всех функций пространства, которое тем не менее неупразднимо в своей протяженности и может быть побеждено только скоростью.
Американское чудо: чудо обсценного
Метаморфические формы и есть то, что можно назвать магией. Так, это не обычный лес, а лес окаменелостей, минералогический. Это и соляная пустыня, которая белее снега, горизонтальнее моря. Эффект монументальности, геометрии, архитектуры там, где ничего не было задумано или помыслено. Каньонслэнд, Сплит Маунтин. Или наоборот: аморфный рельеф без рельефа, грязевые холмы (Мад Хиллс), сладострастный и окаменевший, лунный рельеф древнего морского дна в монотонных разводах. Белая зыбь Белых Песков…
Для того чтобы устранить живописность природы, необходима эта сюрреалистичность элементов, чтобы отменить естественную живописность движения, необходима эта метафизика скорости.
В действительности концепция путешествия без цели и, следовательно, без конца выстраивается лишь постепенно. Отказаться от туристических аватар, разглядывания красот, достопримечательностей, самих пейзажей (остается лишь их абстракция в призме летнего зноя). Нет ничего более чуждого чистому путешествию, чем туризм и досуг. Именно поэтому оно как нельзя лучше реализуется в экстенсивной обыденности пустынь или столь же пустынной обыденности метрополий, которые воспринимаются не как место удовольствий или средоточия культуры, а только лишь телевизуально, как сценарии. Именно поэтому, будучи эйфорической формой детерриторизации тела, такое путешествие лучше реализуется при исключительной жаре. Возрастание движения молекул при высокой температуре приводит к незаметному улетучиванию смысла.
Если оставить изучение нравов, то в расчет принимается только лишь безнравственность преодолеваемого пространства. Эта безнравственность, да чистое расстояние, да освобождение от социального – вот что имеет значение. Здесь, в самом высоконравственном обществе, безнравственны пространства. И этот имморализм, который делает расстояние легким, а путешествие бесконечным, освобождает мышцы от усталости.
Движение – зрительная форма амнезии. Все, что возникает – стирается. Конечно существуют первый шок от пустыни и ослепление Калифорнией, но когда все это проходит, путешествие словно вспыхивает с новой силой; с новой силой возникает непомерное, неизбежное расстояние, бессчетность лиц, безымянных просторов или чудесных геологических образований, которые, сохраняя образ разрушений, в конечном счете не являются свидетельством чьей-то воли. Это путешествие не допускает никаких сбоев: когда оно спотыкается о знакомое лицо, привычный пейзаж или попытки расшифровки виденного, все его очарование улетучивается – амнезическое, аскетическое и асимптотическое очарование исчезновения уступает место аффекту и светской семиологии.
Существует внутреннее возбуждение, характерное для такого рода путешествий, и, соответственно, определенный тип усталости. Своего рода лихорадка, вызванная чрезмерной жарой, скоростью, избытком увиденных, воспринятых, покинутых, забытых вещей. Успокаивание тела, утомленного пустотой знаков, функциональными движениями, ослепительным сиянием неба и сомнамбулическими расстояниями – протекает очень медленно.
По мере того как культура, наша культура, утрачивает плотность, вещи внезапно делаются легкими, И эта изобретенная американцами зрительная форма цивилизации – форма эфемерная и столь близкая к беспамятству – неожиданно оказывается более близкой к правде, к единственной в своем роде правде жизни, которая нас подстерегает. Форма, преобладающая на американском Западе, и, вероятно, во всей американской культуре – форма сейсмическая: это расчлененная, промежуточная культура, вышедшая из разломов древнего мира, культура тактильная, хрупкая, непостоянная, поверхностная – и, чтобы уловить ее игру, нужно двигаться, соблюдая эти правила: сейсмический сдвиг, экологически чистые технологии.
* * *
В этом путешествии передо мной встает лишь один вопрос: насколько далеко можно зайти в истреблении смысла, до какого предела можно двигаться в безреферентной форме пустыни, не рискуя при этом лопнуть, как мыльный пузырь, и, конечно же, сохраняя при этом эзотерическое очарование исчезновения?
Теоретический вопрос в данном случае материализуется в объективных условиях путешествия, которое уже путешествием не является и подчинено основополагающему правилу: правилу точки невозвращения. В этом вся суть вопроса. И решающий момент наступает тогда, когда внезапно становится очевидно, что оно не имеет конца, и что у него вообще нет основания закончиться.
За определенной точкой меняется само движение. Движение, которое само по себе проходит сквозь пространство, оказывается поглощенным самим пространством: конец сопротивления, конец собственно сцены путешествия (точно так же реактивный двигатель, не имеющий больше энергии для покорения пространства, но толкающий себя вперед, создает перед собой пустоту, которая поглощает его, вместо того, чтобы, в соответствии с традиционной схемой, найти опору в сопротивлении воздуха).
Таким образом достигается центробежная эксцентричная точка, в которой движение производит пустоту, которая вас и поглощает. Этот головокружительный момент есть в то же время и момент потенциальной слабости. Она не вызвана усталостью от расстояний и жарой, это не результат движения в реальной пустыне пространства; она возникает из-за необратимого движения в пустыне времени.