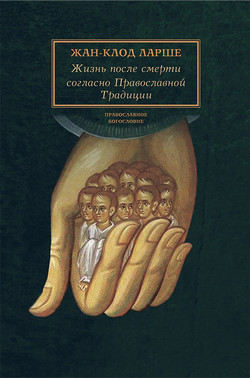Читать книгу Жизнь после смерти согласно Православной Традиции - Жан-Клод Ларше - Страница 6
Глава II
Момент смерти
1. Испытание наступлением смерти
ОглавлениеА. Природа этого испытания
Часто приходится слышать, что тому, кто умер внезапно, очень повезло, поскольку он не видел приближения смерти и не осознал себя умирающим. Однако, по учению святых отцов, – тяжко умирать, не получив возможности хотя бы за несколько мгновений приготовиться к смерти, и наоборот: увидеть, как приближается смерть, иметь время приготовиться к ней и оказаться перед ней в соответствующем состоянии – это дар от Бога, который нужно у Него испрашивать. Один великий духовный наставник ХХ века в пространной составленной им «Молитве зари» просит: «Когда Тебе захочется положить конец моей жизни, предупреди меня о часе моей смерти, дабы я смог приготовить [заранее] мою душу к встрече с Тобой»[128].
Желание умереть внезапно в духовном отношении безответственно, но оно выражает страх пред необходимостью столкновения со смертью и предчувствие того, что речь идет о тяжком испытании.
И это – тяжкое испытание в трех смыслах.
Кто близок к смерти, чувствует, что должен покинуть этот мир, что будет разлучен со своими близкими, что потеряет все то, чем владел, и уйдет из привычного ему мира.
Человек знает – поскольку наблюдал это, когда видел тех, кто умер до него, – что его тело станет безжизненным, холодным, будет похоронено и разложится. Это тело будет по-прежнему его телом, но он больше не сможет владеть им и не будет иметь над ним никакой власти.
Он находится в совершенно новом для него состоянии, если сравнивать со всем тем, что он до этого испытал, и у него нет ни малейшего опыта такого состояния, а природа его абсолютно ему незнакома. Его будущее предстает перед ним как огромная черная дыра, которая поглотит его. И это может породить в нем только тревогу и даже страх. В последовании «Канона при разлучении души от тела» в обращении к Матери Божией упоминается тот страх, который испытывает умирающий перед этим разлучением: «Содержит ныне душу мою страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть, внегда изыти ей от телесе…»[129] Если благодаря вере человек и может иметь уверенность в том, что продолжит жить, то о том, ка́к это будет, он не знает. Ему неизвестно, каким может быть существование без тела; ему неизвестно, где будет находиться душа и куда она пойдет, в каком состоянии она будет пребывать, будет ли она блаженствовать или страдать. Преподобный Макарий Александрийский упоминает некоторые из этих страхов, которые испытывает умирающий: «…душа еще никогда не испытывала столь ужасного призыва; она боится суровости пути, изменения места своего пребывания, она испытывает печаль по видимым вещам и своим благам, она страдает от разлучения с телом – своим спутником; плачет и о разлучении с ним по обыкновенному пристрастию к нему»[130].
Умирающий вообще находится в состоянии страдания, недуга, слабости, которые делают все эти вопросы еще болезненнее и еще мучительнее.
Ницше утверждал, что религия – это выдумка слабого человека, созданная с целью укрепить его и утешить перед лицом смерти. Нет никакого утверждения, более ложного. Вне всякого сомнения, намного проще встретить смерть агностику или материалисту, успокаивающему себя тем, что это всего лишь большое ничто, большой сон, от которого не просыпаются, и что после смерти нет больше ничего; а для верующего смерть открывает перспективу вечной жизни, форма и содержание которой ему априори (то есть предварительно. – Ред.) не знакомы.
Даже святость не гарантирует человеку спокойствия перед лицом смерти. Самые великие святые в то же самое время чувствуют себя самыми грешными и больше всех опасаются того, что ожидает их после смерти. Они надеются на благость Божию, но в то же время боятся, как бы их грехи не стоили им попадания в ад и вечных страданий. Авва Петр приводит слова, которые говорил ему авва Исаия, чувствуя приближение смерти: «Страх этого темного часа угнетает меня, когда я буду отвержен от лица Божия; никто не послушает меня, и не будет никакой возможности покоя»[131]. Авва Илия со своей стороны признается: «Я боюсь трех событий: когда моя душа будет выходить из тела, когда я предстану перед Богом и когда будет вынесен приговор в отношении меня»[132].
Б. Важность семейного и церковного соприсутствия с умирающим
В мгновения тревоги и страха для умирающего особенно важны помощь и поддержка окружающих, его семьи и его друзей. В наше же время многие умирают в одиночестве, в разлуке с семьей; поэтому чаще всего такое «соприсутствие» в безликой и холодной обстановке больницы, наоборот, необходимо. Даже в тех случаях, когда у больного, казалось бы, сознание помраченное или он вообще без сознания под действием болезни или лекарств, простое присутствие, пусть даже молчаливое – если оно наполнено вниманием и любовью, – является для умирающего драгоценной помощью. И еще большей помощью в этом испытании и преодолении его станет для него молитва близких.
К этой молитве призвана присоединиться вся церковная община, и Церковь предусмотрительно определила в такие тяжелые моменты особую необходимость быть рядом с больным и оказать ему поддержку своими молитвами и своей благодатью. Для умирающих составлено два чинопоследования: «Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет» и «Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистей Богородице Матери Господни при разлучении души от тела всякаго правовернаго».
Первый чин содержит прежде всего чтение 69-го и 142-го псалмов; эти псалмы читаются на разных службах, но в свете данных обстоятельств оказываются очень уместными: Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне… Я же беден и нищ; Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя и Избавитель мой; Господи! не замедли! (Пс. 69). Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей… не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, – и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние… Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня… Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих; к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб (Пс. 142). В каноне (поэтическом песнопении из девяти песней, составленном преподобным Феодором Студитом)[133] говорится, что страх умирающего подобен страху перед Страшным Судом Христовым; в этом каноне мы просим Христа избавить умирающего от часа Суда, простив ему все грехи уже сейчас. Это молитвословие имеет ярко выраженный покаянный характер и призвано дать душе последнюю возможность покаяться и обрести Бога, если она удалилась от Него: «Обратися, воздохни, душе окаянная, прежде даже жития торжество конца не приимет, прежде даже двери чертога не затворит Господь»[134]. В следующей за тем молитве священник молит Бога о том, чтобы предстоящее разлучение души с телом было для умирающего «разлучением со связями плоти и греха» и чтобы Он принял его душу в мире. Другая молитва содержит просьбу к Богу, Который есть «упокоение душ и телес наших», – сделать «разлучение души с телом покоем» для умирающего, а также избавить его «от этих невыносимых мук, от его страшной болезни».
«Канон молебный Пречистей Богородице при разлучении души от тела…», «читаемый в присутствии умирающего, который не может уже говорить», вверяет Матери Божией всю скорбь умирающего и просит Ее помощи такими трогающими душу словами: «Содержит ныне душу мою страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть внегда изыти ей от телесе, Пречистая, юже утеши»[135]; «Растерзаеми соузы, раздираеми закони естественнаго сгущения, и составления всего телеснаго, нужду нестерпимую и тесноту сотворяют ми»; «Призри на мя свыше, Мати Божия, и милостивно вонми ныне на мое посещение снити, яко да видев Тя, от телесе изыду, радуяся»[136]; «Нощь смертная мя постиже неготова, мрачна же и безлунна, препущающи неприготовлена к долгому оному пути страшному, да спутешествует ми Твоя милость, Владычице!»[137].
128
Sophrony [Sakharov], аrchimandrite. Sa vie est la mienne. Paris, 1981. P. 63.
129
Требник. Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистей Богородице Матери Господни при разлучении души от тела всякаго правовернаго. Глас 6-й. Песнь 1-я, тропарь 3-й.
130
Макарий Александрийский, прп. Слово об исходе душ праведников и грешников, как они разлучаются с телом и в каком состоянии пребывают / Éd. Lantshoot. Р. 177. См. также: Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов (Алфавитный патерик). Илия. 1.
131
Исаия Скитский, авва. Слова подвижнические. XXXVI, 32.
132
Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов (Алфавитный патерик). Илия. 1.
133
Здесь автор говорит о каноне прп. Феодора Студита, который во французском Требнике помещен в последовании «Чина, бываемого на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет» (Grand euchologe. Parme, 1992. P. 93–98); в церковнославянском Требнике печатается другой канон, а упоминаемый канон прп. Феодора см. в Триоди Постной в Неделю мясопустную. – Ред.
134
Триодь Постная. В Неделю мясопустную. Утреня. Канон, глас 6-й. Песнь 3-я, тропарь 5-й. – Ред.
135
Требник. Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистей Богородице Матери Господни при разлучении души от тела всякаго правовернаго. Глас 6-й. Песнь 1-я, тропарь 3-й.
136
Там же. Песнь 6-я, тропари 3-й и 2-й.
137
Там же. Песнь 7-я, тропарь 1-й.