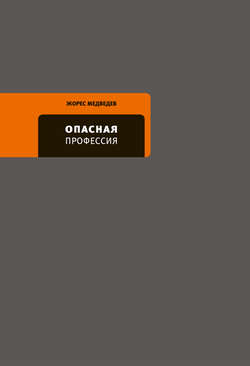Читать книгу Опасная профессия - Жорес Медведев - Страница 24
Часть первая
Глава 4
Новая лаборатория, новый отдел
ОглавлениеВ начале 1963 года я в основном занимался созданием лаборатории, разработкой ее перспективной тематики и формированием научного коллектива. Последняя задача была наиболее трудной. Предусмотренный проектом института штат лаборатории молекулярной радиобиологии включал двух старших и шесть младших научных сотрудников, инженера, лаборантов и аспирантов. Заполнять эти вакансии предполагалось постепенно, в течение двух-трех лет. Первыми пришли на должности лаборантов две девушки-медсестры, Галя и Тамара, – окончив в Калуге медицинское училище, они попали к нам по распределению. Затем я согласился на рекомендованного мне инженера Андрея Стрекалова, который в придачу к своим техническим талантам оказался еще и прекрасным фотографом. Объявления о вакансиях научных сотрудников публиковались дирекцией института в обнинской газете и в общесоюзной газете «Медицинский работник». Однако заявок из Москвы или из Ленинграда, которые предполагалось «разгружать» от избытка ученых, почти не поступало. Приходили заявки из Ташкента, Уфы, Баку и других городов, даже из Хабаровска. Близость Обнинска к Москве явно привлекала специалистов из далеких от столицы городов, но не москвичей. Первого научного сотрудника мне прислали, тоже по распределению, из 2-го Московского медицинского института. Однако отдел кадров ИМР, которым руководила очень энергичная женщина в чине подполковника КГБ в отставке, бывший начальник женского лагеря заключенных на Колыме, не утвердил это назначение. Для зачисления в штат института требовался медицинский осмотр. Молодой специалист страдал от рождения диабетом. В Институт радиологии и в любой другой, где велись работы с радиоизотопами и излучениями, прием сотрудников с таким диагнозом был запрещен. Гормональные нарушения относились и к профессиональным заболеваниям учреждений этого профиля. Первым научным сотрудником, которого я принял, стала Оля К., приехавшая с мужем из Сухуми. Ее муж Анатолий, кандидат медицинских наук, был зачислен в клинический сектор института. Оля, биолог, уже разрабатывала собственную тему, которую было легко включить и в работу нашего отдела.
В экспериментальном секторе института одновременно с моей лабораторией формировались и другие. Николай Викторович Лучник, известный своим открытием пострадиационного восстановления в клетках растений и работавший в Уральском филиале АН СССР вместе с Н. В. Тимофеевым-Ресовским, возглавил отдел биофизики. Профессор А. А. Войткевич, крупный ученый и автор монографии «Перо птицы», приехавший из Киева, формировал отдел радиационной патоморфологии. Профессор И. А. Ойвин, в недавнем прошлом заведующий кафедрой в Ташкентском медицинском институте, создавал отдел радиационной патофизиологии. Мой студенческий друг Виктор Гуляев, тоже ученик П. М. Жуковского, талантливый микроскопист, ботаник и цитолог, приехал в Обнинск из Ленинграда, чтобы создавать здесь лабораторию электронной микроскопии. Два инженера этой лаборатории в недавнем прошлом работали бортмеханиками самолетов-бомбардировщиков. Кадры института собирались, что называется, с бору по сосенке. Но другого варианта не могло быть. Радиология и радиобиология были для СССР новыми дисциплинами. Тормозилось лишь утверждение в должности заведующего отделом радиационной генетики Тимофеева-Ресовского, безусловно именно потому, что это был всемирно известный ученый. И вовсе не статус бывшего заключенного, причем нереабилитированного, оказался главной причиной. Директор института Г. А. Зедгенидзе, приглашая Николая Владимировича, знал об этом. Он помнил свое посещение лаборатории радиационной генетики Тимофеева-Ресовского в пригороде Берлина в 1945 году и с восхищением рассказывал: «У него был такой прибор, который регистрировал мутации зажиганием лампочки». Николай Лучник тоже находился в заключении и не был реабилитирован. Но утверждение Тимофеева-Ресовского в должности в обнинском институте требовало согласия не только областного комитета КПСС, но и каких-то отделов КГБ и ЦК КПСС. Обнинск, где все институты, кроме нашего, были секретными, считался «режимным» городом, закрытым для посещения иностранцами. Свердловск, где Тимофеев-Ресовский работал и в период заключения, и после освобождения, тоже входил в категорию «режимных» городов. Но в Свердловск не приедешь на пригородной электричке или на такси из Москвы. В органах госбезопасности, видимо, боялись, что известные иностранные ученые, приезжающие в Москву, будут стремиться повидать и Тимофеева-Ресовского. В 1963 году классическая генетика, которую теперь называли «формальной», находилась еще под запретом и сторонники Лысенко по-прежнему занимали ключевые посты в ЦК КПСС и в Министерстве высшего образования. Они, безусловно, не хотели, чтобы Тимофеев-Ресовский, лекции которого стали знаменитыми, обосновался в такой близости от Москвы.
Сам Тимофеев-Ресовский несколько раз в 1963 году приезжал в Обнинск и обсуждал текущие дела с Корогодиным и мною. Весь отдел занимал длинный коридор второго этажа лабораторного корпуса. Справа по фасаду располагалась моя лаборатория, слева – Корогодина. Среднюю часть, десять больших комнат, занимала лаборатория радиационной генетики. Одного из учеников Тимофеева-Ресовского по проблемам радиационной экологии, Анатолия Тюрюканова, работавшего в Институте общей гигиены в Москве, зачислили на должность старшего научного сотрудника в эту лабораторию еще в начале 1963 года, и теперь он занимался ее оборудованием и принял на работу нескольких лаборантов. Вскоре стали приезжать из Свердловска и другие ученики Николая Владимировича. Для него был готов кабинет с телефоном с московским номером. Приезжая в Обнинск, наш будущий заведующий отделом любил походить по длинному коридору, а потом приглашал Корогодина, Тюрюканова и меня к себе в кабинет «попить чайку». Чай готовила на всех жена Николая Владимировича Елена Александровна, тоже генетик. Для нее держали в резерве должность младшего научного сотрудника, хотя по опыту и по числу публикаций она превосходила всех старших научных сотрудников нашего института. Тимофеев-Ресовский, конечно, понимал причины задержки утверждения в должности, но относился к этому спокойно, даже с юмором. Другого заведующего отделом найти было бы все равно невозможно.
В один из своих приездов в Обнинск, кажется это было в июне 1963 года, Николай Владимирович пригласил Корогодина, Тюрюканова и меня в свой кабинет. «Серьезная проблема, – сказал он, – мне в лабораторию зачисляют старшего научного сотрудника, которого я не знаю. Он не генетик… Звонил Зедгенидзе и сказал, что это директива. В отделе нет ни одного члена партии, а парторг обязателен при нашем числе сотрудников… Калужский обком не утвердит отдел, если не будет парторга… Наверное, нужно согласиться». После этих слов Тимофеев-Ресовский дал нам прочитать справку-резюме на нового сотрудника, которую доставили с курьером из отдела кадров.
«Б. родился в Тамбовской области… Окончил 2-й Московский медицинский институт… Защитил кандидатскую диссертацию по восстановительным процессам в тонком кишечнике. Ученый секретарь и заведующий лабораторией в Институте экспериментальной патологии…»
Корогодин и я не имели возражений. Было понятно, что к Тимофееву-Ресовскому должны «прикрепить» члена КПСС. Это понимал и директор ИМР, решение принималось где-то выше него.
Я не был уверен, что это назначение связано только с необходимостью иметь парторга отдела. Этика научного сотрудника не должна была позволить Б., не имевшему квалификации генетика или радиобиолога, внедряться в уже сплоченную группу Тимофеева-Ресовского, не встретившись и не побеседовав с ним самим. Следовательно, он был не только научным сотрудником, ему тоже где-то давали директивы и какие-то гарантии. Он уже работал над докторской диссертацией по регенерации и имел по этой теме немало публикаций, но «жертвы», на которые он пошел, ему в будущем щедро компенсировали. Нельзя исключить и того, что Б. зачисляли в качестве «резервного» заведующего отделом на случай окончательного отвода кандидатуры Тимофеева-Ресовского. Б. приехал в Обнинск и приступил к работе очень быстро. Тимофеев Ресовский ждал своего утверждения еще год. Его переезд в Обнинск состоялся лишь в 1964 году.