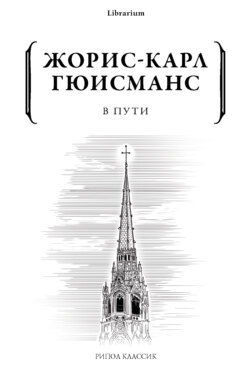Читать книгу В пути - Жорис Гюисманс, Жорис-Карл Гюисманс - Страница 3
Часть первая
I
ОглавлениеПротекала первая неделя ноября, неделя, когда творится поминовение усопших. Дюрталь вошел в восемь часов вечера в храм Сен-Сюльпис. Он охотно посещал эту церковь, в ней был прекрасный хор, и вдали от многолюдства толпы он мог сосредоточиться здесь в тишине. Не пугал с наступлением ночи корабль храма, замкнутый давящими сводами. Пусты часто бывали боковые нефы, и тускло светили немногие лампады. Здесь можно было, оставаясь невидимым, испытывать свою душу, чувствуя себя точно дома.
Дюрталь сел слева позади главного алтаря под галереей, идущей вдоль улицы Сен-Сюльпис. Замерцали отблески зажигаемых на хорах свечей. Вдали священник говорил с кафедры в пустынной церкви. По его сочному голосу, елейному произношению он угадал в нем священнослужителя хорошо упитанного, бросающего слушателям привычные, затверженные пошлости.
«Почему они лишены до такой степени красноречия? – думал Дюрталь. – Из любопытства я слушал многих, и все они стоят друг друга. Они различаются лишь звуками голоса. В зависимости от темперамента одни омывают речь свою вином, другие умащают елеем, и никогда не слыхал я искусного смешения». Он вспоминал ораторов, избалованных, точно тенора, Монсабре, Дидона, настоящих Кокленов церкви и, наконец, аббата Гюльста, воинственного оратора еще ничтожнее, чем эти питомцы консерватории католицизма!
Остальные – посредственности, превозносимые горсточкой верующих, которая слушает их. Если бы обладали дарованием эти харчевники душ и подносили своим столовникам яства изысканные, выжимку теологии, утонченные сиропы молитв, ощутимые сладости мыслей, они прозябали бы не понятыми своей паствой. Необходимо духовенство, стоящее на одном уровне с верующими, и бдительно позаботилось, конечно, об этом Провидение.
Стук башмаков, шум отодвигаемых стульев, со скрипом царапавших плиты пола, прервали его думы. Проповедь кончилась.
Среди безмолвия прозвучала прелюдия органа, потом замерла, подхваченная тающими волнами голосов.
Воздымалось песнопение медленное, унылое – «De profundis»[4].
Потоки голосов струились под сводами, сливаясь с мягкими тонами гармонии, и их прозрачные оттенки напоминали звук разбиваемого хрусталя.
Поддержанные непрерывным рокотом органа, подкрепленные басами, столь гулкими, что казалось они самопроизвольно возносятся из-под земли, они растекались, скандируя стих «De profundis clamavi ad te Do…»[5], затем, исчерпав себя, остановились, и точно тяжелую слезу уронили последний слог «mine». Воплотились потом во втором стихе псалма «Domine exaudi vocem meam»[6] неустановившиеся отроческие голоса, и снова повисла вторая половина последнего слова. Не оторвалась на этот раз, не упала, не скатилась на землю точно капля, но устремилась в необычном усилии и, уносясь ввысь, поднялась к небесам воплем страха, объявшего исторгнутую из плоти душу, которая нагою в слезах повергнута пред Господом.
Мощно загудел после паузы орган, подкрепленный двумя контрабасами, и увлек в потоке своем все голоса – баритоны, тенора и басы, которые не служили теперь уже пеленою тонким волнам детских голосов, но звучали во всей силе, развернулись полной мощью, и однако все же, словно хрустальная стрела, пронизал и врезался в них порыв звенящих дискантов.
Новая пауза и упруго отталкиваемые органом, затрепетали новые строфы в безмолвии храма.
Со вниманием вслушиваясь и пытаясь разделить их, Дюрталь закрыл глаза, и они представлялись ему сперва почти горизонтальными, затем понемногу поднимались, наконец, совсем выпрямлялись, плача дрожали и разбивались в вышине.
Вдруг в конце псалма, исполняя ответствие антифона «Et lux perpetua luceat eis»[7], детские голоса источились мучительным воплем, рыданием нежным, точеным и лучистым, трепетавшим над словом «eis», которое висело в пространстве.
Эти детские голоса ясные и острые, в напряжении своем, казалось, готовые оборваться, сияли белизной зари во мраке песнопения. Сливая свои нежные, полупрозрачные звуки с чистыми звонами бронзы, разбавляя густую жижу басов живой струею своих серебристых вод, утончали они стенания, и горше ощущалась пламенная мука слез. Но вместе с тем веяло от них заботливой лаской, струился живительный бальзам, лучились они утешением. Во тьме возжигали мимолетные искры, подобные роняемым в сумерках звонам ангелуса. Предваряя пророчества текста, вызывали они сострадательный облик Девы, нисходящей на бледных мерцаниях их звуков в ночь суровой молитвы.
В таком исполнении он неподражаемо прекрасен – этот «De profundis», хотя, строго говоря, не входит в состав грегорианского служебника. Это возвышенное моление, изливавшееся в рыданиях в тот миг, когда душа голосов устремлялась за пределы всего мирского, сломило нервы Дюрталя, пронизало его сердце. Он хотел сосредоточиться, прилепиться к смыслу угрюмой скорби, объемлющей падшее существо, трепеща припадающее к Господу. И вспомнились ему вопли третьей строфы, когда человек, из бездны падения моливший в сокрушении Спасителя своего, смущается, чувствуя себя услышанным, и, устыдившись, не знает, что сказать. Тщетными кажутся ему измышленные оправдания, ничтожными заготовленные доводы, и он лепечет: «Господи, кто обрящет милосердие, если исчислишь Ты грехи, Господи?»
«Как жалко, – думал Дюрталь, – что псалом, в первых стихах воспевающий отчаяние человечества, в последующих принимает облик личных излияний царя Давида. Я хорошо знаю, – продолжал он свои думы, – что смысл сетований следует воспринимать символически, допустить, что библейский владыка сливает свое дело с делом Божиим, что враги его – нечестивцы и неверующие, что, по мнению учителей церкви, он преображает лик Христа, – пусть так! Но его плотские алкания и напыщенная хвала, которую воздает он своему неисправимому народу, омрачают сияние поэмы. К счастью, мелодия живет вне текста, собственной жизнью, не замыкается в распрях племени, но охватывает всю землю, воспевая страх веков, еще не родившихся, и современности, и времен умерших».
Стихли звуки «De profundis», и после молчания хор запел мотет XVIII века, но Дюрталя не привлекала светская музыка, исполняемая в храмах. Превыше самых прославленных творений музыки театральной и светской казалось ему древнее церковное пение – мелодия нагая и плоская, одновременно небесная и замогильная. В ней слышался торжественный вопль скорби и надменных восторгов, возносились величественные гимны веры человеческой, которые как бы струились в соборах мощными ключами, словно источаемые подножиями романских колонн. Как ни была бы музыка глубокой, скорбной, нежной, но может ли сравниться с торжественностью «Magnificat», с священным вдохновением «Lauda Sion»[8], с исступленным ликованием «Salve Regina»[9], с печалями «Miserere» и «Stabat»[10], с безмерным величием «Те Deum»[11]? Гениальные художники потщились переложить священные тексты; Витториа, Жоскен де Прэ, Палестрина, Орландо Лассо, Гендель, Бах, Гайдн начертали дивные страницы. Часто они творили, вдохновляемые мистическим наитием, эманацией Средневековья, навек утраченной. Но их творения выказывали, однако, некоторую искусственность, хранили надменность, чуждую смиренному величию и скромной пышности грегорианских песнопений. А последующие композиторы уже не верили, и настал конец церковной музыке.
В современности можно отметить несколько религиозных вещей Лесюэра, Вагнера, Берлиоза, Цезаря Франка, но в них также чувствуется художник, поглощенный своим произведением, художник, стремящийся выставить напоказ свое искусство, думающий о возвеличении своей славы, забывающий, следовательно, о Боге. Они были прежде всего люди, пусть и одухотворенные, но все же люди с обычными человеческими слабостями, неисправимо тщеславные, не могущие свергнуть с себя груза чувств. А в песнопении литургическом, всегда созидавшемся безымянно в глубине монастырей, сочились неземные родники, без бремени греха, без следов искусственности. В них душа изливалась, освобожденная от рабства плоти, исторгалась вспышками возвышенной любви и чистого восторга. В них обрела церковь язык, создалось музыкальное Евангелие, которое подобно писанному, доступно лишь самым изысканным и смиреннейшим.
Ну разве не лучшее испытание католицизма – искусство, им созданное, искусство не превзойденное никем! Ранние мастера в живописи и ваянии, мистики в поэзии и прозе, церковное песнопение в музыке, и в зодчестве стили романский и готический! И все это созидалось согласованно, возгоралось единым пламенем на едином жертвеннике, сливалось в дыхании единой мысли: обожая, поклоняться подателю, и служить ему, и приносить ему еще незапятнанные дары его, отраженные в душе тварей, как в зеркальной ясности.
И в дивные времена Средневековья, когда искусство, взлелеянное церковью, коснулось порога вечности, приблизилось к Божеству, в первый и, быть может, в последний раз постиг человек познание Божественного, лицезрение небесных очертаний. И они соответствовали между собой, воссоздавались от искусства к искусству.
Лики Приснодев закруглялись удлиненным миндалевидным овалом и походили на стрельчатые окна, которые создала готика, пропуская аскетический девственный свет под своды своих таинственных храмов. На картинах первых мастеров кожа святых жен прозрачна, точно пасхальные восковые свечи, а волосы бледно светятся, как золотистые крупицы неподдельного ладана. Едва закруглены детские очертания торса, и выпуклость чела напоминает стеклянный покров дароносиц; тонкие пальцы сгибаются, а тела устремляются ввысь, подобные стройным колоннам. Красота делается до некоторой степени литургической. Кажется, что они живут в сиянии витражей, что пламенные вихри цветных стекол изливают на главы их лучистые кольца венцов, зажигают их голубые глаза, окрашивают умирающим рдением губы, украшают робкие оттенки их тел и угасают, тускнеют темными тонами, преломляясь на тканях одежды и тем подчеркивая хрустальную прозрачность взора, скорбную непорочность уст, благоухающих в соответствии с творимой службой или лилейным ароматом песнопений или благовонием покаянной мирры псалмов.
Духовный союз объединял между собой художников тех времен, создавая слияние душ. Живописцы и зодчие устремлялись к единому идеалу красоты, в нерушимой согласованности сочетали соборы с изображениями святых. Наперекор принятому обычаю, они творили лишь футляр прежде драгоценности, создавали раку ранее мощей.
С другой стороны, песнопения церкви изысканно родственны картинам первых мастеров. Неодинаково ли возвышенны, не проникнуты ли одним и тем же вдохновением лучшее произведение Квентина Мессиса «Погребение Христа» и хоровые ответствия Страстной вечерни, сочиненные де Викторией? Разве не полна «Regina Coeli»[12] музыканта Лассо той же искренней веры, тех же чистых и причудливых устремлений, как и некоторые запрестольные статуи или религиозные картины старшего Брейгеля? И, наконец, разве «Miserere» Жоскена Депре, регента капеллы Людовика VII, и полотна первых бургундских и фландрских мастеров не уносятся в том же парении, немного сдержанном, не созданы ли с той же тончайшей простотой, немного жесткой, не источают ли они одинакового дыхания истинного мистицизма, не округляются ли с натянутостью, неподдельно трогательной?
К единому идеалу обращено все это творчество, различны лишь средства достижения.
Несомненно также созвучие мелодии церковных песнопений с зодчеством. Иногда она сгибается, как мрачные романские аркады, льется суровая и сосредоточенная, наподобие верхних полукружий сводов. «De profundis» склоняется, точно тяжелые арки, образующие законченный скелет здания. Подобно им, он медлителен и полунощен. Он стелется лишь во тьме, движется лишь в унылых сумерках склепов.
Иногда, наоборот, грегорианская песнь как бы заимствует у готики ее цветистые завитки, ее изломанные стрелы, воздушные розетки, кружевные ромбы, орнаменты мелкие и тонкие словно голоса детей. Тогда она обращается из одной крайности в другую, глубокая скорбь переходит в беспредельный восторг. Случается также, что музыка гимнов и порожденная ею музыка христианская, подобно ваянию, сближаются с народной радостью, облекаются грубоватым ритмом толпы; таковы рождественская кантика «приидите, верные» и пасхальный гимн «О filii et filiae»[13]. Подобно Евангелию, они приближаются к малым сим и безыскусственно подчиняются смиренным желаниям бедняков, даруя им праздничную песнь, легкую и доступную, мелодический корабль, уносящий их в чистые обители, где бесхитростные души припадают к милосердым стопам Христа.
Песнопения, созданные церковью, взлелеянные в капеллах Средневековья, рождают струящееся воздушное перевоплощение неподвижных очертаний соборов. Они – бестелесное, эфирное истолкование картин старых мастеров.
Они – крылатое переложение, своего рода риза молитвенной латыни, которую вдохновенно созидали некогда иноки, обитавшие в монастырях.
Эти песнопения изменились теперь и ослабели; их перекрывает бессмысленный гром органов и их поют, не вкладывая ни чувства, ни души.
Большинство хоров, исполняя их, заливается, подражая журчанью воды в водопроводных трубах; другим благоугодно воспроизводить жужжание трещоток, скрип блоков, крики журавлей. Но, не взирая ни на что, в них все же остается недосягаемая красота, которую не могут заглушить даже завывания заблудших певчих.
Неожиданно Дюрталя поразило безмолвие храма. Он поднялся, осмотрелся кругом; в его углу ни души, кроме двух нищенок, заснувших, положив ноги на подлокотники и уронив на колени голову. Слегка наклонившись, он заметил в пространстве, во тьме одной из капелл, теплющуюся лампаду в оправе красного стекла. Ни звука. Раздавались лишь мерные шаги привратника, свершавшего свой обход.
Дюрталь сел. Сразу испарилась пустынная сладость уединения, благоухавшего ароматом воска и курений ладана. В первых же созвучиях органа Дюрталь признал «Dies irae»[14], безотрадный гимн Средневековья. Он невольно склонил голову и стал вслушиваться.
Не смиренное то было моление, как «De profundis», не страдание, которое мнит себя услышанным и во мраке ночи различает светлую тропинку, не молитва, хранящая достаточно надежды, чтобы не содрогнуться. Нет, в нем изливался вопль беспросветного отчаяния и ужаса.
Грозное дуновение божественного гнева бушевало в этих строфах. Казалось, что обращены они не столько к Богу любви, милосердому Сыну, сколько к грозному Отцу, являемому нам Ветхим Заветом, охваченному яростью, не смягчаемому курениями и жертвами. Еще суровее восставал Он здесь, угрожая возмутить воды, сокрушить горы, громом и молнией опустошить небесный океан. И в смятении стенала устрашенная земля.
Кристальный, прозрачный детский голос жалобно возвестил в безмолвии храма близящееся разрушение. И хор запел новые строфы, в которых грядет среди раздирающих трубных звуков неумолимый Судия дабы очистить огнем нечестие мира.
Глубокий, глухой, точно исходящий из церковных подземелий бас сгустил мрачные пророчества, усилил гнет угроз. После краткого ответствия хора, один из альтов повторил их, развернул еще подробнее, и, словно просвет в смерче, прозвучало имя Иисуса, возглашенное тончайшим отроческим фальцетом, после того, как жестокая поэма исчерпала повесть мучений и кар. Задыхаясь, вопиял о милости мир, всеми голосами хора взывал к бесконечному милосердию и всепрощению Спасителя, заклинал, чтобы пощадил Он, некогда помиловавший раскаявшегося разбойника и Магдалину.
Но вновь разбушевалась буря в неизменной мелодии, строптивой и печальной, затопила своими валами проступившее сияние неба, и уныло продолжали солисты, прерываемые скорбными ответствиями хора, воплощать один за другим в разнообразии голосов ступени, ведущие к позору, отдельные звенья ужаса страданий, различные века слез.
Потом смешались, слились все голоса, и понеслись по мощным водам органа разбитые обломки человеческих мук, молитвы и слезы. Ослабевали в изнемождении, цепенели в страхе, трепетали вздохами ребенка, укрывающего лицо, пролепетали «Dona eis, requiem»[15] и немощно замерли в таком жалобном «Amen», что он испарился, как дыхание над рыдающим органом.
Кто создал эти образы отчаяния, кто уносился мечтою в эти горести? И Дюрталь ответил себе: никто.
Тщетно изощрялись разгадать автора музыки и слов. Их приписывали Франжипани, Томасу де Селано, святому Бернару и многим другим, но они попрежнему оставались безымянными, их создали скорбные наслоения веков. Сначала «Dies irae» упало семенем отчаяния на потрясенные души XI века. Пустило корни, дало медленные всходы, вскормленное соками смятения, орошенное дождем слез. Наконец, когда оно созрело, его подрезали и, быть может, даже слишком усердно обрубили ветви, так как в одном из первых известных текстов встречается строфа, потом исчезнувшая, которая вызывает величественный варварский образ земли, которая сотрясается, изрыгая пламя, и созвездий, разлетающихся осколками, и неба разверстого надвое, подобно книге!
И, однако, как прекрасны эти терцеты, окутанные холодом и тьмою, удары рифм, падающих, перекликаясь суровым эхом, музыка, точно облекающая фразы саваном из грубого холста и наделяющая творение очертаниями суровой графики! «И однако песнь эта, постигающая и вдохновенно отражающая глубину стиха, этот мелодический период, который льется, выражая в неизменности созвучий поочередно молитву и смятение, слабее волнует меня, – думал Дюрталь, – трогает меньше, чем «De profundis», в котором нет ни такого мощного размаха, ни этого раздирающего вопля искусства.
Исполняемый в нотном повышении, «De profundis» приземлен и удушлив.
Он исходит из могильных недр, в то время как «Dies irae» останавливается у гробового входа. В первом слышится голос самого усопшего, во втором – голоса погребающих живых, сетуя, мертвец обретает успокоение, но безутешны те, которые его хоронят.
Строго говоря, я предпочитаю текст «Dies ira» тексту «De profundis» и мелодию «De profundis» мелодии «Dies irae». Следует заметить, впрочем, что это песнопение исполняется на современный лад, театрально, развертываясь без необходимого величавого единства»! – решил Дюрталь.
Он прервал свои мысли, прислушавшись на секунду к отрывку современной музыки, который запел хор. Кто решится наконец изгнать эту резвую мистику, эти потоки мутной воды, которые сочинил Гуно? Не шутя, следовало бы наказывать регентов хора, допускающих в храмах музыкальный разврат! Ну точно, как сегодня утром в церкви Св. Магдалины, где я случайно застал бесконечное отпевание старого банкира. Чтобы почтить превращение финансиста в прах, там исполняли воинственный марш под аккомпанемент виолончелей и скрипок, труб и колокольчиков!.. Какая гадость! И Дюрталь перенесся мысленно в Ализеде де Мадлен, целиком отдавшись своим мыслям.
В сущности, духовенство уподобляет Иисуса страннику, призывая его каждодневно в каждую церковь, снаружи не увенчанную ни одним крестом, а внутренностью своей похожую на большую гостиную какого-нибудь «Лувра» или «Континенталя». Но как убедить священнослужителей, что подобное уродство равноценно святотатству, и что ничто не сравнится с мерзостным грехом беспорядочного смешения романского и греческого стилей, живописи восьмидесятилетних маразматиков, плоского потолка, продырявленного круглыми окошками, всегда пропускающими один и тот же тусклый свет дождливого дня, ничтожного алтаря, окруженного хороводом ангелов, с умеренным увлечением пляшущих свой неподвижный мраморный танец?
Все меняется в этой церкви только в часы погребений, когда открываются двери и приближается мертвец в светлой полосе дня. Литургия, словно сверхчеловеческий тимол, очищает, обеззараживает нечестивое безлепие этого храма.
Вспоминая утренние впечатления, Дюрталь, закрыв глаза, мысленно видел вереницу красных и черных ряс, белых стихарей, шествовавших из глубины полукруглой апсиды, соединившихся перед престолом вместе, спустившихся по ступеням, смешавшихся перед катафалком, опять разделившихся, чтобы обойти его и снова сблизиться, сойтись в широком проходе, уставленном вдоль стен стульями.
Увлекаемая высоко поднятым крестом, процессия двигалась медленно и безмолвно навстречу покоившемуся на возвышении усопшему. Ее вели черные траурные фигуры в генеральских эполетах, со шпагами, покоящимися в ножнах. Издали в смешении света, падавшего сверху, с огнями, зажженными вокруг катафалка и на престоле, как бы исчезали горящие свечи, и казалось, что священники, несшие их, идут, подняв пустые руки и указуя на звезды, сияющие над их головами.
Потом, когда духовенство окружило гроб, из глубины алтаря раздался «De profundis», исполняемый невидимыми певчими.
«Звучало красиво, – вспоминал Дюрталь. – Детские голоса там визгливы и хрупки, а басы дряблы и худосочны; им далеко до хора Сен-Сюльпис, а все же выходило превосходно. А что за великолепное мгновение, когда причащался священник и голос тенора, отделяясь вдруг от гудения хора, излился в величественном антифопе песнопения:
„Requiem aeternam dona eit, Domine, et lux perpetua luccat eit“[16].
Точно облегчение несет после стенаний „De profundis“ и „Dies irae“ бытие Бога на престоле и оправдывает доверчивую, торжественную гордость этого мелодичного пения, взывающего ко Христу без содроганий и слез».
Кончается обедня, скрывается священнослужитель и так же, как при внесении мертвеца, приближается к телу духовенство, предшествуемое привратниками, и в пылающем кольце свечей возглашает священник, облаченный в мантию, могущественные разрешительные молитвы.
Литургия становится все более возвышенной, все более чарующей. Церковь – посредница между грешником и Верховным Судией, – устами священника заклинает Господа даровать прощение этой бедной душе: «Non intres in Judicium cum servo tuo, Domine!…»[17] После «Amen», пропетого всем хором в сопровождении органа, из безмолвия поднимается голос и говорит от имени мертвеца:
«Libera me…»[18]
А хор продолжает древнюю песнь X века. Так же, как и в «Dies irae», впитавшем в себя отрывки этих жалоб, пламенеет в ней Страшный суд и неумолимые ответствия хора, подтверждают усопшему справедливость его страхов, удостоверяют ему, что Грозный Судия приидет среди молний и покарает мир, когда распадутся времена.
Тогда широкими шагами обходит священник катафалк, кропит его жемчужинами освященной воды, кадит, осеняет страждущую, плачущую душу, утешает ее, привлекает к себе, как бы укрывает ее своей мантией, снова ходатайствует, чтобы после стольких томлений и трудов дал Господь несчастной уснуть вдали от житейской суеты в обители вечного упокоения.
Никогда ни одна религия не отводила человеку более высокой роли, не открывала предназначенья более возвышенного чрез таинство освящения. Вознесенный над всем человечеством, чуть не обожествленный благодатью сана мог приблизиться священнослужитель к краю бездны, когда сотрясалась или стихала земля, и предстательствовать за существо, которое церковь окрестила, когда оно было еще ребенком, и которое могло и забыть, и даже бороться с ней до самой смерти.
И церковь не убоялась этой задачи. Пред смердящим телом, положенным в ящик, она помышляла о путях души и восклицала: «Господи, исторгни ее из врат адовых!..» Но в конце отпущения, в тот миг, когда шествие возвращается к ризнице, казалось, что встревожена также и сама церковь. Мимолетно вспомнив, быть может, о грехах, содеянных этим мертвецом при жизни, она сомневалась, по-видимому, что услышаны будут ее мольбы, и сомнение это, невыданное словами, сквозило в оттенке последнего «Amen», который пролепетали детские голоса. Боязливый и далекий, нежный и жалобный «Amen» говорил: мы сделали, что могли, но… но… И в гробовом молчании, наступившем после того, как духовенство покинуло неф, восставала единая лишь жалкая действительность этой пустой скорлупы, которую поднимут люди и положат на дроги, подобно отбросам боен, увозимым утром в салотопни, где из них варят мыло.
Как меняется картина! – раздумывал Дюрталь: если лицом к лицу с этими скорбными моленьями, с красноречием разрешений от грехов сопоставить брачную службу. Церковь тогда безоружна, и ничтожно ее музыкальное служение. Невольно вынуждена она разыгрывать брачные марши Мендельсона, черпать из мирских авторов веселье их напевов, чтобы восславить краткую и тщетную радость тела. Иногда случается, что, наперекор всякому смыслу, песнопение величает ликующее нетерпение девушки, ожидающей, что мужчина овладеет ею сегодня вечером. Или не менее странно слышать, когда «Те Deum» воспевает блаженство мужчины, готовящегося взять женщину, на которой он женится, потому что не нашел других средств завладеть ее приданым.
Церковное песнопение, далекое от этой дани телу, замыкается в антифонах, как монах в монастыре. И если исходит, то лишь затем, чтобы взрасти перед Христом колосьями мук и страданий. Оно сгущает и выражает их в дивных жалобах, а когда отдается преклонению, утомившись взывать о пощаде, то вдохновенно прославляет события вечные: Вербное воскресенье и Пасху, Троицын день и Сошествие Святого Духа, Богоявление и Рождество. Оно изливается тогда в неизъяснимом восторге, уносится за пределы миров, исступленно припадает к стопам Господним!
Что касается до погребального обряда, то он превратился теперь в официальную рутину, в список молитв, который воспроизводят бессознательно, не вникая в них.
Органист думает о семье, мысленно перебирая за игрой свои заботы. Человек накачивающий воздух в трубы, помышляет о кружке пива, которой утолит свою жажду. Теноры и басы поглощены исполнением и окунаются в более или менее взбаламученную воду своих голосов. Дети хора мечтают, как бы порезвиться после обедни. Ни те, ни другие не понимают ни слова латинского песнопения «Dies irae», в котором они выпускают часть строф.
Церковный староста подсчитывает деньги, которые храм получит от усопшего, и даже священник, утомленный обилием прочитанных молитв, сбывает с рук службу, поспешая к обеду, и механически шепчет молитвы. Торопятся провожающие, нетерпеливо ожидая конца заупокойной обедни, – которую они, конечно, не слушают, – чтобы поскорее пожать руку родственникам и покинуть мертвеца.
Царит полное невнимание, глубокая скука. А сколько действительно страшного в том, что лежит там, на помосте, в ожидании выноса из храма. Пустые ясли, навсегда покинутое тело. И распадаются эти ясли, и нет там ничего, кроме зловонной сукровицы, испаряющихся газов, гниющего мяса!
А душа, что с нею, теперь, когда отошла жизнь, а плоть разлагается? Никого это не занимает, даже семью, изнуренную долгой службой, погруженную в печаль, оплакивающую лишь видимое олицетворение утраченного существа. «Никого, кроме меня, – думал Дюрталь, – да еще нескольких любопытных, собравшихся в трепете послушать «Dies irae» и «Libera» и понимающих язык их и смысл!»
Но одной лишь оболочкой слов, не проникая в них, даже не вдумываясь, творит дело свое церковь.
Совершается чудо литургии, власть ее речи, неизменно возрождающееся обаяние стихов, созданных далекими временами, молений, сложенных умершими веками. Все минуло, не сохранилось ничего, чему поклонялись ушедшие столетия. Но уцелели священные стихи, выкрикиваемые теперь равнодушными голосами и мысленно повторяемые ничтожными сердцами, и эти слова сами собой предстательствуют, трепещут, молят о пощаде, исполненные самодовлеющей силы, чудодейственных влияний, неотчуждаемой красоты, мощной непоколебимости своей веры. Да, Средние века передали в наследство нам этот дар, чтобы помочь нашему спасению, если можно только спасти душу современной маски, мертвой маски!
В наши дни, решил Дюрталь, в Париже ничего не осталось достойного, кроме почти одинаковых церемониалов пострижения и погребения. Беда только, что похоронная роскошь неистовствует, когда отпевают богатого покойника.
Утварь, которую тогда извлекают, способна довести до умопомрачения: серебряные статуи; безобразного вида цинковые вазы, в которых пылает зеленый огонь; жестяные канделябры на рукоятках, напоминающих обращенную жерлом вверх пушку, воздымают подсвечники, напоминающие пауков, опрокинутых на спину и держащих лапками зажженные свечи, – весь металлический лом времен первой Империи, разубранный рельефом розеток, листьев аканта, крылатыми песочными часами, ромбами, греческими украшениями. Кошмар усугубляется тем, что возвышая жалкое великолепие церемоний, исполняют музыку Массне и Дюбуа, Бенжамена Годара и Видора или, хуже того, музыку, которая напоминает смесь ризницы с кабаком.
Помимо всего, лишь на отпевании богатых можно услышать бури рокочущих органов, скорбное величие церковных песнопений. Недоступны беднякам ни хор, ни орган – всего несколько горсточек молитв да три взмаха кропилом. И еще одного мертвеца оплакивают и уносят!
Размышления Дюрталя прервались на время, после чего он задумался:
«Не следует мне, впрочем, слишком хулить богатых толстяков. В сущности, лишь благодаря им я теперь слушаю дивную заупокойную обедню. Господа эти при жизни, быть может, никому не сделавшие добра, оказывают некоторым, сами того не сознавая, милость после смерти».
Шум вернул его к действительности церкви Сен-Сюльпис; хор уходил, запирали церковь. «Я опять не молился, – думал он, – а это было бы лучше, чем уноситься мечтами в пустоту, сидя здесь на стуле. Молиться. Но к этому меня не тянет. Я увлечен католицизмом, опьянен воздухом его ладана и воска, брожу около него, растроганный до слез его молитвами, глубоко захваченный его псалмами и песнопениями. Мне опротивело мое существование, я смертельно наскучил себе, но как далеко еще отсюда до другой жизни! Притом… притом же… я бываю потрясен только в капеллах и едва выйду, как опять черствею, становлюсь сухим. В сущности, – заключил он подымаясь и направляясь вслед за несколькими отставшими, которых привратник провожал в одну из дверей, – в сущности, сердце мое ожесточилось и затуманено утехами – я не гожусь ни на что».
4
Из глубины (лат.).
5
Из глубины воззвах к Тебе, Господи… (лат.)
6
Господи, услышь глас мой (лат.).
7
От стражи утренния (лат.).
8
Славь, Сион (лат.).
9
Славься Царица (лат.).
10
Стояла (мать, скорбящая) (лат.).
11
Тебя, Бога, славим (лат.).
12
Царица Небесная (лат.).
13
Придите к Младенцу, верные (лат.).
14
День гнева (лат.).
15
Покой вечный даруй им, Господи (лат.).
16
Покой вечный даруй им, Господи… (лат.)
17
Не введи во искушение раба своего, Господи! (лат.)
18
Спаси меня… (лат.)