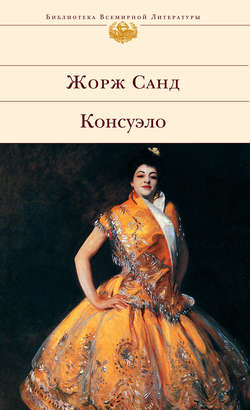Читать книгу Консуэло - Жорж Санд - Страница 17
Глава XVII
ОглавлениеРевность Андзолетто к графу несколько поутихла: его отвлекали и жажда успеха и пылкость Кориллы. К счастью, Консуэло не нуждалась в высоконравственном и бдительном защитнике. Охраняемая собственной невинностью, девушка ускользала от дерзкого натиска Дзустиньяни и держала его на расстоянии уже потому, что очень мало о нем думала. Недели через две распутный венецианец убедился, что в ней еще не пробудились суетные страсти, ведущие к разврату, и он всячески старался пробудить их. Но так как пока что это удавалось ему не более, чем в первый день, то он не решался слишком усердствовать, боясь все испортить. Если б Андзолетто раздражал его своим надзором, то, быть может, он с досады и поспешил бы довести дело до конца, но Андзолетто предоставлял ему полную свободу действий, Консуэло ничего не подозревала, и графу оставалось лишь стараться быть любезным, ожидая, пока он сделается необходимым. Итак, он изощрялся в нежной предупредительности, утонченном ухаживании, стараясь понравиться, а Консуэло принимала это поклонение, упорно объясняя его свободой нравов, царящей в аристократической среде, страстным тяготением своего покровителя к музыке и его природной добротой. Она чувствовала к нему истинную дружбу, глубокую благодарность; он же, испытывая от близости этой чистой, преданной души и счастье, и тревогу, уже побаивался того чувства, которое могло вызвать в ней его решительное признание.
В то время как он со страхом, но и не без удовольствия переживал это новое для него чувство (несколько утешаясь тем заблуждением, в котором пребывала насчет его победы вся Венеция), Корилла тоже ощущала в себе какой-то переворот. Она любила если не благородной, то пылкой любовью, – ее властная и раздражительная натура склонилась под игом юного Адониса, – подобно сладострастной Венере, влюбившейся в красавца-охотника и впервые смирившейся и оробевшей перед избранным ею смертным. Она покорилась настолько, что пыталась даже казаться добродетельной, – качество, которым вовсе не обладала, – и ощущала при этом некое сладостное и нежное умиление: ибо ни для кого не секрет, что обожествление другого существа возвышает и облагораживает души, наименее склонные к величию и самоотверженности.
Испытанное потрясение отразилось и на ее даровании: в театре заметили, что она играет патетические роли естественнее и с большим чувством. Но так как ее характер и самая сущность ее натуры были, если можно так выразиться, надломлены и для того, чтобы вызвать такое превращение, потребовался внутренний кризис, бурный и мучительный, она в этой борьбе ослабела физически, и окружающие замечали с изумлением – одни со злорадством, другие с испугом, – что с каждым днем она теряет свои природные данные. Голос то и дело изменял ей. Короткое дыхание и неуверенность интонации вредили блестящей фантазии ее импровизаций. Недовольство собою и страх окончательно подорвали ее силы, и на спектакле, предшествовавшем дебюту Консуэло, она пела так фальшиво, испортила столько блестящих мест, что ее друзья, зааплодировавшие было ей, принуждены были умолкнуть, услышав ропот недовольства вокруг.
Наконец, великий день настал. Зала была так переполнена, что нечем было дышать. Корилла, вся в черном, бледная, взволнованная, еле живая, сидела в своей маленькой темной ложе, выходившей на сцену; она трепетала вдвойне, боясь провала своего возлюбленного и ужасаясь при мысли о торжестве соперницы. Вся аристократия и все красавицы Венеции, блистая драгоценностями и цветами, заполняли сияющий огнями трехъярусный полукруг. Франты толпились за кулисами и, по обычаю того времени, занимали часть сцены. Догаресса, в сопровождении всех важнейших сановников республики, появилась в своей ложе у авансцены. Оркестром должен был дирижировать сам Порпора, а граф Дзустиньяни ожидал Консуэло у двери ее уборной, пока она одевалась, меж тем как Андзолетто, облекшись в костюм античного воина, правда, с причудливым налетом современности, едва не лишаясь сознания от страха, старался подбодрить себя за кулисами кипрским вином.
Опера, которую ставили, была написана не классиком, не новатором, не строгим композитором старого времени и не смелым современником. Это было неизвестное творение какого-то иностранца. Порпора, во избежание интриг, которые, несомненно, возникли бы среди композиторов-соперников, исполняй он свое собственное произведение или творение другого известного композитора, предложил, – думая прежде всего об успехе своей ученицы, – а потом и разучил партитуру «Гипермнестры». Это было первое лирическое произведение некоего молодого немца, у которого не только в Италии, но и нигде в мире не было ни врагов, ни приверженцев и которого попросту звали господином Христофором Глюком.
Когда на сцене появился Андзолетто, восторженный шепот пронесся по зале. Тенор, которого он заменил, прекрасный певец, сделал ошибку: он пережил себя, уйдя со сцены, когда у него уже не было ни голоса, ни красоты. Вот почему неблагодарная публика мало сожалела о нем, и прекрасный пол, слушающий больше глазами, чем ушами, был очарован, когда на сцене вместо угреватого толстяка появился двадцатичетырехлетний юноша, свежий, как роза, белокурый, как Феб, сложенный, как статуя Фидия, настоящий сын лагун: bianco, crespo e grassotto[18].
Он был слишком взволнован, чтобы хорошо спеть свою первую арию, но для того, чтобы увлечь женщин и театральных завсегдатаев, достаточно было его отличного голоса, красивых поз и нескольких удачных новых пассажей. У дебютанта были великолепные данные, перед ним открывалась блестящая будущность. Трижды грохотал гром аплодисментов, дважды вызывали молодого тенора из-за кулис, по итальянскому и особенно по венецианскому обычаю.
Успех вернул Андзолетто смелость, и когда он снова появился вместе с Гипермнестрой, страха в нем как не бывало. Но в этой сцене всеобщим вниманием завладела Консуэло: все видели и слышали только ее.
– Вот она!.. – раздавалось со всех сторон.
– Кто? Испанка?
– Да, дебютантка! Любовница Дзустиньяни.
Консуэло вышла с серьезным, холодным видом и обвела глазами публику; поклоном, в котором не было ни излишнего смирения, ни кокетства, она ответила на залп рукоплесканий своих покровителей и начала речитатив таким уверенным голосом, с такой величественной полнотой звука, с таким торжествующим спокойствием, что после первой же фразы театр задрожал от восторженных криков.
– Ах коварный! Он насмеялся надо мной! – вскричала Корилла, метнув ужасный взгляд на Андзолетто, который, не удержавшись, взглянул на нее с плохо скрываемой усмешкой, и бросилась в глубину своей ложи, заливаясь слезами.
Консуэло пропела еще несколько фраз. В эту минуту послышался надтреснутый голос старика Лотти:
– Amici miei, questo e un portento![19]
Когда она исполняла выходную арию, ее десять раз прерывали, кричали бис, семь раз вызывали на сцену, в театре стоял восторженный гул. Словом, неистовство венецианских музыкантов-любителей проявилось со всем его пленительным и в то же время комическим жаром.
– Чего они так кричат? – спрашивала Консуэло, вернувшись за кулисы, откуда ее не переставали вызывать. – Можно подумать, что они собираются побить меня камнями!
С этой минуты Андзолетто, безусловно, отошел на второй план. Его принимали хорошо, но только потому, что все были довольны. Снисходительная холодность к его промахам и не слишком восторженное отношение к удачам говорили о том, что если женщинам – этому экспансивному, шумному большинству – и нравилась его наружность, то мужчины были о нем невысокого мнения и все свое восхищение приберегали для примадонны. Ни один из тех, кто явился в театр с враждебными намерениями, не решился выразить хоть малейшее неодобрение, и, сказать правду, не нашлось и трех человек, которые устояли бы против стихийного увлечения и непреодолимой потребности рукоплескать новоявленному чуду.
Опера имела большой успех, хотя, в сущности, самой музыкой никто не интересовался. Это была чисто итальянская музыка, грациозная, умеренно патетическая, но, как говорят, в ней еще нельзя было предугадать автора «Альцесты» и «Орфея». В ней было мало мест, которые бы поражали слушателей своей красотой. В первом же антракте немецкий композитор был вызван вместе с тенором, примадонной и даже Клориндой. Клоринда, принятая благодаря протекции Консуэло, прогнусавила глухим голосом и с вульгарным акцентом свою второстепенную роль, обезоружив всех красотою плеч: Розальба, которую она заменяла, была чрезвычайно худа!
В последнем антракте Андзолетто, все время украдкой следивший за Кориллой, заметил, что та все более и более выходит из себя, и счел благоразумным зайти к ней в ложу, дабы предупредить могущую произойти вспышку. Увидав юношу, Корилла, как тигрица, набросилась на него и отхлестала по щекам, исцарапав при этом до крови, так что потом ни белила, ни румяна не могли скрыть следов. Оскорбленный тенор укротил пыл любовницы, ударив ее кулаком в грудь с такою силой, что она, едва не лишившись чувств, упала на руки своей сестры Розальбы.
– Подлец! Изменник! Разбойник! – задыхаясь, бормотала она. – И ты, и твоя Консуэло, вы оба погибнете от моей руки!
– Несчастная, посмей только сделать сегодня хоть шаг, хоть жест, посмей только выкинуть какую-нибудь штуку – и я заколю тебя на глазах у всей Венеции! – прошипел сквозь стиснутые зубы бледный Андзолетто, вытащив нож, с которым он никогда не расставался и которым владел с искусством истинного сына лагун.
– Он сделает то, что говорит, – с ужасом прошептала Розальба. – Молю тебя, скорей идем отсюда: здесь нам грозит смерть!
– Да, да, совершенно верно, и помните это, – ответил Андзолетто, с шумом захлопывая за собой дверь ложи и запирая ее на ключ.
Хотя эта трагикомическая сцена и проведена была чисто по-венециански – таинственным шепотом и молниеносно, – все же, когда дебютант быстро прошел из-за кулис в свою уборную, закрывая щеку носовым платком, все догадались, что произошла маленькая стычка. А парикмахер, призванный привести в порядок растрепанные кудри греческого принца и замаскировать полученную им царапину, сейчас же раззвонил среди хористов и статистов о том, что щека героя пострадала от коготков одной влюбленной кошечки. Парикмахер этот знал толк в такого рода ранах и не раз бывал поверенным в подобных закулисных происшествиях. История эта в мгновение ока обежала всю сцену, каким-то образом перескочила через рампу и пошла гулять из оркестра на балкон, с балкона в ложи и оттуда, уже с разными прикрасами, проникла в глубину партера. Связь Андзолетто с Кориллой была еще неизвестна, но некоторые видели, как он увивался вокруг Клоринды, и вот разнесся слух, что последняя в припадке ревности к примадонне выколола глаз и выбила три зуба красивейшему из теноров.
Это повергло в отчаяние многих (главным образом представительниц прекрасного пола), но для большинства явилось просто очаровательным скандальчиком. Зрители спрашивали друг друга, не будет ли приостановлено представление и не появится ли прежний тенор Отефанини доигрывать роль с тетрадкой в руках. Но вот занавес поднялся. И когда появилась Консуэло, такая же спокойная и величественная, как вначале, все было забыто. Хотя роль ее сама по себе не была особенно трагической, Консуэло силой своей игры, выразительностью пения сделала ее такою. Она заставила проливать слезы, и когда появился тенор, его царапина вызвала только улыбки. Однако из-за этого смехотворного эпизода успех Андзолетто был менее блестящ, чем мог бы быть, и все лавры в этот вечер достались Консуэло. В конце ее опять вызывали и проводили горячими аплодисментами.
После спектакля все отправились ужинать во дворец Дзустиньяни, и Андзолетто совсем забыл о запертой в ложе Корилле, которой пришлось взломать дверь, чтобы выйти оттуда. В суматохе, обыкновенно царящей в театре после шумного спектакля, этого никто не заметил. Но на следующий день кто-то сопоставил сломанную дверь с полученной тенором царапиной, и это навело людей на мысль о любовной интриге, которую Андзолетто так тщательно скрывал до сих пор.
Едва лишь занял он место за большим столом, вокруг которого граф, устроивший роскошный банкет в честь Консуэло, усадил своих гостей, едва известные венецианские поэты начали приветствовать певицу мадригалами и сонетами, сочиненными в ее честь еще накануне, как лакей тихонько сунул под его тарелку записочку от Кориллы. Он прочитал украдкой:
«Если ты не придешь ко мне сию же минуту, я явлюсь за тобой сама и закачу тебе скандал, где бы ты ни был – хоть на краю света, хоть в объятиях трижды проклятой Консуэло!».
Под предлогом внезапного приступа кашля Андзолетто вышел из-за стола, чтобы написать ей ответ. Оторвав кусочек линованной бумаги из нотной тетрадки, лежавшей в передней, он нацарапал карандашом:
«Если хочешь, приходи: мой нож всегда наготове, так же как моя ненависть и презрение к тебе».
Деспот знал, что для женщины, обладающей таким характером, страх был единственной уздой, угроза – единственным средством укротить ее. Однако он невольно помрачнел и за ужином был рассеян. А как только встали из-за стола, сбежал и помчался к Корилле.
Он застал несчастную женщину в состоянии, достойном жалости. За истерикой последовали потоки слез; она сидела у окна растрепанная, с распухшими от слез глазами. Платье, которое она в отчаянии разорвала на себе, висело клочьями на груди, вздрагивавшей от рыданий. Она отослала сестру, служанку, и проблеск невольной радости озарил ее лицо, когда она увидела того, кого уже не думала больше увидеть. Но Андзолетто знал ее слишком хорошо, чтобы начать утешать. Будучи уверен, что при первом же проявлении сострадания или раскаяния в ней проснутся гнев и жажда мести, он решил держаться уже взятой на себя роли – быть неумолимым и, хотя в глубине души был тронут отчаянием Кориллы, стал осыпать ее самыми жестокими упреками, а затем объявил, что пришел проститься навсегда. Он довел ее до того, что она бросилась перед ним на колени и в полном отчаянии доползла до самых дверей, моля о прощении. Только совсем сломив и уничтожив ее, он сделал вид, будто смягчился. Глядя на высокомерную красавицу, которая валялась в пыли у его ног, словно кающаяся Магдалина, упоенный гордостью и каким-то смутным волнением, он уступил ее исступленной страсти, и она снова познала его ласки. Но и наслаждаясь с этой укрощенной львицей, Андзолетто ни на миг не забывал, что она дикий зверь, и до конца выдержал роль оскорбленного повелителя, который снизошел до прощения.
Уже начинало светать, когда эта женщина, опьяненная и униженная, спрятав бледное лицо в длинных черных волосах, облокотясь мраморной рукой на влажный от утренней росы балкон, стала тихим, ласкающим голосом жаловаться на пытки, причиняемые ей любовью.
– Ну да, я ревнива, – говорила она, – и, если хочешь, хуже того – завистлива. Не могу видеть, как моя десятилетняя слава в одно мгновение превзойдена новой восходящей звездой, как жестокая, забывчивая толпа приносит меня в жертву без пощады и без сожалений. Когда ты узнаешь восторг успеха и горечь падения, поверь, ты не будешь так строг и требователен к себе, как сейчас ко мне. Ты говоришь, что я еще полна сил, что успех, богатство, заманчивые надежды – все это ждет меня в новых странах, что я покорю там новых любовников, пленю новый народ. Пусть даже это так, но неужели, по-твоему, найдется на свете хоть что-нибудь, что могло бы утешить меня в том, что я покинута всеми друзьями, сброшена с трона, куда еще при мне возведен другой кумир? И этот позор – первый в жизни, единственный за всю мою карьеру – обрушился на меня в твоем присутствии! Скажу более: этот позор – дело твоих рук, рук моего любовника, первого человека, которого я полюбила, потеряв власть над собой, потеряв волю. Ты говоришь еще, что я фальшива и зла, что я разыграла перед тобой лицемерное благородство и лживое великодушие, но ведь ты сам этого хотел, Андзолетто. Я была оскорблена – ты потребовал, чтобы я делала вид, будто я спокойна, и я притворялась спокойной. Я была недоверчива – ты потребовал, чтобы я верила в твою искренность, и я поверила. У меня в душе кипели злоба и отчаяние – ты мне говорил: смейся, и я смеялась. Я была взбешена – ты мне велел молчать, и я молчала. Что же я могла сделать еще? Ведь я играла роль, мне несвойственную, и приписывала себе мужество, которого во мне нет. А теперь, когда это напускное мужество покидает меня, когда эта пытка делается невыносимой и я близка к сумасшествию, ты, который должен был бы пожалеть меня, ты топчешь меня ногами и собираешься оставить умирать в том болоте, куда сам же меня завел. Ах, Андзолетто! У тебя каменное сердце, и для тебя я стою не больше, чем морской песок, который приносит и уносит набегающая волна. Брани, бей меня, оскорбляй, раз такова потребность твоей сильной натуры, но все же в глубине души пожалей меня! Подумай, как должна быть беспредельна моя любовь к тебе, если, будучи такой скверной, какой ты меня считаешь, я ради этой любви не только переношу все муки, а готова страдать еще и еще…
– Но послушай, друг мой, – продолжала она, обнимая его еще нежнее, – все, что ты заставил меня выстрадать, ничто по сравнению с тем, что я чувствую, когда думаю о твоей будущности и о твоем счастье. Ты погиб, Андзолетто, дорогой мой Андзолетто! Погиб безвозвратно! Ты не знаешь, не подозреваешь этого! А я – я это вижу и говорю тебе: «Пусть я была бы принесена в жертву его тщеславию, пусть мое падение послужило бы его торжеству, но нет – все это только на его погибель, и я – орудие соперницы, наступившей ногой на головы нам обоим».
– Что хочешь ты этим сказать, безумная? – вскричал Андзолетто. – Я не понимаю тебя.
– А между тем ты бы должен был понять меня, понять хотя бы то, что произошло сегодня. Разве ты не заметил, как публика, несмотря на весь восторг, вызванный твоей первой арией, охладела к тебе после того, как спела она? И – увы! – она всегда будет петь так: лучше меня, лучше всех и, сказать правду, лучше тебя, мой дорогой Андзолетто… Значит, ты не видишь, что эта женщина раздавит тебя и, пожалуй, уже раздавила при первом же своем появлении? Не видишь, что ее некрасивость затмила твою красоту? Да, она некрасива, я признаю это, но я знаю также, что такие женщины, понравившись, способны вызвать более сильные ощущения, чем совершеннейшие красавицы мира… Разве ты не видишь, что ей поклоняются, ее обожают и что всюду, где ты будешь появляться вместе с ней, ты останешься в тени, будешь незаметен? Разве ты не знаешь, что талант артиста нуждается для своего развития в похвалах и успехе точно так же, как новорожденный младенец нуждается в воздухе, чтобы расти и жить? Что всякое соперничество сокращает сценическую жизнь артиста, а опасный соперник рядом с ним – это смерть для нашей души, это пустота вокруг нас? Ты должен видеть все это на моем печальном примере: одного страха перед неизвестной мне соперницей, страха, который ты хотел во мне вытравить, было достаточно, чтобы я целый месяц чувствовала себя парализованной. И чем ближе был день ее торжества, тем слабее делался мой голос, тем заметнее убывали мои силы. А ведь я почти не допускала возможности ее торжества! Что же будет теперь, когда я собственными глазами видела это торжество – несомненное, поразительное, неоспоримое? Знаешь, я уже не могу появиться на сцене в Венеции, а пожалуй, даже и нигде в Италии: я пала духом. Чувствую, что буду дрожать, что мне не удастся издать ни одного звука… И куда уйти от воспоминаний о пережитом? И есть ли место, откуда мне не придется бежать от моей торжествующей соперницы? Да, я погибла, но и ты тоже погиб, Андзолетто! Ты умер, не успев насладиться жизнью. И будь я так зла, как ты уверяешь, я бы ликовала, толкала бы тебя к гибели и была б отомщена, а я с отчаянием говорю тебе: если ты еще хоть раз появишься с нею, для тебя в Венеции нет будущности! Если ты будешь сопутствовать ей в поездках, всюду позор и унижение пойдут за тобой по пятам. Если будешь жить на ее средства, делить с нею роскошь, прятаться за ее имя, тебе придется влачить самое жалкое, самое тусклое существование. Хочешь знать, как к тебе будет относиться публика? Люди будут спрашивать: «Скажите, кто этот красивый молодой человек, которого всегда можно видеть рядом с ней?». И им ответят: «Да никто, даже меньше, чем никто, – это или муж, или любовник божественной певицы».
Андзолетто стал мрачен, как грозовые тучи, собиравшиеся в это время на востоке.
– Ты сошла с ума, милая Корилла! – ответил он. – Консуэло вовсе не так страшна для тебя, как это рисует тебе сейчас больное воображение. Что до меня, то, повторяю, я не любовник ее и, безусловно, никогда не буду ее мужем. Так же, как никогда не буду жить в тени ее широких крыльев, точно жалкий птенец. Предоставь ей парить! В небесах довольно воздуха и пространства для всех, кого могучая сила поднимает высоко над землей. Взгляни на этого воробья – не так ли он привольно летает над каналом, как чайка над морем? Ну, довольно этих бредней! Дневной свет гонит меня из твоих объятий. До завтра! И если хочешь, чтобы я вернулся к тебе, будь по-прежнему кротка и терпелива. Ты пленила меня именно кротостью и терпением. Поверь, это гораздо больше идет твоей красоте, чем крики и бешенство ревности!
Все-таки Андзолетто вернулся к себе в мрачном расположении духа. И только в постели, почти засыпая, он задал себе вопрос: кто мог проводить Консуэло домой из графского дворца? Это всегда было его обязанностью, и он ее никогда никому не уступал.
– В конце концов, – сказал он себе, кулаком взбивая подушку, чтобы устроиться поудобнее, – если графу суждено добиться своего, так, пожалуй, для меня же лучше, чтобы это случилось поскорее.