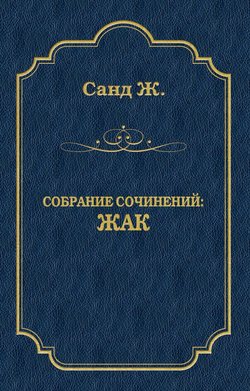Читать книгу Жак - Жорж Санд - Страница 11
X
ОглавлениеОт Жака – Сильвии
Ну что ж, да – это любовь, это безумие. Называй это как угодно, даже преступлением, если хочешь. Может быть, я в этом раскаюсь, да уж будет поздно; может быть, по моей вине окажутся двое несчастных вместо одного, но я уже не могу рассуждать, я качусь по наклонной плоскости, я скатываюсь в пропасть. Я люблю и любим. Я не способен ни думать, ни чувствовать что-нибудь иное.
Ты не знаешь, что значит для меня – любить. Нет, я тебе этого никогда не говорил, потому что, любя, я испытываю эгоистическую потребность замкнуться в самом себе и скрывать свое счастье, как тайну. Ты единственный в мире человек, которому я мог открыться, но способен я был на это в редкие мгновения. Бывали такие минуты в моей жизни, когда одному только Богу я мог доверить свою скорбь или радость. Сегодня я попытаюсь открыть тебе всю свою душу, чтобы ты могла спуститься на дно пропасти, неведомой мне самому, как ты говоришь. Может быть, ты увидишь, что я не такой уж грозный борец, каким ты меня считаешь; может быть, гордая моя Сильвия, ты будешь меньше меня любить, увидев во мне больше человеческих слабостей, чем ты полагала.
Да почему же считать слабостью самозабвенное влечение сердца? Нет, слабость – это оскудение чувств. Когда человек больше не может любить, он должен плакать над самим собой и краснеть за то, что дал угаснуть священному огню; я же с гордостью чувствую, что огонь этот с каждым днем все сильнее разгорается во мне. Нынче утром я с наслаждением вдыхал первые веяния весны, видел, как начинают распускаться первые цветы. Полуденное солнце уже грело жарко, в аллеях парка Серизи воздух напоен был смутным ароматом фиалок и свежего мха. Синицы щебетали над первыми бутонами и, казалось, просили их поскорее раскрыться. Все говорило мне о любви и надежде; я так живо чувствовал эту благостыню небесную, что готов был броситься на молодую травку и от всего сердца возблагодарить Бога за его щедроты. Клянусь тебе, что даже в первой любви я не изведал такой чистой радости и такого дивного восторга; я весь трепетал, горел как в лихорадке. Нынче мне кажется, что душа моя молода, очистилась от страстей и впервые познает любовь. А ты, мечтательница, видела в воображении, как мой призрак в страхе бродит вокруг тебя. Да ведь никогда я не был так счастлив, никогда так не любил! Не вспоминай, что я то же самое говорил при каждой новой своей влюбленности. Разве это важно? Воображаемое чувство становится чувством подлинным. Впрочем, я готов поверить, что бывают различные ступени в силе последовательных увлечений страстной и такой бесхитростной души, как у меня. Я никогда не старался работой воображения разжечь в себе чувство, которое еще не возникло, или возродить его, когда оно умерло; я никогда не мог любить по сознанию долга или сохранять постоянство по обязанности. Когда я чувствовал, что моя любовь угасла, я это говорил, не испытывая ни стыда, ни укоров совести, и повиновался Провидению, которое влекло меня дальше по моему пути. Жизненный опыт состарил меня – я прожил два или три столетия; но, дав мне зрелость, опыт иссушил меня. Я знаю свое будущее, но ни за что на свете холодно и трусливо не пожертвую из-за него настоящим. Как! Я, человек, привыкший страдать, отступлю перед судьбой, так скупо отмеряющей нам радости, не попробую вырвать у нее те немногие блага, которые она еще может мне дать? Да разве я был чересчур счастлив? Разве мне уж нечего будет познать, разве ничем новым нельзя мне завладеть под солнцем нашего земного мира? Я чувствую, что жизнь моя еще не кончена, что я еще не насытился, я чувствую, что еще найдутся радости для моего сердца, так как в сердце моем не угасли желания и потребности. Я хочу завоевать эти радости и насладиться ими, хотя бы мне пришлось заплатить еще дороже, чем за все те блаженные мгновения, которые по воле Божьей я уже испытал. Если судьбой назначено человеку (по крайней мере мне) быть счастливым и потом страдать за это, всем обладать и все потом потерять, пусть будет так! Если моя жизнь – непрестанная борьба, восстание надежды против невозможности, я принимаю единоборство. Я еще чувствую в себе силы побороться с судьбой и быть счастливым хотя бы один день, ценою всех остальных дней моей жизни. Я бросаю вызов – пусть судьба попробует запугать меня перед поединком, пусть разобьет меня, если она сильнее.
Не говори мне, что я играю счастьем другого человека, связанного со мною. Прежде всего в той среде, из которой я беру его, этот человек был бы куда более несчастным, чем в моих руках; да и то, что ему суждено выстрадать со мною, нельзя и сравнить с тем, что мне, возможно, придется перенести из-за него. Я знаю, какие муки меня ожидают, и по своим собственным горестям представляю себе горести других. Как же ты хочешь, чтобы я чувствовал к кому-нибудь сострадание? Неужели ты думаешь сравнивать меня с остальными людьми? Разве я по силе страданий не окажусь среди них исключением? Любой на твоем месте посмеялся бы над такими притязаниями и принял бы их за глупую гордость, но ты-то знаешь, что это вовсе не хвастовство, а горькая жалоба сердца. Ты знаешь, как я не раз проклинал небо, ибо оно отказало мне в том свойстве, которым так щедро наделило всех людей: мне оно не дало способности забывать прошлое. В каких только несчастьях люди не утешаются! А я никогда не мог найти утешения! Других горе чуть касается, не знаю уж, какой ветер овевает их раны, но все они тотчас подсыхают. Почему же мои раны вечно кровоточат? Почему первое в моей жизни страдание, вместо того чтобы кануть во мрак забвения, всегда стоит у меня перед глазами, ужасное и живое, как гидра, у которой вместо отрубленной головы вырастают две новые? Для всех людей несчастье – это погребальное песнопение, оглашающее их путь, звуки его мало-помалу стихают, когда унесутся вдаль последние аккорды и слух не сохраняет их звучание. Почему же они так гремят вокруг меня? Почему в душе моей всечасно раздается эта вечная песня смерти и я оплакиваю свои утраты? Почему на голове моей терновый венец и шипы его раздирают мне лоб при каждом дуновении ветра, играющего душистыми цветами в венках, которые украшают головы других людей?
О, я прекрасно вижу, что другие не испытывают и сотой доли моих страданий. Они сетуют во сто раз громче, потому что по-настоящему не ведают, что такое страдание. Наглые сибариты, они жалуются на морщинку в лепестке розы; я вижу, как быстро они исцеляются и, успокоившись, слепо предаются новой иллюзии. Порода малодушных глупцов! Они бежали бы от этих иллюзий, если б знали, как я, во что обходится самообольщение. Когда же судьба грозит им горем, они признаются, что ошиблись. «Ах, если б я знал, – говорят они, – что это так кончится!» А я знаю, как все кончается, и все же бросаюсь к новой любви. Вот видишь: я во сто раз храбрее, во сто раз несчастнее, чем другие.
Итак, Фернанда будет страдать вместе со мной. Ты хочешь, чтобы я заранее вынес смертный приговор моему счастью? Хорошо, будь по-твоему, стоическая душа, неумолимая сила! Один из нас разлюбит – она или я, это не важно. Тот, кто отойдет последним, необязательно будет более несчастным! Фернанда утешится; она искренняя и добрая, но слабая, как ребенок. Слабой будет и ее скорбь.
Я все говорю о своей любви и своей радости, а между тем есть одно, что мучает меня и вызывает возмущение против меня самого, да и против тебя, Сильвия. Мне стыдно, что в последнем своем письме я не расспросил тебя кое о чем; мне обидно, что ты хранишь презрительное молчание, словно думаешь, будто я стал равнодушен к твоей судьбе. Если у тебя явилась такая мысль, Сильвия, я готов немедленно приехать к тебе и на коленях молить, чтобы ты вернула мне свое доверие и уважение. Ответь же мне, что у тебя на душе, бедняжка, поговори о себе. Да как же это! Уже три недели в наших письмах речь идет только обо мне и нет в них ни слова о твоем новом положении! В последний раз, когда мы об этом беседовали, ты как будто уже успокоилась немного. Но я не могу не тревожиться, зная, в каком одиночестве я тебя оставил. В твоем возрасте и при твоей энергии тяжело переносить одиночество – ведь чем с большей силой человек борется против скорби, тем сильнее он страдает. Скажи мне, скажи, победила ли ты свое горе. По тому, как ты разбираешь мое положение, мне кажется, что к тебе еще не пришло душевное спокойствие. Поговори со мною о твоем сердце, которое так сурово судит и анатомирует меня, а меж тем способно на такие же безумства и такую же смелость. Все-таки не забывай, Сильвия, что нас связывает чувство более сильное, чем любовь, что тебе стоит сказать слово, и я помчусь к тебе с одного края света на другой.