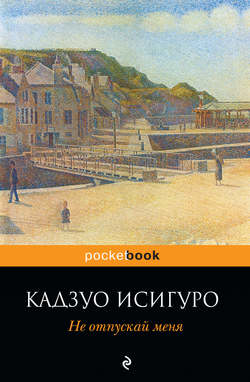Читать книгу Не отпускай меня - Кадзуо Исигуро - Страница 3
Англия, конец 1990-х
Часть первая
Глава 3
ОглавлениеПруд находился к югу от корпуса. Чтобы к нему попасть, надо было выйти через заднюю дверь и пройти по узкой извилистой тропинке, раздвигая сильно разросшийся папоротник, который загораживал дорогу даже ранней осенью. Или же, если поблизости не было опекунов, можно было срезать через заросли ревеня. Так или иначе, у пруда тебя ожидало сонное спокойствие: утки, камыш, ряска. Для секретного разговора это место, однако, не очень годилось – в сто раз лучше была очередь на ланч. Во-первых, пруд хорошо просматривался из корпуса. Кроме того, никогда не угадаешь, как пойдет по воде звук. Если кому-нибудь захотелось бы подслушивать, надо было только прошмыгнуть по дальней тропинке и спрятаться в кустах на той стороне пруда. Но ведь я сама оборвала Томми в очереди на ланч – так что теперь привередничать не приходилось. Хотя стоял октябрь, и уже не первые числа, день был солнечный, и я решила сделать вид, что гуляю там просто так и на Томми натыкаюсь случайно.
Может быть, потому, что я настроилась так себя вести – хотя понятия не имела, смотрит кто-нибудь или нет, – я не стала садиться, когда наконец увидела его сидящим на большом плоском камне поблизости от воды. Одежда на нас, помню, была своя – значит, была пятница или уик-энд. Во что именно был одет Томми, сказать теперь не могу – скорее всего, на нем была одна из потрепанных футболок, которые он носил даже в прохладную погоду. А я совершенно точно была в тренировочной куртке на молнии, которую приобрела на Распродаже в первом старшем. Я обогнула камень и стала спиной к пруду, лицом к корпусу, чтобы заметить, если в окнах начнут появляться лица. Потом мы несколько минут говорили о всяких пустяках, как будто в очереди на ланч ничего не случилось. Не знаю, кому – Томми или возможным зрителям – это предназначалось, но держалась я нарочито обыденно и один раз даже пошла было дальше, вроде как продолжать прогулку. Но тут на лице у Томми изобразилось чуть ли не отчаяние, и я мгновенно раскаялась: получалось, что я дразню его, хотя у меня этого и в мыслях не было. И я спросила, словно только что вспомнила:
– Кстати, о чем это ты начал тогда говорить? Насчет мисс Люси.
– А, да… – Томми уставился мимо меня на пруд, тоже делая вид, что совершенно об этом позабыл. – Мисс Люси. Было дело.
Мисс Люси по праву считалась в Хейлшеме самой спортивной опекуншей, хотя по ее виду не всякий мог бы такое предположить. Коренастая, она чем-то напоминала бульдога, и ее черные волосы странно росли вверх и никогда не закрывали ни ушей, ни короткой толстой шеи. При этом она была очень сильная и натренированная, и даже в старших классах мало кто из нас – включая мальчишек – мог тягаться с ней на беговой дорожке. Она великолепно играла в хоккей на траве и не уступала парням старшего возраста на футбольном поле. Помню, однажды Джеймс Б. попытался, когда она вела мяч, остановить ее подножкой, но не тут-то было – сам полетел на траву. Когда мы были в младших классах, она обращалась с нами совсем не так, как мисс Джеральдина, которая могла утешить в беде. В младших она вообще мало с нами разговаривала. Только повзрослев, мы начали ценить ее скупую, энергичную манеру речи.
– Ты стал рассказывать, – напомнила я Томми, – про разговор с мисс Люси. Будто она сказала, что если ты не хочешь заниматься творчеством, то ничего страшного.
– Да, что-то в этом роде. Сказала, чтобы я не беспокоился. Мало ли кто что про меня говорит. Это было месяца два назад. Или чуть побольше.
В корпусе несколько младшеклассников остановились у одного из верхних окон и начали смотреть на нас. Но я, забыв о притворстве, присела на корточки напротив сидящего Томми.
– Томми, ведь это очень странно звучит. Ты уверен, что правильно ее понял?
– Конечно уверен. – Он вдруг понизил голос. – Она не один раз это повторила. Мы были в ее кабинете, и она закатила об этом целую речь.
Когда она попросила его зайти к ней в кабинет после урока восприятия искусства, Томми, объяснил он мне, подумал, что его ждет очередная лекция о необходимости прилагать старания. Опекуны, в том числе даже мисс Эмили, проводили с ним такие беседы уже не раз. Но когда Томми и мисс Люси шли от корпуса к оранжерее (там у нас жили опекуны), у него возникло ощущение, что сегодня будет по-другому. Потом, когда он сел в ее удобное кресло (сама мисс Люси осталась стоять у окна), она попросила его рассказать, что, по его мнению, с ним все это время происходило. Томми начал было, но даже до середины не дошел, как она вдруг перебила его и заговорила сама. Она, мол, знала множество воспитанников, которым долгое время очень трудно давалось творчество. Живопись, рисунок, поэзия – все это не один год шло у них со скрипом. Потом в один прекрасный день они вдруг раз – и расцветали. Вполне возможно, сказала она Томми, что и с ним так будет.
Томми слыхал подобное и раньше, но было в тоне мисс Люси что-то такое, что заставило его прислушаться.
– Мне ясно стало, – сказал он мне, – что она к чему-то клонит. К чему-то другому.
И действительно, вскоре она начала говорить необычные вещи, которые Томми не сразу воспринял. Но она твердила свое, и понемногу он стал понимать. Если, сказала она, Томми старается по-настоящему, но с творчеством все равно ничего не выходит, это не беда, беспокоиться не надо. Никто – ни опекуны, ни воспитанники – не должен наказывать его, давить на него, мучить его за это. Его вины здесь нет. А когда Томми возразил, что если мисс Люси так думает – это, конечно, хорошо, но все-то остальные считают виноватым именно его, она вздохнула и посмотрела в окно. Потом сказала:
– Может быть, это и не сильно тебе поможет, но знай: в Хейлшеме есть по крайней мере один человек, который думает по-другому. Который считает тебя очень хорошим воспитанником, ничуть не хуже остальных, независимо от твоих творческих результатов.
– Может, она голову тебе морочила? – спросила я Томми. – Может, она таким хитрым способом решила сделать тебе втык?
– Точно нет. Дело в том… – Вдруг, в первый раз за весь разговор, он обеспокоился, что нас могут подслушивать, и оглянулся на корпус. Младшеклассники уже потеряли интерес и отошли от окна; к павильону направлялись несколько девчонок нашего возраста, но они пока что были далеко. Томми опять повернулся ко мне и сказал чуть ли не шепотом: – Дело в том, что, когда она это говорила, ее трясло.
– Как это – трясло?
– Натурально. От злости. Я прекрасно видел. Она, глубоко внутри, была в бешенстве.
– Из-за кого?
– Не знаю. Но не из-за меня, вот что самое главное! – Он усмехнулся, потом опять стал серьезным. – Понятия не имею, на кого она злилась. Но злилась здорово.
У меня затекли ноги, и я встала.
– Странно все это, Томми.
– И самое интересное, что этот разговор мне помог. Очень даже помог. Ты сегодня сказала, что дела у меня как будто налаживаются. Ну так это из-за мисс Люси. Я стал потом думать о ее словах и понял: она права, я не виноват. Да, я вел себя не так, как надо. Но все равно где-то там, в самой глубине, я не виноват. Вот это-то все и меняет. А если я чувствую, что могу сорваться, хорошо бывает встретить ее где-нибудь или просто посмотреть на нее, когда сижу на уроке. Она ничего, конечно, не скажет про наш разговор, только слегка кивнет. Но мне этого хватает. Ну вот – ты спрашивала, что со мной случилось. Теперь ты знаешь. Но слушай, Кэт, обещай мне: ни слова никому, хорошо?
Я кивнула, но спросила:
– Это она потребовала?
– Нет-нет, она ничего от меня не требовала. Но все равно молчи как рыба. Ты должна дать мне слово.
– Ладно, даю слово.
Девочки, которые шли к павильону, увидели меня и стали махать руками и кричать. Я помахала в ответ и сказала Томми:
– Я теперь пойду. Давай потом это обсудим. Но Томми будто не слышал.
– Было еще кое-что, – продолжал он. – Она и про другое мне говорила, но я толком не понял. Хотел тебя об этом спросить. Она сказала, нас недостаточно учат, что-то в этом роде.
– Недостаточно учат? То есть она думает, что мы должны еще больше заниматься?
– Нет, кажется, она не к этому вела. Она говорила… ну… про нас вообще. Про то, что с нами будет. Про донорство и все такое.
– Но ведь нам это объясняли, – удивилась я. – Не понимаю, что она хотела сказать. Что есть такие вещи, которые от нас пока держат в секрете?
Томми ненадолго задумался, потом помотал головой.
– Нет, по-моему. Просто она думает, что нас надо больше этому учить, вот и все. Она сказала, ей бы очень хотелось самой с нами потолковать на эти темы.
– На какие именно?
– Не знаю, Кэт. Может быть, я вообще не так ее понял. Может быть, она совсем даже не это имела в виду, а еще что-нибудь насчет моих нулевых творческих результатов. Я как в тумане, если честно.
Томми смотрел на меня так, словно ждал, что я добуду откуда-нибудь ответ. Я поразмыслила еще несколько секунд, потом сказала:
– Томми, постарайся вспомнить. Ты говоришь, она злилась…
– Да, вид был такой. Тихая, но ее трясло.
– Хорошо, допустим – она злилась. И что, злость напала на нее, как раз когда она затеяла этот новый разговор? Про то, что нам мало объясняют насчет донорства и прочего?
– Кажется, так…
– Теперь, Томми, подумай. С какой стати она сюда вырулила? Говорила про тебя, про твои трудности с творчеством. Потом вдруг начинает про эти вещи. Где связь? При чем тут вообще донорство? Какое оно имеет отношение к твоим делам?
– Не знаю – какое-то, наверно, имеет. Может быть, одно почему-то навело ее на другое. Кэт, ты что-то слишком во все это погрузилась.
Я засмеялась, потому что он был прав: я хмурила брови, полностью уйдя в свои мысли. Они двигались в разных направлениях одновременно. Рассказ Томми о разговоре с мисс Люси заставил меня кое о чем вспомнить – пожалуй, сразу о нескольких вещах, о мелких эпизодах с участием мисс Люси, которые озадачили меня в свое время.
– Просто… – Я замолчала, вздохнула. – Не могу понятно объяснить, даже сама себе. Просто то, что ты говоришь, напоминает о всяком-разном – о довольно-таки загадочном. Я часто про это думаю. Например, зачем Мадам приезжает и забирает наши лучшие картины? Для чего они ей нужны?
– Для Галереи.
– Но что это за Галерея? Приезжает раз за разом и увозит лучшее, что мы делаем. У нее уже горы должны были накопиться. Я однажды спросила мисс Джеральдину, с каких пор Мадам стала сюда приезжать, и она ответила, что с самого основания Хейлшема. Что это за Галерея? Почему она вдруг решила сделать галерею из наших работ?
– Может быть, продает. Там, снаружи, они всем торгуют.
Я покачала головой.
– Нет, не то. Здесь должна быть какая-то ниточка к тому, что сказала тебе мисс Люси. Про нас, про то, что нам предстоит, про донорство. Не знаю, но мне кажется, что все тут связано одно с другим, хотя не могу сообразить как. Ладно, я пойду, Томми. Давай пока будем молчать обо всем.
– Конечно. И никому про мисс Люси.
– Но ты мне скажешь, если она еще о чем-нибудь таком с тобой заговорит?
Томми кивнул, потом опять оглянулся.
– Ты правда иди, Кэт. А то кто-нибудь нас услышит.
С Галереей, о которой вспомнили мы с Томми, мы, можно сказать, выросли. Все говорили о ней как о чем-то реальном, хотя никто из нас не был по-настоящему уверен в ее существовании. Не помню, когда и от кого я в первый раз про нее услышала, и наверняка я в этом отношении случай довольно типичный. Точно могу сказать, что не от опекунов: они о Галерее никогда не упоминали, и действовало негласное правило, что в их присутствии мы даже и заговаривать не должны на эту тему.
Мне думается теперь, что представление о Галерее передавалось в Хейлшеме от поколения к поколению воспитанников. Помню, мне было всего пять или шесть и я сидела за низким столиком рядом с Амандой С. Руки у нас были липкие от пластилина. Не могу сейчас сказать, были ли в комнате другие дети и кто из опекунов вел занятие. Точно знаю одно: Аманда С., которая была на год старше, посмотрела на то, что я леплю, и воскликнула: «Ой, Кэти, какая красота! Вот здорово! Точно тебе говорю – это возьмут в Галерею!»
Наверняка я уже знала про Галерею. Помню свое волнение и гордость, когда я это услышала, и помню, что мгновение спустя я подумала: «Ну нет, глупости, никто из нас еще не годится для Галереи».
Мы становились старше, и Галерея то и дело возникала в наших разговорах. Если кому-нибудь хотелось похвалить чужую работу, он говорил: «Класс! Прямо для Галереи». Когда мы доросли до иронии, то, увидев какое-нибудь смехотворно неудачное произведение, потешались: «Вот это шедевр! В Галерею немедленно!»
Но действительно ли мы верили в существование Галереи? Сегодня я в этом не убеждена. Как я уже сказала, мы никогда не упоминали о ней в разговорах с опекунами, и мне сейчас кажется, что это правило мы настолько же установили для себя сами, насколько оно исходило от опекунов. Помню один случай, когда нам было лет одиннадцать. Класс 7, солнечное зимнее утро. Только что кончился урок мистера Роджера, и некоторые из нас остались поболтать с ним. Мы сидим на столах, о чем именно идет беседа – не помню, но мистер Роджер, как всегда, заставляет нас покатываться со смеху. И тут Кэрол Х. возьми и скажи сквозь хохот: «Ну просто перл! Хоть в Галерее выставляй!» Она мигом прихлопнула рот ладонью, и настроение в классе осталось веселым, но все, в том числе мистер Роджер, понимали, что она совершила ошибку. Не катастрофическую – такую, как если бы с языка сорвалось грубое словцо или прозвучало прозвище опекуна в его присутствии. Мистер Роджер снисходительно улыбнулся, словно говоря: «Ничего, сделаем вид, что это не было сказано», и мы продолжили в прежнем духе.
Если Галерея оставалась для нас чем-то туманным, то вполне ощутимыми были визиты Мадам, отбиравшей наши лучшие работы, – она приезжала два, а иногда три или четыре раза в год. Мы называли ее между собой Мадам, потому что она была француженка или бельгийка (кто именно, возникали споры) и так к ней всегда обращались опекуны. Это была высокая худая женщина с короткой стрижкой, видимо еще довольно молодая, хотя тогда мы считали по-другому. На ней каждый раз был элегантный серый костюм, и в отличие от садовников, от шоферов, привозивших нам продукты и прочее, практически ото всех, кто приезжал извне, она с нами не разговаривала и своей прохладной манерой держала нас на расстоянии. Не один год мы считали ее «задавакой», но однажды вечером, когда нам было лет восемь, Рут выдвинула другое предположение.
– Она нас боится, – заявила она.
Мы лежали в кроватях в темноте. В младших классах нас приходилось по пятнадцати на спальню, поэтому у нас еще не могло быть таких долгих задушевных бесед, какие мы начали вести в старшем возрасте. Тем не менее у большей части нашей «компании» кровати стояли близко друг к другу, и поздние разговоры уже тогда начали входить у нас в привычку.
– Как это – боится? – спросила одна из девчонок. – С какой стати она будет нас бояться? Что мы ей можем сделать?
– Не знаю, – сказала Рут. – Не знаю, но точно вам говорю, что это так. Я думала, она просто задавака, но нет, Мадам нас боится, я теперь в этом уверена.
Мы спорили об этом несколько дней. Большинство не согласилось с мнением Рут, но это только придало ей решимости доказать свою правоту. И в конце концов, чтобы проверить ее теорию, мы придумали план, который должны были привести в действие, когда Мадам опять приедет в Хейлшем.
Хотя о приездах Мадам никогда не объявляли, всякий раз было вполне очевидно, что ее ждут. Подготовка к визиту начиналась загодя. Опекуны просматривали все наши работы – картины, рисунки, керамику, прозу, стихи. Продолжалось это недели две, и в итоге по четыре-пять вещей от каждого года обучения, от старших и младших, отбирались и помещались в бильярдную. Бильярдная на это время запиралась, но если забраться снаружи на низенькую ограду, можно было заглянуть в окно и увидеть, как растет улов. Когда опекуны начинали аккуратно все располагать на столах и стендах, устраивая своего рода Ярмарку в миниатюре, мы знали, что Мадам появится через день-два.
Но осенью, про которую я рассказываю, нам нужно было знать не только день, но и точный момент, потому что нередко Мадам гостила всего час-другой. Так что когда мы увидели, что в бильярдной идет раскладка вещей, мы решили дежурить и высматривать ее по очереди.
Задачу сильно облегчало наше местоположение. Хейлшем находился в низине, откуда во все стороны плавно поднимались поля. Это означало, что почти из каждого классного окна в главном корпусе – и даже из павильона – хорошо видно было длинное узкое шоссе, которое шло через поля вниз к главным воротам. Да и от этих ворот расстояние до корпуса еще было приличное, и любой машине, чтобы попасть на площадку перед ним, надо было проехать по гравийной дорожке мимо кустов и клумб. Нередко за день мы не видели на шоссе ни одной машины, а те, что изредка появлялись, обычно были фургончиками или грузовиками, которые везли садовников, рабочих и снабжали Хейлшем всем необходимым. Легковой автомобиль был редкостью, и, возникнув в отдалении, он иной раз вызывал в классе настоящий переполох.
День, когда мы заметили на шоссе машину Мадам, был солнечным, но ветреным, с грозовыми тучами на небосклоне. Мы сидели на втором этаже в классе 9 – окна со стороны фасада, – как вдруг по рядам побежал шепот, и бедный мистер Фрэнк, пытавшийся учить нас правописанию, не мог понять, какая муха нас укусила.
План, который мы разработали для проверки теории Рут, был очень простым. Мы, шесть девчонок, должны были устроить где-нибудь засаду и в подходящий момент, все разом, оказаться около Мадам. Вести себя при этом вполне прилично, приблизиться и сразу же двигаться дальше, но если сделать все вовремя, можно застать ее врасплох и, как уверяла Рут, увидеть, что она нас боится.
Нашей главной заботой было подловить Мадам за то короткое время, что она пробудет в Хейлшеме. Когда урок мистера Фрэнка кончился, мы увидели в окно, как она останавливает свою машину на площадке прямо под нами. Мы торопливо посовещались в коридоре, спустились вслед за остальными по лестнице и стали околачиваться в вестибюле у главного входа. Глядя в дверь на освещенную солнцем площадку, мы видели Мадам, которая все еще сидела за рулем и копалась в своем портфеле. Наконец она вышла из машины и двинулась в нашу сторону. На ней был обычный серый костюм, портфель она крепко прижимала к себе обеими руками. Рут подала знак, и мы, словно желая прогуляться, высыпали за дверь и направились прямо к ней – но были точно в забытьи. И только когда она остановилась как вкопанная, каждая из нас пробормотала: «Прошу прощения, мисс», – и обошла ее справа или слева.
Никогда не забуду странную перемену, которая случилась с нами в следующий миг. До тех пор вся затея была для нас если и не просто шуткой, то во многом нашим частным делом, больше никого не касающимся. Мы не особенно думали о том, как в нем может участвовать сама Мадам или кто-либо еще. То есть до последнего момента это было довольно легкомысленное предприятие с небольшой примесью дерзости. И не сказать, чтобы Мадам повела себя каким-нибудь совсем неожиданным образом: она просто замерла и подождала, пока мы пройдем. Не вскрикнула, даже вздоха не испустила. Но мы все очень напряженно ждали, что будет, и, вероятно, поэтому ее реакция так на нас подействовала. Когда Мадам остановилась, я быстро посмотрела на ее лицо, и такой же взгляд, я уверена, бросили другие. И я до сих пор вижу еле заметное содрогание, которое она подавила, – признак реальной боязни случайно дотронуться до кого-нибудь из нас. И хотя мы все просто прошли мимо, каждая это почувствовала: словно из-под солнца мы на секунду переместились в холодную тень. Рут была права: Мадам действительно нас боялась. Но боялась так, как другие боятся пауков. К этому мы не были готовы. Обдумывая план, мы не задавались вопросом, как мы сами себя почувствуем в такой роли – в роли пауков.
К тому времени, как мы пересекли площадку и вышли на траву, мы уже были совсем другой компанией, чем та, что стояла и азартно ждала, когда Мадам выйдет из машины. Ханна, казалось, вот-вот расплачется. Даже Рут выглядела потрясенной. Потом одна из нас – по-моему, Лора – сказала:
– Если она нас не любит, зачем ей наши работы? Почему бы просто не оставить нас в покое? Кто вообще ее просит сюда приезжать?
Никто не ответил, и мы пошли в павильон – больше о случившемся не было сказано ни слова.
Теперь мне ясно, что мы были как раз в таком возрасте, когда уже знали кое-что о себе – кто мы такие, чем отличаемся от опекунов, от людей вне Хейлшема, – но еще не понимали, что это означает. Я уверена, что и у вас когда-нибудь в детстве было переживание, сходное с нашим в тот день. Сходное не внешне, не в деталях, а внутренне, чувствами. Потому что как бы ни готовили тебя опекуны, сколько бы ни было бесед, видеофильмов, обсуждений, предостережений, до сознания все это по-настоящему не доходит – по крайней мере, когда тебе только восемь лет, когда вы все вместе в таком заведении, как Хейлшем, когда у вас такие опекуны, как были у нас, когда садовники и шоферы шутят с вами, смеются и называют вас «золотко».
И где-то тем не менее это копится. Копится, потому что, когда наступает такой момент, как у нас, оказывается, что часть тебя этого ждала. Лет, может быть, с пяти или шести что-то в твоей голове тихо шепчет: «Когда-нибудь – может, даже и скоро – ты поймешь, каково это». И ты ждешь, пусть даже и не вполне это понимаешь, ждешь момента, когда тебе станет ясно, что ты действительно отличаешься от них, что там, снаружи, есть люди, которые, как Мадам, не питают к тебе ненависти и не желают тебе зла, но тем не менее содрогаются при самой мысли о тебе – о том, как ты появился в этом мире и зачем, – и боятся случайно дотронуться до твоей руки. Миг, когда ты впервые глядишь на себя глазами такого человека, – это отрезвляющий миг. Это как пройти мимо зеркала, мимо которого ты ходил каждый день, и вдруг увидеть в нем что-то иное, что-то странное и тревожное.