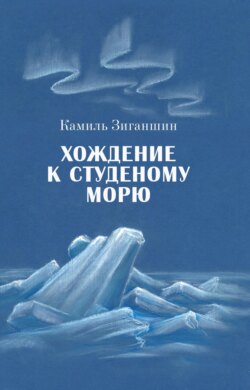Читать книгу Хождение к Студеному морю - Камиль Зиганшин, Камиль Фарухшинович Зиганшин - Страница 4
Хождение к студеному морю
Пролог
ОглавлениеСомненье – гибель, вера – жизнь.
Дж. Байрон
Дарья, глянув в окно, мимо которого прошли две девицы, задумалась.
– Чего загрустила, матушка? – обнял ее за плечи гостивший в скиту настоятель монастыря Изосим.
– Эх, сынок! Ума не приложу, что делать. Где женихов искать? Пять девиц на выданье, а парней, отвечающих Правилу, нет. Либо кровники, либо родственники по кресту[1]. И сестра твоя, Елена, тоже в девках, а ей уж за двадцать перевалило. Паша в бобылях ходит, а ты обет дал. Похоже, так и помру без внуков… Может, что присоветуешь?
– Есть одна мысль – надо с китайцем поговорить.
– Что еще за китаец? – сразу насторожилась Дарья.
– Да захаживает к нам один из Маньчжурии. Прежде золотарил в наших краях, а когда иностранцам запретили мыть рыжуху[2] и стали жестко преследовать, переключился на контрабанду. С весны до осени успевает сделать на лошадях по тайным тропам четыре ходки. Захаживает и к нам. Мы ему золотишко, кабарожью струю, пушнину, а он боеприпасы, мануфактуру, соль, сахар.
– Так чем тот китаец в нашем деле может помочь?
– Он как-то обмолвился, что еще к каким-то бородачам товар возит. Даже ворчал: «Да сто з такое! Как борода так „не мозно да не мозно“» – изобразил он торговца. – Сдается мне, что это он про наших одноверцев говорил. Ежели мое предположение подтвердится, отправлю к тебе.
Когда китаец с навьюченными товаром лошадьми явился в монастырь, Изосим сразу подступил к нему:
– Ван, ты как-то обмолвился, что еще к каким-то бородачам ходишь. Кто они?
– Бородачи как бородачи. Такие зе, как и вы, русские с веревочками.
– Можешь помочь с ними связь установить.
– Бумагу пиши. Передам.
В следующий визит Ван привез ответ. В нем сообщалось, что они беспоповцы и тоже испытывают нужду в невестах и женихах.
Изосим на следующий день с одним из трудников отправил китайца в скит к матери. (Ван, рассчитывая на новых покупателей, согласился без колебаний.)
Обрадованная Дарья ответным письмом пригласила тамошнего наставника с молодыми на смотрины, а Вану вручила длинный список потребных общине товаров.
На Преображение Господне китаец явился в скит со старообрядцами из неведомой Маньчжурии. Матвей, открывший ворота, попросил Вана подождать, а одноверцев повел в избу Дарьи. Та распорядилась призвать билом народ на меновую торговлю, а сама занялась гостями.
Уставщик, сероглазый, коренастый бородач лет пятидесяти, с темно-русой шевелюрой и такими большими ручищами, что, словно стесняясь, он то складывал их на груди, то прятал за спину. От всей его крепко скроенной фигуры веяло надежностью и спокойствием. С ним трое парней. Войдя, гости разом стянули картузы из своедельщины и низко поклонились. После чего, повернувшись к образам, сотворили молитву и перекрестились.
– Доброго здравия на многие лета, матушка! Иван Федорович Кулагин, – прогудел он. – А это наши женихи: мои сыновья Харитон, Назар, и соседский – Устин.
– Спаси Христос! Благодарствую, что столь споро откликнулись на приглашение!
– Так ведь и у нас интерес имеется.
Заметив, что Дарья с недоумением поглядывает на узкоглазого Устина, пояснил:
– Мать у него китаянка. Но она прошла переправу. Сам Устин крещен по Правилу, с троекратным полным погружением.
– Каков обличьем – не столь важно. Главное, чтоб в нашей вере был. Мне ближе крещеный китаец, чем некрещеный русский.
– Истину молвите, матушка. Примите от нас скромный, но пользительный для души дар – книги, своеручной работы[3]. Одна певческая, еще до Никоновой справы писана, а вторая святителя Епифана.
– Спаси Христос, Иван Федорович! Мы с книгами дружим. Сами знаете, сколь важны православному эти мудрые советчики. При усердии в них можно найти ответы на любые вопросы.
– То верно. Умная, добрая книга завсегда побуждает к размышлению, дает примеры благочестивой жизни.
– С дороги, поди, устали? – спохватилась Дарья.
– Есть чуток. Путь не близкий, да и тропы малохоженные.
– Паша, будь ласков, проводи гостей на серный источник.
– А далеко ль до него? – забеспокоился уставщик.
– Недалече. С полверсты, но очень советую. Не пожалеете. Бывает, так уломаешься за день, что ноги не держат, а окунешься – такая легкость и благодать, кажется, полетела бы как птица.
Через час посвежевших путников усадили за стол. За трапезой хозяйка полюбопытствовала:
– Иван Федорович, ну и как вам наш источник?
– Спаси Христос! И в самом деле, словно заново родился, – ответил тот, улыбнувшись.
– Рада, что удоволены… В Китай-то каким ветром общину занесло?
– Ежели начать с истоков, то предки наши с Речи Посполитой. Когда по указу Екатерины прошла вторая выгонка, осели в Забайкалье в Верхнеудинском округе. Пришли туда в 1764 году. То я достоверно знаю из исповедных росписей.
Жилось там вольготно и покойно, пока не понаехали переселенцы с Малороссии. Оне разврат принесли, ругань, ссоры. Мы, дабы оградиться от них и избежать самовыселения с насиженного места, составили на сходе приговоры о недопущении чужаков. Поспокойней стало. Но явилась другая беда: началась коллективизация и притеснение со стороны власти. Пришлось, хоть и горько было, оставлять дома и возделанные пашни. Всей общиной подались в Северный Китай – Маньчжурию.
Добрались без людских потерь, но волосы с той дороги у многих сделались белыя. Половина лошадей пала, оставшиеся выбились из тела. Два года терпели крайнее затруднение, особливо с провиантом.
– Чего ж вы на чужбину, на такие мучения ушли. Ведь и в Сибири потайных мест в достатке.
– Пытались. Две семьи с годик пожили было на Лене, да вертались – вельми хладный край сказали. А тем, кто в Маньчжурию разведать ходили, тамошний край глянулся. Говорили, красовитей места не найти: тепло, земля жирная.
Днесь не бедствуем, на ноги крепко встали. По первости тамошние семейские[4] нас порядочно поддержали, а позже – японцы разный инвентарь дали – в те годы оне в Маньчжурии властвовали. Имели задумку переселить со своих островов пять миллионов крестьян, а опыта возделывания непривычной для них маньчжурской землицы не было. Когда началась война, хотели забросить нас в Россию диверсантами, но мы отказались. Хоть и не любы Советы, идти супротив своих грех.
В сорок пятом встречали Красную Армию цветами, радовались и гордились – победили и германца, и японца. Радовались, пока не познакомились со СМЕРШем. Оне нам: «Кулаки, беглецы! Эва, как живут!» Арестовали пятерых. Незаконно-де границу перешли в тридцатых годах… С тех пор о них ни слуху, ни духу. Куды кто делся, не ведомо.
После того нас несколько лет нихто не трогал. Мы успокоились. Думали, поживем! Но в сорок девятом явилась напасть с другой стороны. В Китае к власти пришли коммунисты. Нам объявили: «Ваше проживание нежелательно, уезжайте». Кудыть уезжать? Баят, кудыть хотите. Хоть домой, хоть в Боливию, хоть в Бразилию, хоть в Парагвай – оне, мол, согласны принять. Каково русскому бородачу ехать в какой-то неведомый Парагвай?! Голову сломали – как быть?
Приезжали советские консулы. Агитировали вернуться на родину, осваивать целинные земли. Может, хто и соглашался, но мы на сходе решили: чиво это в Советы через стока лет вертаться – не для того бежали от колхозов. Не стали дожидаться, когда начнут насильно вывозить. Погрузили самое необходимое на телеги, и ушли в глубь Большого Хингана – горы такие. Семейские следом подались. Сичас оне на соседнем ключе живут. Там нас нихто не беспокоит. Отстроились. Охота и рыбалка кормят. Изюбра на панты бьем. Ишо наладились тигрят для богатого китайца ловить. Он за них стока платит, што ежели двух взять, то можно год безбедно жить.
– Поди, опасное дело?
– По первости всяко бывало. Опосля наловчились. Перво-наперво мать выстрелами от тигренка отгоним. А как собаки его в круг зажмут, тут не зевай – одеяло накидывай и лапы вяжи.
– Страх какой! – ужаснулась Дарья.
– Мы ж не взрослых. Тех не взять…
Иван Федорович, велика ли ваша община?
– На двадцать пять дымов сто шестьдесят семь душ.
– А кроме тигров какой еще зверь в вашем Хингане водится? – встрял свекор Дарьи – дед Елисей.
– Много хто. Зайцев и рябцов не считаю. Из крупного – изюбр, лось, пятнистый олень, горалы. Медведь, конечно. Даже красные волки заходют. Леопарды, сказывают, есть. Правда, мы не встречали. Боле всего кабанов. О! чуть не забыл – гималайский медведь имеется, его ишо древесным, за то што любит по деревьям лазать, величают. Его тоже хватает. Многочисленны еноты. Я их в паводок десятками на островах снимал. Потешные и жирные, будто бочонки. Само собой, всякое пушное зверье. Из редких – непальская куница – харза.
Во время вечернего богослужения «китайцы» порадовали хозяев проникновенным, слитным песнопением по крюковым знакам.
– Баско у вас получается, до самого сердца проняли, – похвалила Дарья.
– А нам отрадно, что служба у вас по чину, – отозвался Иван Федорович.
– Как исстари апостолами и Вселенскими соборами установлено, так и исповедуем. Не можем отступить от отеческих правил, – улыбнулась Дарья.
Изредка поглядывая на уставщика, она поймала себя на мысли, что он глянется ей и как мужчина. Видела, что и она ему нравится. (Женщины чувствуют и понимают такие вещи без слов.) Ей, конечно, было приятно, что в свои года сохранила привлекательность, но в то же время стыдилась и осуждала себя за бабий интерес к гостю. Даже невольно подумала: может, была слишком строга к Корнею? Жили-то душа в душу… От нахлынувших воспоминаний сердце защемило. Дарья вдруг поняла, что до сих пор любит мужа…
Елену, как она и предполагала, сосватал Харитон – сын уставщика. (На смотринах на нее только и глядел.) Любу, дочь Матвея, – чернявый племянник Устин. А вот Назар невесту по душе не нашел – ему тоже сразу глянулась Елена, но он не отважился соперничать со старшим братом. Расстроенный, не стал даже ни к кому присматриваться. Иван Федорович, видя, что Дарья озабочена, успокоил:
– Теперь дорогу знаем, не раз придем, ребята у нас еще есть.
После рукобития наставники обручили молодых по уставу.
«Аз тя посягаю жену мою Елену» – торжественно, не сводя восторженных глаз с избранницы, произнес Харитон. Она отвечала: – «Аз тя посягаю мужа раба Божьего Харитона». Так они повторили три раза. То же самое произнесли Устин с Любашей.
Дарья, с трудом сдерживая слезы, взяла икону и подошла к молодым: «Благословляю вас, чадо наши, ликом Господним на честный брак, телу на здравие, душам на спасение. Помните, там, где любовь, – там Бог, где совет – там свет, без совету, без любви в доме стены пусты». После этого Иван Федорович с чувством прочитал «Поучение новобрачным».
Молодухам заплели волосы в две косы и надели шашмуру – головной убор замужней женщины. А они повязали мужьям собственноручно тканные пояски. На Еленином было вышито «Люблю сердечно, дарю навечно».
По завершении обряда молодожены, трижды поклонившись родителям, пригласили всех к свадебному столу. Прочитав хором молитву, приступили к трапезе, во время которой гости по очереди вручали поклоны – подарки.
Первыми подошли Еленины дед с бабкой. Елисей вручил парням сшитые им самим поняги[5] из кожи, а Ольга, молвив молодухам: «Мужа ослушаться – Бога оскорбить», накинула каждой на плечи по вязаному платку. Подходили по старшинству, одаривая молодых, и все остальные.
Трапезничали поначалу безмолвно, но ядреная брага свое взяла. Потихоньку расшевелились, разговорились, запели песни. Матвей с супружницей Глафирой пустились в пляс. Да с таким задором, что и остальные присоединились. Захмелевшая Дарья тоже вышла в круг: пусть маньчжурцы знают, что варлаамовцы умеют веселиться. Молодые же сидели чинно, брагу не пили.
Гуляли, бражничали, похмелялись три дня. Прощание было грустным. Мать Любаши рыдала в голос. Да и Дарья из последних сил держалась. Лишь напоследок, уже у ворот всплакнула. Обняла молодых, смахнула слезу: «Свидимся ли когда, дитятко мое ненаглядное!? – и, обращаясь к зятю, добавила: – Береги, не обижай мою дочурку. Будешь холить, лелеять – будешь как сыр в масле кататься».
Иван Федорович был доволен: ему после брачной ночи доложили, что невесты непорочны.
С молодыми в маньчжурский скит отправились Паша и трое ребят из пещерников. Павел долго упирался, отговаривался – привык холостяковать, но мать настояла: невестка ей нужна была теперь до крайности. Выдав Елену, она осталась без помощницы. Свекровь уже не в счет: едва по дому ходит.
– Паша, ты там больно не привередничай. Главное чтобы добрая была да работящая. Гляди не лицо, гляди сердце. Красота ведь до венца, а ум и душа – до конца, – напутствовала она сына.
По дороге завернули в монастырь. Там и переночевали. Корней благословил дочь, а с сыном разговора не получилось – тот все время молчал, отвечал односложно: так и не смог простить обиды безотцовщины. Корней и не обижался. Понимал, как разрубленную веревку ни связывай, узел все равно остается.
Через месяц варлаамовцы вернулись в удвоенном составе. Дарья лишь только глянула на выбор сына, так и расцвела. До того пригожа была Катюша: милая, ласковая. А со временем убедилась, что и в делах она расторопна и умела.
Жизнь в скиту текла по незыблемому распорядку. Сотворив утреннюю молитву, каждый испрашивал у родителей, а при их отсутствии – у старших по возрасту благословение на предстоящие дела. Лишь после этого принимались за работу. День завершали вечерним правилом. Благодаря мудрости и душевному теплу Дарьи в общине царила атмосфера любви и взаимовыручки.
Что удивительно, несмотря на строгий распорядок и тяжелый труд, люди в этой глухомани не утратили тягу к красоте. Старались не только опрятно и со вкусом одеваться, но из года в год прихорашивали свои отстроенные после пожара жилища.
Окна обрамляли, каждый на свой лад, затейливыми наличниками со сквозной резьбой. Ставни расписывали узорчатыми росписями. Стены разрисовывали порхающими среди деревьев птицами, цветами, завитками и непременным единорогом – символом силы и свободы. Все это делало жилище похожим на цветущий райский сад.
Цветистым орнаментом покрывались не только стены, но и печи, матицы, двери, стулья. У иных узорочье было даже на прялках и посуде. Все это ласкало глаз, создавало праздничный настрой даже в хмурые осенне-зимние дни.
Хозяева, обновляя росписи стен (как снаружи избы, так и внутри), старались заполучить Капитона, самого искусного в этом деле.
Сряда[6], передаваемая по наследству из поколения в поколение, тоже всячески украшалась. При этом особый упор делался на вышивку, на ее яркость и разнообразие узора. Наряды бережно хранили и надевали лишь по великим праздникам. По мере необходимости подновляли, освежали. Но и к повседневной одежде относились крайне бережно. Кроили безостатковым способом, а самые лучшие ткани использовали лишь для видимых частей костюма: воротников и фартуков.
Рукоделию девочек обучали с малых лет. К семи годам они умели прясть и вышивать. К десяти-двенадцати, когда начинали готовить приданое, уже самостоятельно ткали в разной технике; кроили, шили простые фасоны. Небрежность резко осуждалась. Говорили – «худую», неумелую никто замуж не возьмет.
Мальчиков учили не только плотничать и столярничать, но и рыбачить, охотиться, валить лес, колоть дрова. А всех вместе – грамоте и Закону Божьему.
Обучение велось как в семье, так и в школе. Правда, после смерти наставника Григория она какое-то время бездействовала. Дарья, помня его слова: «Если в детстве не будем говорить с детьми о Боге, то в старости будем говорить с Богом о детях», решила возобновить занятия. Особенно необходимы они были для детей пещерников. Рассудив, что лучше Паши для этого никого не найти: начитанный и спокойный, убедила сына взять на себя заботу о школе.
Занятия Павел Корнеевич начал с изучения Ветхого Завета и Пятикнижья. В хорошую погоду проводил уроки прямо на свежем воздухе: на лужайке перед школой, на речке, в лесу. Прочитав очередную главу, растолковывал ребятам ее суть на примерах из жизни общины. Попутно ненавязчиво разъяснял смысл требований Устава, писанного старцем Варлаамом.
Затем учили наизусть три основные молитвы: «Отче наш», «Символ веры», «Богородице Дева радуйся». Зубрили так, чтобы помнить до смертного часа. Кому-то учение давалось легко. А с кем-то приходилось оставаться и заниматься дополнительно. Освоив Азбучку, переходили к чтению книг.
Ремеслам же обучали другие члены общины, каждый по своей части.
* * *
Хорошо это или плохо, но жизнь Создателем устроена так, что покой и благодать не длятся вечно. В 7463 году[7] (1957 году) лета практически не было. Каждый день дождь, холодный ветер. А в конце июня двое суток кряду валил снег. Погибло почти все звериное и птичье потомство. Выживших добила бескормица: не уродились ни ягоды, ни орехи, ни грибы. Холодное лето больше всех огорчало детвору – вода в Глухоманке была такой студеной, что ни разу не искупались.
Надежду на благополучную зимовку скитникам давала навяленная рыба. Ее, к счастью, в речке и озере не убавилось. Да и гусей во время линьки худо-бедно набить удалось. А вот набрать кедровых орехов и брусены, из-за неурожая, не получилось. Посему упор сделали на съедобные коренья. В общем, голод общине не грозил.
* * *
А вот обитатели монастыря от сюрпризов непогоды пострадали изрядно. У них за лето снег выпадал дважды. Первый, в июне, погубил всходы яровых и буквально припечатал к земле озимую рожь. Заодно мокрым снежным саваном переломало деревья. Второй, на Успение Пресвятой Богородицы, добил остатки того, что уцелело. Посему монастырским, чтобы посеять озимые[8] и оставить зерно на весеннюю страду, пришлось резко ограничить выпечку хлеба.
Все понимали, что следует подналечь на рыбалку и охоту. Иначе зиму не пережить. Мужики уходили в обедневшую тайгу на несколько дней, но возвращались чаще всего с пустыми руками.
У Корнея к тому времени культя зажила и он, смастерив протез, стал учиться ходить. Первая конструкция оказалась неудачной: протез то и дело съезжал, а при опоре на него культю пронзала острая боль. Пытаясь хоть как-то улучшить ее, поместил протез в глубокую кожаную гильзу, плотно облегающую обрубок. Два поперечных ремня надежно фиксировали ее и обеспечивали равномерное распределение нагрузки при ходьбе.
Первое время Корней прогуливался лишь по территории монастыря. Когда кожа достаточно огрубела, стал выходить за ворота, где собирал дикоросы, а пообвыкшись, и в тайгу на охоту. При этом был единственным, кто почти всегда возвращался с добычей.
Старший сын Корнея – Изосим, он же настоятель монастыря отец Андриан, обиды на батю за то, что тот ушел из семьи, не поминал и вел себя по отношению к нему уважительно.
За время, пока заживала культя, Корней стал завсегдатаем монастырской библиотеки. В ней нашлось и несколько книг по географии. Больше всего нравилось ему разглядывать карты в большом, увесистом фолианте «Атласъ Российской империи». Часами рассматривая хребты, затейливые нити рек и речушек, он вживую представлял эту местность.
Чаще всего раскрывал разворот, на котором были изображены река Лена и впадающий в нее Алдан. (Кружочек, обозначающий город Алдан[9], на его извилистой ниточке почему-то отсутствовал.) Определив по характерной излучине место впадения Глухоманки, Корней отправлялся в мысленное путешествие по загогулинам русла, то приближаясь, то отдаляясь от Верхоянского хребта, до голубого поля с надписью «Северный океанъ».
Когда он первый раз прочитал ее, ему представилось громадное, бескрайнее озеро. Особенно потрясла Корнея его глубина. Судя по надписям на карте, она в некоторых местах превышала две тысячи метров. «Сколько же лет реки заполняли эту ямину? Пожалуй, не одну тысячу», – удивлялся он.
Корней так полюбил странствия по картам, что мог просидеть над ними несколько часов кряду.
Эти воображаемые путешествия распаляли его фантазию. Неведомые горы и прихотливые извивы рек представали перед его мысленным взором так четко, что он «видел» их в мельчайших деталях.
Некая юла, сидящая в нем, набирая обороты, пробуждала желание отправиться-таки к загадочному Студеному морю, известному ему с детства из сказок эвенкийской бабушки.
Прознав, что один из монастырских трудников много раз хаживал с экспедициями по Крайнему Северу, Корней зазвал его к себе.
Долговязый, сутуловатый бородач с умными серыми глазами в свои сорок с небольшим исходил весь Север и мог рассказывать о нем бесконечно. Наверное, поэтому монастырские звали его Географом. Как позже выяснилось, тот и в самом деле был учителем географии. Окончив Ленинградский университет, он девять лет преподавал в школе.
– Николай Александрович, как же вас занесло на Крайний Север?
– Так я, Корней Елисеевич, там и родился. Дед мой из ссыльнопоселенцев. Еще при Александре III протопал по этапу из Тульской губернии до Усть-Янска. Бабушка поехала за ним. Пока отбывали срок, обжились, детей нарожали. Так и остались. Это ведь только для заезжих Север промороженная, закованная во льды и обделенная светом окраина. Они и представить себе не могут, какое буйство жизни у нас летом! А как красиво небо, расцвеченное северным сиянием. Те, кому выпадает счастье видеть все это, пленяются Севером навсегда.
– Я, конечно, ничего этого не видел, но меня почему-то с детства тянет в те края. Крайне любопытно побывать там, где прошли первооткрыватели этих земель и морей.
– Это ж здорово! Корней Елисеевич, вы не пожалеете! Поверьте, в нашей стране не так уж много мест, принявших стольких прославленных путешественников, как мой Усть-Янск, – обрадовался Географ. – Представьте себе, еще в 1637 году енисейский десятник Елисей Буза первым спустился по Лене и вышел в Ледовитый океан с отрядом в 50 человек. На следующий год он же с сотоварищами на не боящихся льдов круглобрюхих кочах[10] достиг устья Яны. Тогда же боярский сын Иван Ребров прошел пролив Дмитрия Лаптева и зашел в устье Индигирки.
– На карте есть море Лаптевых. Это в его честь?
– Разумеется, в честь него и брата Харитона[11]. А устье Колымы морем первым в 1643 году достиг казачий атаман Михаил Стадухин. Общая протяженность открытых и описанных им берегов составила 1500 километров.
Арктический мореход Семен Дежнев, выйдя из Нижнеколымского острога в 1648 году на кочах (три из них в шторм разбило), совершил выдающееся географическое открытие – доказал, что Азия не смыкается, как до того полагали, с Северной Америкой. Обогнув Чукотский нос, он первым прошел на лодке вверх по реке Анадырь, где построил острог. В Усть-Янске с научными целями побывали капитан-командор Семен Лаптев, мичман Федор Матюшкин. Позже Колымская экспедиция Фердинанда Врангеля описала побережье от Индигирки до Берингова пролива, который, вообще-то, справедливей было бы называть проливом Семена Дежнева, ибо проход из Ледовитого океана в Тихий пройден и описан им на 80 лет раньше обрусевшего датчанина.
– Вот это ничего себе! А я только про Дежнева и Врангеля читал.
– Что вы! На моей родине работали еще такие известные исследователи, как барон Толь, боцман Бегичев, геолог Волосович, ученый Миддендорф. А экспедиция друга Врангеля – лейтенанта Петра Анжу так и называлась «Усть-Янской». Описывая берег между Оленеком и Индигиркой, он прошел на собаках тысячи километров.
Наш Усть-Янск в те времена был известен от Таймыра до Чукотки. Я бы назвал его «форпостом лейтенантов». Поглядите, чьи подписи стоят под знаменитой генеральной картой Сибири, составленной по описям Великой Сибирской экспедиции: лейтенанты Харитон Лаптев, Дмитрий Овцын, Сафрон Хитров, Иван Елагин; капитаны флота Степан Малыгин, Дмитрий Лаптев. Со временем почти все они стали адмиралами.
– Я читал, что священники, проповедуя слово Божие, к первой четверти XIX века завершили христианизацию малых народов Севера. При этом они выступали не только проводниками православия и русской культуры, но и обучали грамоте местное население.
До увлеченных беседой приятелей донесся звук била, призывающий к обедне.
– Николай Александрович, слушать вас интересно, но негоже опаздывать. Предлагаю встретиться еще раз после службы.
Корней встал и, приглаживая густо засеянную седыми нитями бороду, добавил:
– Для меня важно все, что касается Севера. Особливо про ранешные времена.
– Так я с удовольствием поделюсь всем, что знаю. Карту для наглядности принесу… Корней Елисеевич, просьба есть. Если не затруднит, зовите меня просто Николаем и Географом. Мне так привычней.
– Договорились.
Вечером Николай продолжил свой эмоциональный рассказ:
– На мой взгляд, вся эта лейтенантско-сибирская экспедиция, продолжавшаяся десять лет, с 1733 по 1743 год, – воистину Великая, я бы даже сказал – героическая! Поражает невероятная преданность делу и Отечеству! Ведь ни один народ, ни одно государство в те годы не пыталось, да, по-моему, и не смогло бы предпринять такого. Это как раз то, что называется русским размахом… Возьмем, для примера, только август-октябрь 1740 года.
Представьте Север того времени. На крайнем востоке страны, в Авачинской бухте, на Камчатке, отдают якоря пакетботы «Святой Павел» и «Святой Петр», прибывшие из Охотска под командой Беринга и Чирикова. В те же дни команда бота «Иркутск», на капитанском мостике которого стоит Дмитрий Лаптев, отважно пробивается сквозь льды вблизи устья Колымы, стремясь к неведомым землям Чукотки. А возле восточного берега Таймыра, сплющенный торосами, идет ко дну бот «Якутск». Его экипаж, по решению Харитона Лаптева, направляется по льдам к пустынному берегу полуострова Таймыр и посуху обследует, описывает его. Тщательность и точность, с какой выполнены эти работы, поразительна. Еще более поразительно мужество этих людей: ведь они испытывали нехватку практически во всем.
– Я вам сейчас покажу маршруты этих экспедиций. – Возбужденный Николай развернул на столе вычерченную от руки карту. – Вот смотрите…
– Погоди, погоди – темновато, – остановил его Корней. Пересев к печке, он нащипал ножом, сделанным из старой косы, лучины. Запалил сначала одну, потом, для лучшего света, вторую.
– Вот теперь получше. И что там у нас?
– Смотрите, здесь нанесены все маршруты. Штрихами – первопроходцев, а те, что мы прошли, – точками. Я ведь тоже изрядно помотался по Северу. Если сложить все вместе, то поболее кругосветки получится. Вот отсюда досюда прошел в 1940-м с Ленинградской экспедицией. И тут был, и тут, – с гордостью показывал он.
– Я тоже немало походил по лесам и горам, но мне с тобой не сравняться.
– Вам будет чудно, но в Заполярье леса в обычном понимании нет.
– А что там, трава, что ль?
– В основном карликовые березки и ползучие ивы. А вот цветов море. Когда все они зацветают… красота неописуемая! Глаз не отвести. Горы есть, но пониже ваших и по большей части лысые. А вот озер и болот без счета. В них, правда, не утонешь – вечная мерзлота.
С того дня их вечерние посиделки стали регулярными. Николай приходил к Корнею, как только управлялся с заданиями благочинного[12].
За чаем он подробно рассказывал все, что знал о Севере. Корней внимательно слушал. Если что-то было непонятно, переспрашивал. Оставшись один, записывал в тетрадь самое важное. В том, что судьба свела его с таким знатоком Заполярья, он видел Божий промысел.
Эти встречи-беседы окончательно лишили скитника покоя. Север все сильнее манил его. Никакие доводы разума уже не могли заглушить его желания идти туда, куда звала мечта, рожденная в детстве бабушкиными сказками: ведь ни одна из них не обходилась без упоминания о Студеном море. Корней и не противился этому зову. Эта мечта-желание настолько завладела им, что, ложась спать, он непременно мысленно проходил весь путь от монастыря до океана. А случалось, просыпался ночью от нахлынувших сновидений воображаемой дороги и подолгу лежал, заново переживая сон.
Корнею хотелось обсудить с сыном свое намерение отправиться на Север, но все робел: как-никак настоятель монастыря. Наконец набрался смелости и, выждав момент, когда тот отдыхал в своей келье, постучался. Изосим отворил сразу, словно ждал его. Это успокоило Корнея, и он заговорил без стеснения:
– Сынок, – тут он запнулся, – отец Андриан, пришел посоветоваться.
– Слушаю внимательно.
– Ничего не могу с собой поделать. Старая маета одолевать стала – потянуло в дорогу.
Изосим вопросительно глянул:
– И куда теперь?
– На этот раз туда, где кончается земля. Хочется увидеть океан и побывать в тех краях, где пол-лета – день, ползимы – ночь. Представь, там даже медведи белые! Что присоветуешь?
Сын смотрел на отца и думал: «Неугомон! Как был бродягой, так им и остался. Такого в четырех стенах не удержать», а вслух произнес:
– Ведал, что маешься, ждал, когда сам придешь. У Создателя на каждого из нас свой замысел. Коли Он тебя на край Земли призывает – стало быть, это для чего-то надобно… Благословляю!
Андриан перекрестил двоеперстно отца.
– Когда мыслишь отправиться?
– По весне, как земля подсохнет.
Хотя Изосим знал, что раньше июля отец не выйдет, поправлять не стал:
– Время подходящее. Одно тревожит – как на культе в такую даль?
– Ты же сам в проповеди о святом Луке говорил, что главный враг человека – страх. Что для успеха задуманного надобно не страшиться и, уповая на Бога, действовать. А уж Он подскажет и поможет.
– Я и не отрицаю того, но беспокоюсь – путь-то не близкий.
– Нога не подведет. Протез хорошо подогнал, сидит, как влитой. Да и кожа загрубела, не так чувствительна. Главное выйти к Алдану. Дальше мыслю на пароходе.
Тут Корней развернул тщательно скопированную из атласа карту:
– Ежели Господь позволит, хочу достичь вот этого пролива. Берингов называется. За ним Русская Америка. Аляской называется. Знаешь, кто такой Беринг и почему пролив назван его именем?
И Корней с жаром принялся рассказывать про экспедицию командора, которая благодаря мужеству и таланту капитан-лейтенанта Чирикова совершила массу географических открытий.
– С маршрутом все понятно, а как с родительским благословением? Без него пути не будет. В поучении Ивана Златоуста прямо сказано: «Родителя ослушаться – Бога оскорбить».
– За то сильно опасаюсь… Отец ведь так и не простил.
– Сходи, покайся, глядишь, смягчится… Заодно проверишь, как нога себя поведет. В гостинец муки прихвати – у них, поди, давно кончилась. Марфе скажу, чтоб отсыпала.
Выйдя из кельи, окрыленный Корней немедля направился к Географу. Не терпелось поделиться радостью, что настоятель поддержал его намерение достичь не только океана, но и Берингова пролива.
– Корней Елисеевич, если вы не против, я бы тоже с вами пошел.
– А чего мне противиться? Вдвоем-то сподручней. Тем паче места те знаешь, да и к бивачной жизни навычный. Только прежде чем идти, мне непременно родительское благословение получить следует. Без него никак.
Не любивший долгой раскачки Корней отправился в скит, едва стали гаснуть звезды. В лесу стояла обычная предрассветная тишина, но стоило взошедшему светилу позолотить морщинистую кору сосен и выбелить стволы берез, лес ожил: защебетали, запорхали разнокалиберные птахи, забегали зверушки.
В горельнике, в просвет между подрастающими елочками мелькнул круп убегающего сохатого.
– Ишь ты, белоштанник! Испугался?! – улыбнулся Корней.
Где-то в стороне неуверенно попробовала голос кукушка и смолкла, прокуковав двенадцать раз.
– Что-то маловато ты мне отсчитала, – продолжал посмеиваться скитник.
«Пристыженная» птица вскоре возобновила счет и вещала свои пророчества до тех пор, пока Корней не сбился со счета. В растущих вдоль тропы зарослях шиповника он разглядел каким-то чудом сохранившиеся ягоды. Сняв со спины понягу, прислонил ее к стволу кедра и, отцепив притороченный котелок, стал собирать их для матери. Ягод было немного и, переходя от куста к кусту, он быстро удалялся от тропы.
Неожиданно оттуда донесся короткий рык. Привстав, скитник увидел, что метрах в пяти-шести от поняги стоит небольшой, видимо, прошлогоднего помета, медведь. Обнаружив незнакомую штуковину, он внимательно и смешно рассматривал ее издали.
«Что это такое? Оно опасное? Можно ли это съесть?» – читалось в его позе.
Зверь, крадучись делал к поняге шажок и замирал, вслушиваясь и всматриваясь, как оно отреагирует на его приближение. Не дойдя пару метров, остановился, переминаясь с ноги на ногу. Решив, что оно спит, стал фыркать и ударять перед собой передними лапами. Однако «незнакомец» не реагировал.
Корней с улыбкой наблюдал за «храбрецом».
Наконец, тот, подойдя почти вплотную, как можно сильней отклонившись назад – мало ли чего! вытянул вперед лапу и попробовал прикоснуться самыми кончиками когтей. Едва успев дотронуться, резко отдернул ее – будто обжегся. Помедлив, решил повторить свой храбрый поступок. В этот раз коснулся чуть смелее – поняга шевельнулась! Медведь тут же отпрянул. А успокоившись, вновь решил подойти, но уже с другой стороны. Убедившись, что оно не опасно, пестун принялся обнюхивать, дотрагиваясь уже носом.
Корней, поняв, что пора спасать понягу, застучал ножом по котелку.
Перепуганный зверь, зауффкав, бросился наутек. Отбежав немного, обернулся и посмотрел с обидой – «Эх! такую добычу пришлось оставить!»
Набрав почти полный котелок ягод, скитник продолжил путь. Метров через триста увидел медведицу с двумя медвежатами и тем самым любознательным пестуном. Вокруг них чернели свежие покопки. Косолапые старательно выкапывали корни борщевика и, отряхнув от земли, аппетитно причмокивая, ели их. Корней осторожно обошел семейку.
* * *
Чем ближе Кедровая Падь, тем сильней тревога: как примет отец?
Вот и скит. Из некоторых печных труб, видневшихся над заплотом, струился дымок. Корней жадно вдыхал знакомые, только этому месту присущие запахи.
Постаревший, белый как полярная сова, Елисей встретил неприветливо. Набычившись, недобро зыркнул глазами из-под кустистых бровей:
– Чо пожаловал?
Погрузневшая мать, держа в руках принесенный сыном котелок с шиповником и ковригу хлеба, запричитала:
– Чего уж ты, отец! Аль не сын? Поговори нормально.
– Ну, слушаю, – досадливо поморщился тот, насупив брови.
– Тятя, пришел вымолить твое прощение, – видя, что отец смотрит по-прежнему неприязненно, взмолился: – не гневайся, прости Христа ради. Затмение тогда нашло, бес попутал, – в голосе Корнея прозвучала такая непостижимая боль, что взгляд отца помягчел. – Наказан я сполна – вот и ногу потерял, – задрал штанину сын.
Увидев протез, Елисей обомлел, а мать завыла в голос.
– Прости, тятя! Прости! Прости Христа ради, – твердил Корней, с мольбой глядя на отца.
Старик торопливо смахнул непроизвольно выкатившуюся слезу и, прикрыв рот ладонью, прокашлялся:
– Я что? Я не судья. Главное, чтоб Господь простил… Может, и я где-то оплошку дал, – и, повернувшись к супруге, уже твердо произнес: – полно, мать, мокроту разводить, на стол мечи. А ты садись, – указал он Корнею на лавку.
Заметив, что тот не решается, добавил:
– Чо мнешься? С дороги, поди, голодный.
Узнав о намерении Корнея, Елисей преобразился и даже посветлел лицом:
– Я ведь тоже когда-то имел охоту до Студеного моря сходить, да не сложилось… Коли душа просит, благословляю… Токо впопыхах такие дела не делаются. Все загодя надобно обдумать, подготовить… Не знаю, дотяну ли до твоего возвращения. Изломался… и сердце что-то по утрам замирать стало, а потом как зачастит, будто вдогонку пускается. Похоже, подходит мое время землицу удобрить.
Елисей, шаркая, подошел к божнице и снял с полки литую иконку Николая Чудотворца. Глядя сыну в глаза, промолвил:
– Это наша родовая икона. Перешла ко мне от твоего любимого деда Никодима, а ему от основателя общины – Варлаама. Во всех мытарствах сопровождала, беду и напасть не раз отводила. Даст Бог, и тебя в пути оборонит.
– Спаси Христос, тятя!
Корней благоговейно приложился к иконке.
– В дороге, сынок, всяко может случиться. Как бы тяжко ни было, не паникуй. Запаникуешь – пропадешь. Паника вреднейший враг. Не давай ей овладеть тобой. Тогда и Господь не оставит… Токмо греха страшись…
Перекрестив, Елисей вручил иконку сыну.
– Растроганный Корней приложился к лику покровителя путешествующих, поклонился отцу в пояс, и попытался было что-то сказать, но горло сдавил судорожный комок…
Елисей же тихо радовался: так вот как Господь решил исполнить его юношескую мечту о хождении на Студеное море!
Ближе к вечеру вернулись с Глухоманки Дарья с Пашей и невесткой Катей. Они собирали уродившуюся на мари у Завала клюкву. Хоть и обрызнуло волосы у Дарьи сединой, и фигура несколько оплыла, но стан по-прежнему прямой, и лицо своей былой красоты не утратило.
Молодые, молча поклонившись, сразу удалились в свою каморку, а Дарья не знала, как себя вести. Корней тоже растерялся. Так и стояли молча.
– Дарья, пошто заморозилась? Чай твой муж, – нарушил заминку Елисей, – вот пришел благословение испросить на путь к Студеному морю.
– Куда?? – переспросила пораженная Дарья.
– Чо раскудахталась? Сказал же – к Студеному морю.
– Ну и как? Что порешили?
– Благословил… Простил я его.
Узнав, что Корней обезножел, Дарья в порыве сочувствия, неожиданно для себя, забыв обиды, обняла мужа.
Корней, вдыхая запах ее волос, замер, не веря своему счастью. Так они и стояли, глядя друг на друга сквозь пелену навернувшихся слез, как когда-то… в прошлой, такой счастливой и такой далекой жизни. Во взгляде Дарьи читались то бессловесный укор, то непонимание, то восхищение.
– Боже мой! Ты так и не изменился, – прошептала она, – все такой же шальной, волк-одиночка.
– Понимаешь, океан так манит, что порой дрожу от нетерпения – быстрей бы отправиться. Даже дышать стал по-другому.
– А сдюжишь?
– До вас же дошел, и до Алдан-реки, с Божьей помощью, дойду. А дале на пароходе мыслю. И не один иду, с товарищем. Он Север хорошо знает – родом с тех краев.
– Дивлюсь я на тебя.
Тут она едва сдержалась, чтобы не сказать ласково «Горе ты мое луковое».
– Родители с тобой живут как у Христа за пазухой. Отец вон какой бравый.
– Это он на людях бодрится. На самом деле болезный. Иной раз бывает так плох, что ляжет и задыхается, словно рыба на берегу. Давеча Катя едва откачала – чуть не задохся.
– Да уж, тятя жалобиться не любит… Пластина-то, гляжу, теперь в нашем доме стоит. Картинки смотрите?
– Какое! Она уж с год как не кажет.
– А Ларь как? На месте?
– С ним все в порядке. Паша с пещерниками приглядывают.
Утром, перед тем как выйти из избы, Корней постоял у порога, оглядывая отчий дом так, словно хотел запечатлеть в памяти все до мельчайших деталей. После чего решительно распахнул дверь – впереди его ждала полная приключений и испытаний дорога.
У скитских ворот Елисей еще раз перекрестил сына двумя перстами и добавил к лежащим в поняге трем вяленым гусям мешочек отборных кедровых ядрышек – полночи чистил. Прощались молча, соединяя усы и бороды в трехкратном поцелуе.
Дарья, прижавшись напоследок, прошептала:
– Буду каждодневно молить Господа за тебя.
Отходя, Корней несколько раз оборачивался и, щурясь от солнца, поглядывал на сутулого отца, грузную мать и ладную Дарью.
В монастырь он не шел, а почти летел по нахоженной за четверть века тропе, с наслаждением вдыхая пьянящие запахи хвои и смолы. Еще бы, такая радость – тятя и Дарья не только простили его, но и были приветливы, порой даже ласковы. Еще вдохновляло то, как легко он осилил полсотни верст, отделяющие скит от монастыря.
А вот к Алдану тропы не будет, разве что зверовая. Там завалы и буреломы, да и расстояние поболее верст на двадцать. Но в душе крепла уверенность, что и этот переход он одолеет.
Тайга, прогретая полуденным солнцем и погруженная в сладостную летнюю истому, была до того красива, что душу наполнила редкая благодать. Сердце Корнея переполняло желание поблагодарить Создателя, что он так замечательно все устроил. Осеняя себя крестным знамением, он принялся громко читать все известные ему благодарственные молитвы. После чего лег на до хруста высохший ягель и, раскинув руки, вслушивался в тишину.
Скитник безошибочно различал голоса деревьев: глухо шумел, вздыхая, старик кедр, пугливо звенела, дрожа от малейшего ветерка, осина; весело лопотала, словно радуясь ему, береза.
Сколько он так лежал, ласкаемый солнцем и шаловливым ветерком? Сколько прошло времени? И есть ли оно? Все это было не важно. Важно было то, что он чувствовал себя абсолютно счастливым!
* * *
Подготовив за зиму все необходимое для дальней дороги, а требовалось учесть массу мелочей, без которых в пути не обойтись, Корней с Николаем не чаяли, когда сойдет снег, подсохнет и можно будет отправиться в путь.
Весна не подвела – грянула дружно и стремительно, но не успела скатиться талая вода, зарядили обложные дожди. Потянулось мучительное ожидание погоды. Друзья каждое утро с надеждой взирали на небо, однако хмарь не собиралась отступать. Невзирая на непогоду, на соснах затопорщились розовые свечечки будущих шишек.
В конце второй седмицы июня ранним утром в келью Корнея зашел взволнованный Изосим.
– Тятя, собирайся! Чую, деда уходит.
До Корнея не сразу дошел смысл леденящих сердце слов.
– Куда это он на старости собрался? – а поняв, вскочил: – Так идем. Я готов.
Он не стал спрашивать, откуда сыну ведомо это – знал, что тот многое предчувствует. Через полчаса они были в пути. Хотя отправились налегке, идти споро не получалось. Тропа от дождей раскисла, и ноги на ней разъезжались. Корней, чтобы не упасть, вырубил себе посох. Изосим, жалея отца, весь груз нес сам.
Сильно задерживали ручьи, превратившиеся в клокочущие, пенные потоки. Если прежде их можно было просто перешагнуть, теперь приходилось одолевать вброд – до того много в них стало воды. Шли без остановки весь день и всю ночь. Утром, мокрые и грязные, вошли в скит. Дарья во дворе кормила собаку. Поцеловав сына и приобняв мужа, вполголоса произнесла:
– Отцу лихо. Не встает, второй день от еды отказывается, только водичку пьет. Вчера уж исповедовался и попросил причастия. Собиралась сегодня Пашу за вами послать, а вы, слава Богу, сами явились.
Возле кровати, на которой лежал исхудавший, с безжизненно застывшим лицом и заострившимся носом Елисей, сидела, поглаживая высохшую, перевитую венами, руку мужа, Ольга.
Услышав скрип половиц, старик приоткрыл глаза:
– Корней… вот радость! Не чаял увидеть, – с трудом пролепетал он, – думал, ты уж в пути, – и, переведя взгляд на Изосима, добавил: – а я, дурень, опасался, что не почуешь. Ан не утратил прозорливости. – Силясь что-то еще сказать, он весь напрягся, однако вместо слов зашелся сухим кашлем. Переведя дух, тихо, но в этот раз внятно, продолжил с трогательным спокойствием: – Приходит пора, и лист с дерева опадает… Вот и мой час настал… Одолела-таки немочь… Сердце чуть токает.
Приступ кашля не дал договорить. Отдышавшись, он напрягся, словно пытался что-то важное вспомнить. Наконец, видимо поймав ускользающую мысль, произнес:
– Сынок, ты уж нашу мечту и за меня исполни…
Создатель за добродетельно прожитую жизнь пожаловал Елисею Никодимовичу кончину легкую, безболезненную. Преставился он до того тихо и незаметно, что не сразу поняли – думали, спит.
Обмыв и облачив умершего в длинную белую рубаху с колпаком, уложили в выдолбленную им же из цельной лесины домовину. В руки вложили лестовку[13].
Лицо почившего все более просветлялось, казалось, даже слегка порозовело. Морщины и скорбные складки разгладились, проступила печать умиротворения. Он был красив в своем смирении и ожидании скорой встречи с Богом.
Во время отпевания Корней не сводил глаз с отца. Слезы текли по щекам и терялись в бороде. Он испытывал горькую сладость не только от того, что успел получить прощение и благословение, а еще оттого, что благодаря непогоде, устроенной по воле Господа, он задержался с выходом и сумел проводить отца в последний путь.
На следующий день одни мужики пошли на погост копать могилу, другие принялись готовить материал на могильный сруб и крест…
Хоронили всей общиной без плакальщиц, в благоговейном молчании. Торжественное спокойствие и достоинство хранили даже лица детей. Домовину несли шестеро не сродников до самого кладбища…
Мать после похорон слегла: не могла представлять себе жизнь без мужа, с которым в любви и согласии прожила пятьдесят девять лет. Глядя на лик Христа, она без конца молила:
– Господь, сжалься! Прошу Тебя лишь об одной милости – даруй мне смерть для воссоединения с мужем, рабом Твоим, Елисеем.
Изосим не мог надолго покидать монастырь. Отслужив на девятый день молебен, ушел. Корней остался. Он часами сидел рядом с матерью и, чтобы хоть как-то отвлечь ее от горестных дум, в подробностях рассказывал истории из того времени, когда он жил в стойбище ее отца.
Мать слушала, приложив ладошку к уху, то удивленно ахая, то – одобрительно кивая головой. Порой и сама принималась вспоминать случаи из своего детства.
В один из вечеров она взяла Корнея за руку и, глядя в глаза, принялась с дрожью в голосе говорить:
– Сынок, твой Север с головы не идет. Всякая жуть мерещится… Уж иней сел на волосы, а ты в такую даль собрался. Ну что вы с отцом в том окиане потеряли?
– Так ведь это твоя мама посеяла в моей душе тягу к Северу. Все ее сказки Студеным морем заканчивались.
– Сказки, они и есть сказки. Это ж не в стойбище сходить. Вспомни дядю Бюэна, на что опытный, а не доглядел – в полынье утоп. Да и сам ты, хоть и много хаживал, а вот ногу потерял… Еще о вас с Дарьей думаю. Она, гляжу, вроде оттаяла, может еще и наладится. Ей, что думаешь, легко одной?… Оставайся! Очень прошу!
И такая боль прозвучала в голосе матери, что у Корнея защемило в груди. Собираясь с мыслями, он откинул со лба тронутые сединой волосы:
– Матушка, как тебе объяснить… Хорошо в скиту. Рад, что привечаете. Но если останусь, все одно усидеть не смогу. У меня уже все мысли ТАМ. Ни о чем ином думать не могу. Пойми – если останусь, всю жизнь корить себя буду – почему не пошел?! Поверь, это не каприз, а обдуманное решение. Ты не тревожься, не один иду, а с бывалым товарищем. Он родом из тех мест.
Мать, прикрыв глаза, долго молчала. По ее щекам тихонько текли слезы. Вытащив из-под подушки платочек, вытерла их и высморкалась.
– Ну что ж, сынок, коли твердо решил, твоя воля, – наконец вымолвила она… – Видимо, моя эвенкийская кочевая кровь тебе покоя не дает… Спаси Христос, что побыл со мной, а то ведь и жить не хотелось. Сейчас, чувствую, силенки возвращаются. Пора вставать, хозяйством заниматься. Да и Катеньке скоро помощь нужна будет. Видел, поди – на сносях девочка.
– Вот это да! А я и не заметил, – удивился Корней.
– Смотрю на нее и не нарадуюсь – повезло Паше. Такая она проворная и внимательная. Дай Бог ей здоровья… За меня не тревожься. Спокойно иди. Исполняй свое и отцово мечтание.
– Спаси Христос, матушка! Знал, что поймешь.
– Корнюша, об одном прошу: каких бы людей в дороге не встретил, худа никому не желай. Худые мысли по миру погуляют и к тебе же возвернутся.
– Не переживай, матушка. Я это давно понял. Не юнец ведь – скоро, сама говоришь, дедом стану. Жаль только, что с Пашей у нас пока никак не наладится.
– А что ты хочешь? Вырос без тебя. Вас ничто кроме крови не связывает. Добавь сюда еще и обиду – все росли с отцами, а он без, при живом-то. Ежели хочешь наладить отношения, тебе с нами семьей надо жить, а ты опять неведомо куда собрался.
– Матушка, мы же с тобой все обговорили. Ну не могу я остаться. Давай не будем об этом больше.
Когда Корней возвратился в монастырь, томил июль. От жаркого солнца в воздухе стоял дурманящий запах багульника и едва уловимый пересохших до хруста мхов. Разыскал Географа.
– Николай, предлагаю завтра все еще раз проверить, получить продукты, а послезавтра в путь.
На следующий день, когда друзья паковали поняги, от ворот донесся громкий голос Вана:
– Люди, ходи! Товар привез! Люди, ходи! Товар привез!
У ворот стояли навьюченные лошади и китаец с вежливой, приятной улыбкой на лице.
Расплатившись с торговцем за доставленный товар, Изосим провел Вана в трапезную и попросил Марфу накормить его. Та поставила перед ним еду в гостевой посуде и, сев напротив, тут же принялась расспрашивать:
– Как там наши? Прибавление у кого есть?
– Прибавление есть, да ваших уже нет.
– Как так – нет? – Марфа аж подпрыгнула.
– Все на пароходе уплыли.
– А что случилось? Они ведь обустроились, хорошо жили, – удивился Изосим.
– Китай новый закон: русский старовер не надо.
– Куда уплыли, знаешь?
– Америку.
– Плохая новость. Ну а у тебя самого как дела?
– Моя плохо. На границе чуть не пропал. Назад ходи. Новый дорога искал. Не знай, как дальше ходи. Трудно.
– Ван, ты уж нас не бросай. Мы ведь всегда хорошо платим.
– Платите хорошо. Граница плохо ходить стало. Прибавка надо.
– Не переживай. Не обидим.
Попрощавшись, настоятель вышел. Пробыв у себя в келье с полчаса, направился к отцу.
– Тятя, тебя на Чукотку неспроста потянуло. Ван новость принес – маньчжурцы-то, оказывается, в Америку уплыли. Чую, где-то на Аляске строятся.
* * *
Провожать Корнея с Географом вышли почти все обитатели монастыря. Давали советы, желали удачи. Больше всего переживали за Корнея. Пухлая, предобрая тетка Марфа, беспрестанно всплескивая руками, причитала:
– Корней, да пошто ж ты себя на такие муки обрекаешь? Опамятуйся, пока не поздно! Далеко ль на одной ускачешь? Оголодаете, замрете!
Тот отшучивался:
– Мне на роду написано бродяжничать. Дарья так и говорит «бродячий волк».
– Знамо дело, Дарья зря не скажет.
– Ему, бедошнику, делать больше нечего, вот и изгиляется, – проворчал постаревший Дубов.
Корней подошел к Тинькову и крепко обнял.
– Николай Игнатьевич, не устаю в молитвах благодарить тебя. Если б ты не оттяпал мне полноги, давно б землю удобрял.
– Честно говоря, сам радуюсь, что так удачно вышло.
Из ворот к отбывающим вышел отец Андриан. Путники поклонились настоятелю в пояс:
– Отче, благословите.
– Братья, дело вы затеяли многотрудное. В дороге у разных людей придется бывать, с ними пищу делить, вместе спать. Посему, при каждом таком случае, читайте очистительную молитву. А вот постами себя не изнуряйте – дорога дальняя, тяжелая, позволительно и послабу дать.
Коли одноверцев встретите – всенепременно контакт наладьте. Свежая кровь нам вельми потребна. Может и не полные одноверцы, главное, чтобы почитали Святую Троицу, Символ Веры и крещены, как и Исус, тремя полными погружениями, – напутствовал настоятель. – На грубое слово не сердитесь, на сладкое – не поддавайтесь. В пути молитесь. Господь не оставит.
Андриан трижды осенил их благословляющим крестом. Странники, с почтением приложившись к его руке, закинули за спину увесистые поняги и, не оглядываясь, зашагали мимо уже тронутого желтизной поля пшеницы к перевальной седловине.
– Чистой дороги! Никола в путь! Будьте Богом хранимы! – неслось вдогонку.
Корней шел, поскрипывая ремнями протеза, со счастливой улыбкой на устах. Еще бы – наконец он в пути! И сразу глубже стало дыхание, пробудились, налились силой мускулы. А от пьянящих ароматов, разопревших на солнцепеке цветов и трав (скитник по привычке на ходу срывал целебные), от смолистого духа кедрового стланика, от предвкушения встречи с новыми, неизвестными ранее местами, а особенно – с Океаном – сердце переполняла такая неохватная радость, что ему так и хотелось взлететь и парить над любимыми горами и тайгой! Радости добавило и дозволение настоятеля на совместное принятие пищи с иноверцами, а то все думал, как быть, дабы не согрешить.
* * *
Взойдя на вершину гребня, Корней остановился. Сняв войлочный колпак и отерев платком со лба пот, выступивший от зноя и затяжного подъема, с волнением оглядел синеющую на северо-востоке зубчатую цепь в пухлой кайме облаков. Где-то там родная Впадина, Глухоманка с жемчужными сливами водопадов, золоторудное гнездо, надежно заваленное им в каменной теснине. Хотя они отсюда и не видны, Корней «видел» их в мельчайших деталях. Еще бы – исходил все вдоль и поперек!
Сердце сжалось – доведется ли вернуться? А ведь мог остаться и спокойно жить с Дарьей, родными. Так нет, жажда дороги и давняя мечта пересилили.
От этих мыслей отвлек восторженный возглас Николая:
– Корней Елисеевич, гляньте, красотища-то какая! Какое счастье видеть все это! Славно, что мы наконец в дороге!
Дальше шли по хорошо продуваемому водоразделу, обходя нагромождения камней и поля низкорослого кедрового стланика, обвешанного небольшими, тугими, пока еще фиолетовыми шишечками. Местами его упругие ветки переплетались столь густо, что по ним можно было шагать, не касаясь земли, но Корней знал, насколько обманчива эта соблазнительная доступность – если угодишь в прогал, можешь подвернуть ногу или, того хуже, сломать ее. Посему путники пользовались набитыми медвежьими тропами: косолапые тоже не любят ходить по коварному стланику. Но еще больше они не любят ходить по сырым, звенящим от комарья низинам. Сверху они кажутся красивыми и ровными, сулят легкую дорогу, а на деле встретят залежалой гнилью, непроходимой чащей и беспощадным гнусом.
Люди шли по водоразделу еще и потому, что с него хорошо просматривалась вязь хребтов и долин, иссеченных пенистыми ручьями. Это облегчало выбор наиболее удобного маршрута к Алдану.
В какой-то момент Корней краем глаза уловил чуть заметное движение. Повернувшись, увидел идущую за чапыжником рысь. Рельефно перекатывающиеся под крапчатой шкурой мышцы, мягкая вкрадчивая поступь, взгляд исподлобья говорили о ее независимости и самостоятельности. Тем не менее, заметив людей, кошка поспешила скрыться.
Путники то и дело вспугивали клевавших камушки глухарей. Те с оглушительным треском от ударов тугих крыльев улетали с залитого солнцем гребня в тенистую чащобу. Одного из них Корней подстрелил на ужин.
Далее дорогу перегородил большой муравейник. На нем лежал, раскинув крылья, ворон. Казалось, птица мертва, но при приближении людей она встрепенулась и взлетела, обдав резким запахом муравьиной кислоты.
– Дошлая карга. Намеренно ложится, чтобы муравьи очищали оперение от клещей и паразитов, – на ходу пояснил Корней. – Николай, погляди вон на ту сосну. Видишь царапины?
– Вижу. Это рысь когти точила.
– Верно! Похоже, давно – уже короста наросла.
Завершая дневной ход, светило зависло над горизонтом, и тайга замерла в безмятежной истоме тихого, теплого вечера. Пока подыскивали для ночевки подходящее место с проточной водой, солнце село. Зато их настойчивость была вознаграждена – нашли жизнерадостный родничок, бурунистой струйкой бьющий из-под обомшелого валуна. Теперь можно сбросить тяжелые котомки, умыться ключевой водой и, разостлав спальники, плюхнуться на них. Десять минут – и усталость сменилась привычной легкостью во всем теле. Правда, растревоженная ходьбой с тяжелым грузом, культя напоминала о себе пульсирующей болью.
Внимательный Николай взял хлопоты по приготовлению ужина на себя. Но прежде, мучимый жаждой, припал к роднику. Корней покачал головой:
– Воду лакает зверье. Негоже нам уподобляться им.
Николай вопросительно глянул.
– Ежели кружка далеко, хотя бы ладонью черпай.
Напившись, Географ соорудил таганок, принес сушняка, достал огниво: кусок кремния и железный брусок с мелкой насечкой. Ударяя им по острой кромке кремния с прижатым к нему куском фитиля, стал высекать искру. Когда он задымил, сунул его под пучок сухой травы и, опустившись на колени, принялся раздувать огонь. Трава задымилась и вспыхнула. На пламя тут же легли завитки бересты, мелкие сучья, сверху – покрупнее. Быстро разгораясь, костер заявил о себе энергичным треском и бойким танцем оранжевых язычков. Свет костра, ныряя в сразу сгустившуюся тьму, норовил вырвать у ночи кусочки пространства.
Корней тем временем ощипал и выпотрошил глухаря. Когда мясо сварилось, добавил в котелок собранного по дороге и мелко нарезанного дикого лука и сныти. После ужина Николай взбодрил костер и принялся что-то записывать в тетрадь.
– Что пишешь?
– Когда вышли, где шли, что видели, где встали. Эту привычку завел с тех пор, как прочитал дневники штурмана Альбанова. В них описана история двухлетнего дрейфа шхуны «Святая Анна» полярной экспедиции Брусилова. Почти все ее участники погибли, но благодаря этим дневниковым записям географические открытия, сделанные ими, стали достоянием человечества. А меня они пристрастили к чтению книг о путешественниках, мореплавателях и совершенных ими открытиях. Самая любимая – «Робинзон Крузо»[14]. Кстати, в этом году 300 лет с тех пор, как он после кораблекрушения оказался на необитаемом острове и прожил там двадцать восемь лет.
– Неужели все годы один?!
– Поначалу один, а потом с индейцем Пятницей. Робинзону повезло, что остров находился в теплых морях. Там круглый год лето. Правда, он и сам молодец – никогда руки не опускал. Хижину построил, коз приручил. Нам будет потрудней – идем туда, где море во льдах и девять месяцев зима.
Последние слова Географ произнес зевая.
Костер догорал. Фиолетовые язычки украдкой выглядывали между головешек и снова прятались в мерцающих жаром убежищах. Вот и они погасли. На черном небе сразу отчетливей проступила широкая жемчужная дорожка с разбросанными вокруг нее созвездиями.
Проснулся Корней от тоненького свиста. Открыв глаза, увидел в лучах солнца шныряющих по стану полосатых бурундуков. Забавы ради тихонько откликнулся голосом самочки. К нему тут же выбежал рыжеватый кавалер. Встав столбиком на обомшелом пне, завертел головкой – где же подружка? Корней повторил свист и осторожно потянул руку к котомке, чтобы достать лепешку. Бурундучок в мгновение ока исчез и в тот же миг вырос на другом конце валежины. Через некоторое время он осмелел и, подбежав к вкусно пахнущим кусочкам, стал забавно запихивать их лапками в защечные мешочки.
Эти малыши, пожалуй, самые милые и юркие среди всей таежной мелкоты.
На третий день горы пошли на понижение. Появились кусты жимолости. Сизая кисло-сладкая ягода уже почти вся осыпалась. А вот малина как раз поспевает. Возле особенно урожайных кустов останавливались полакомиться.
Когда отрог сошел на нет, путники оказались в сумраке пойменного леса. Ветра в нем не чувствовалось. Он слегка шумел лишь в позолоченных солнцем вершинах деревьев.
Тропа то пропадала, то появлялась. Деревья стояли так часто, что видимость не превышала пяти-шести метров. Сыростью и гнилью тянуло от затянутой влажными мхами земли, в воздухе клубились тучи кровососов. Они проникали во все доступные и недоступные места. Уж до чего Корней с Николаем привычны к укусам этих вампиров, но и они, потеряв терпение, то и дело бежали, отмахиваясь ветками. Однако через секунд пять их вновь окружало серое звенящее облако.
Неожиданно до ушей путников донеслось странное, повторяющееся протяжное дребезжание. Ветерок то приближал, то отдалял его.
– Похоже, медведь музицирует. Встречал таких. Пойдем глянем? – предложил Корней.
И в самом деле, на проплешине, усеянной вывороченными бурей деревьями, сидел у комля сломанной ели косолапый. Он передними лапами оттягивал длинный отщеп и, резко отпустив, с уморительным наслаждением вслушивался в произведенный им пронзительно-вибрирующий звук. Было заметно, что эта «игра» на «щепковом инструменте» доставляет могучему зверю удовольствие.
– Действительно, музыкант! – согласился Николай.
На соседнем кедре разглядели застывшего на суку глухаря. Казалось, он с неменьшим удовольствием слушал диковинные звуки. Чтобы не мешать исполнителю и его благодарному слушателю наслаждаться «музыкой», люди вернулись на тропу.
Через пару километров тайга расступилась, и ходоки оказались у болотистой мари, пахнущей ржавым железом. Огибая ее, вышли к зарослям смородины. Ягоды еще не совсем созрели, но некоторые есть уже было можно, однако армады беспощадных комаров, норовящих вонзить свои тонюсенькие жальца в незащищенные участки тела, не давали остановиться. Пришлось срывать ягоды на ходу.
С противоположной кромки болотины донесся харкающий кашель. Там, не поднимая головы, брел, пощипывая траву, молодой согжой[15]. На его голове топорщились панты – мягкие рога, покрытые тонкой кожицей с короткой серовато-коричневой шерсткой. До гона олени всячески оберегают их. На ощупь они теплые и упругие. Окончательно окостенеют через пару недель. Тогда эта кожица потрескается, начнет свисать лохмотьями. А животные примутся тереть рога о деревья и камни, чтобы к гону полностью избавиться от нее.
Солнце потихоньку скатывалось к горизонту. Сумрак, таившийся под кронами деревьев, поднимался все выше и выше, отчего лес постепенно погружался во тьму. Уже перед самым закатом в проеме между двух сопок блеснула расплавленным золотом широкая лента воды – Алдан!
Несмотря на усталость, решили все-таки выйти к реке и уже там встать на ночевку. Николай, продираясь через завалы деревьев и плети цепкой ежевики, во все горло вопил: «Врагу не сдается наш гордый Варяг, пощады никто не желает…»
Чем ближе к берегу, тем непроходимей буреломы и гуще подлесок. Ноги на сырых валежинах и обомшелых камнях скользили, но бывалые таежники, защищая рукой глаза от гибких ветвей и острых сучьев, шли уверенно.
Когда наконец они вышли на берег, небесный свод мерцал тысячами звезд. Завершающий переход так измотал путников, что Географ отключился, как только прилег. А Корнея, начавшего читать «Повечерницу», сон сморил на середине молитвы. Спали крепко, как младенцы: знали, что суда на этом участке из-за сложного фарватера ночью не ходят.
1
Помимо запрета на брак между родственниками до седьмого колена, следовало соблюдать еще и запрет на брак для родственников по кресту. Так, сыну крестной и ее крестнице тоже нельзя жениться. По этой причине в крестные старались брать кого-либо из кровной родни.
2
Рыжуха – золотой песок.
3
Несмотря на периодические усиления гонений со стороны официальной церкви и властей, старообрядческая книжность с момента раскола интенсивно пополнялась вновь издаваемыми печатными и рукописными памятниками. Круг необходимых служебных и четьих книг имелся в каждой семье и передавался из поколения в поколение.
4
Семейские — так называли десятки тысяч старообрядцев-беспоповцев, переселенных в три этапа в XVIII веке из Речи Посполитой (Гомельской области) за Байкал. Эта «выгонка» осуществлялась с целью защиты восточных границ России от посягательств Пинской империи. Они привнесли в этот край высокую культуру земледелия.
5
Поняга — сибирский аналог рюкзака. Предназначена для переноса утвари и припасов.
6
Сряда – нарядная одежда.
7
До 1700 года в России действовал ведический календарь, замененный Петром Первым на григорианский, ведущий отсчет с Рождества Христова.
8
Озимые сеют с конца августа по начало сентября, чтобы до снега ростки успели подняться до 10–12 сантиметров.
9
Алдан был основан в 1923 году (городом стал в 1932-м), а атлас издан в 1912 году.
10
Коч – русское, парусно-гребное деревянное одномачтовое, однопалубное судно с корпусом яйцеобразной формы.
11
Полярные исследователи двоюродные братья Дмитрий и Харитон Лаптевы первыми описали береговую линию этого моря.
12
Благочинный — священнослужитель, несущий ответственность за хозяйственную деятельность в монастыре и соблюдение братией внутренних правил.
13
Лестовка — кожаные четки у старообрядцев.
14
Прообразом Робинзона Крузо послужила история шотландского боцмана Александра Селькирка, проведшего около пяти лет на необитаемом острове Тихого океана близ берегов Чили. Этот остров сейчас так и называется – «остров Робинзона Крузо».
15
Согжой — дикий северный олень.