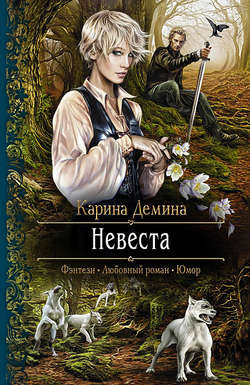Читать книгу Невеста - Карина Демина - Страница 3
Глава 2
Оден
ОглавлениеВ последний раз Оден плакал на похоронах матери.
Совсем еще щенок, и семи лет не исполнилось, такому простительны слезы. Но отец, положив тяжелую руку на плечо, сказал:
– Веди себя достойно, Оден. Какой пример ты брату подаешь?
Виттар, до того момента молчавший, – он был слишком мал, чтобы понять, что происходит, – и вправду зашмыгал носом. Обеими руками вцепился в куртку Одена.
– Слезы – удел слабых. Будь сильным, – повторил отец позже.
Те его слова помогли выжить пять лет спустя в Каменном логе, где рудные жилы подходили к самой поверхности земли, открываясь черными окнами, и близость живого железа, дикого, ярого, будоражила кровь.
Оден помнит бурую равнину, расшитую огненными реками, и утробный вой подземных горнов. Трещины, из которых выплескивалось пламя, и зов его – подойти, окунуться, очистить себя. Живое железо стремилось к материнской жиле. И всего-то надо было устоять.
Смирить себя и железо в себе.
Оно прорывалось, раздирая кожу шипами и иглами, складываясь причудливыми кольчужными узорами, меняя само тело, которое больше не принадлежало Одену. И, распластанный под тяжестью полной брони, он готов был разрыдаться от бессилия.
Ипостаси сменяли друг друга.
А кто-то совсем рядом выл от боли, отдирая прикипевшие к базальту ладони, неспособный справиться с силой рода. Врир выплясывал на белом камне. На руках его пузырилась кожа, сгорала, а он, безумный, раздувал пламя. Оден пытался добраться до друга – тогда еще оставались друзья, – звал, полз, постепенно подымаясь на ноги, которые уже и не были ногами.
И железо прервало каскад перемен, заперев в новом обличье.
Изменившееся тело было слишком чужим. Тяжелым. Неподатливым. Оден путался в лапах и кричал. Но что его голос против того, который звучит внутри, призывая окунуться в черное окно?
Руда к руде.
Железо к железу.
Кровь к крови.
Врир, в последний миг словно очнувшийся, повернулся, протянул руки, которых уже не было – ошметки плоти на белых костях, – зарыдал. И слезы вскипели в глазах.
Удел слабых – умереть.
И каждый год в Каменном логе оставались те, кто неспособен был совладать с предвечным зовом. Иные же, переплавленные, пережженные, становились сильней.
Два дня остывала подаренная рудой броня.
– Слезы – удел слабых, – сказал Оден брату, когда настал его черед. И пять дней не находил себе сна и покоя, терзаясь мыслью, что Виттар не выстоит.
Все злее становились рудные жилы, все большую цену брали с Великих родов.
И Оден пялился на родовой гобелен, опасаясь отвести взгляд хотя бы на мгновение, – вдруг да погаснет тонкая золотая нить на нем, одна из двух, оставшихся от некогда великой жилы. Кусал губы. Давил страх.
Обошлось.
Тогда и шестью месяцами позже, в первом бою, когда стоял на скользком берегу реки, вжимаясь во влажный ил… Наплывал туман. С мерзким звуком рассыпалась земля, выпуская ловчие плети. Беззвучно разворачивались колючие гроздья разных цветов, чтобы в следующий миг лопнуть. Визжала сталь, взрезая доспех, впиваясь в деревянные щиты. И скользила под прикрытием дождя призрачная конница. Оден же слышал хриплое дыхание такого же, как сам, первогодка. И мерный рокот барабанов. Удары копыт. Удары сердца. Просто удары, гулом отзывавшиеся в теле. Живое железо защитило слабую плоть.
Визг лошади, грудью налетевшей на копье. Она колотила копытами, норовя подмять Одена под себя, а он умирал от ужаса – вдруг да не выдержит доспех. Давился первой горячей кровью.
Рвал.
Полз, оставляя в тине глубокий след.
И откатывался по зову рога, когда вода стала серой: альвы пустили гниль.
Потом скулил, зализывая первые раны. И помогал хоронить мертвецов.
Привыкал.
Год за годом. Битва за битвой. Удар за ударом… сколько было? Вся жизнь до крепости Гримхольд и той ночи, когда дети лозы перешли реку. Туман предрассветный и зыбкие тени, неразличимые глазом. Запах тины, гнилостный, тяжелый. И понимание: не выстоять.
Снова страх – в Гримхольде гарнизон на две трети из щенков, только-только служить начавших. Они, еще недавно ощущавшие себя хозяевами мира, вдруг поняли, что умрут. А жить хотелось. Бежать. Лететь прочь, неважно куда, лишь бы не слышать шелеста листвы да заунывных напевов свирели. Дети тумана знали, как и когда ударить.
За стеной Гримхольда – Перевал. А дальше – долина, новорожденная жила, которую так легко убить, и Стальной Король, оставшийся, чтобы жилу привязать. Ему нужна была неделя. Три дня прошло. Осталось четыре.
И Оден приказал держаться. И держались.
Сколько смогли.
Умирали один за другим. Цеплялись за жизнь, но все равно уходили слишком быстро. И Оден решился запереть Перевал. Выложился до капли, но вытянул на поверхность ярую жилу.
Надеялся, что и его накроет, спрячет под потеками лавы и камнепадами. Хорошая смерть, о таких поют. Но уйти не получилось: живое железо не пожелало отпускать. И, лежа в луже собственной крови, слушая, как визжат и лопаются камни, не выдерживая жара, Оден жалел, что так и не дописал то письмо брату. Но не плакал.
…когда открыл глаза и увидел Норра, оруженосца, которому едва исполнилось пятнадцать весен, распятого на решетке.
…когда услышал, как поет живое железо, покидая жилы.
…когда оглох от крика того, кого клялся защищать.
…и когда сам занял его место.
…когда выл, пытаясь освободиться, сгорая и зная, что не сгорит – не позволят.
…когда лишался остатков силы, капля за каплей, день за днем.
Долго ли? Долго. Наверное. Времени там не было, только глубина, сотканная из темноты и боли. Собственное его падение, когда грядущая смерть уже видится наградой. Но слезы – удел слабых. И Оден держался.
Потом его вывели и сказали:
– Стой здесь.
Он ослеп и оглох. Ошалел от запахов. И растерялся. Ямы больше не было, как и железной решетки сверху, стражи и королевы Мэб, но и его тоже, такого, который смог бы уйти. Оден забыл, как ходить. И как искать дорогу.
Наверное, он все-таки умер бы, но кто-то, пахнущий серебром, вереском и медом, сказал:
– Пойдем со мной. – За руку взял. Пообещал: – Я тебя не обижу.
Куда-то повел. Дал воды – Оден не знал, что хочет пить. Говорил так, что Оден, не понимая слов, готов был слушать.
Эйо.
Радость.
Женщина, которая прикоснулась с нежностью, с лаской. А потом ударила. Не больно, бывало куда как хуже, но его опять обманули…
– Прости меня… ну прости, пожалуйста. – Она обняла, держала, убаюкивая, прижав к себе. – Я больше не буду так делать. Честно. Но надо было, чтобы ты заплакал.
Слезы – удел слабых. Но Оден рыдал, как щенок, впервые оставшийся без мамки.
– Прости. – Она отстранилась.
Дурманил запах серебра, вереска и меда.
…тумана.
Плесени.
Болота.
Холодного огня, который рождался на белых камнях сам собой. И сквозь его завесу проступало лицо королевы Мэб, совершенное в каждой своей черте.
Высокий лоб. Темные волосы, уложенные в замысловатую прическу. Корона Лоз и Терний. И четыре рубиновые капли на виске, оттеняющих белизну кожи. Глаза – чистая зелень Холмов.
Алые губы.
– Ты еще жив, пес? – Ледяные пальцы касаются шеи, скользят, и серебряные чехлы для ногтей вспарывают кожу. Королева Мэб подставляет под красный ручеек руку. – Ты жив, потому что я добра.
В ее глазах нет доброты. Впрочем, в них нет и гнева или отвращения. Ненависти. Страха. Сомнений. Радости. Тоски. Обиды. Ничего. Зеленое стекло в оправе раскосых глазниц.
– От тебя отказались, пес. – Она подносит ладонь к губам. – Я не просила много, но за тебя не дали и малости…
Ложь. Если бы так – убила бы.
– Ты не нужен своему королю. – Острый язычок касается мизинца, скользит по серебряному плетению, бирюзовым вставкам, синим искрам сапфиров, очищая их от крови. – Ты не нужен своей семье.
Ложь.
– Так скажи, – королева Мэб жмурится от удовольствия – кровь вкусна, – зачем мне оставлять тебя в живых?
Она знает ответ, она слышала его тысячу раз, а возможно, и больше, но ей не надоело спрашивать. И раскаленное железо, мертвое, забывшее о родстве, подкрепляет просьбу.
– У меня… – Оден вдруг понял, что способен говорить. Не кричать, не выть, не скулить, но произносить слова, пусть бы те самые, которые он повторял там, под Холмами. – У меня есть невеста. Во всем мире не отыскать девушки прекраснее ее… Ее волосы мягки и душисты. Ее очи – бездонные озера, забравшие душу мою. Рот ее – россыпь жемчуга на лепестках розы. Стан ее тонок, а бедра круты…
– А у меня брат… – ответили Одену. – Только я не уверена, захочет ли он меня видеть.
И у него.
Брат есть. Дом. Жизнь. Уже много.
Зачем она руку убрала? Рядом же стоит. Оден чувствует запах, тот самый, серебра, вереска и меда.
Еще смолы. Свежей древесины. Листьев. Прели. Близкой воды. И того железа, которое способно ранить. Кожи. Болота. Ямы и гноящихся ран – это от него.
– Ты ничего не видишь, я правильно поняла?
Он различает слова. И смысл их ясен.
– Это бывает, если слишком долго в темноте пробыть. Зрение вернется. Не расчесывай шею! – Его руку перехватили. – Так только хуже будет. Веревку надо снять.
Ее голос был таким мягким, нежным…
Нельзя верить нежным голосам.
– Видишь, пес, как я добра. – Руки королевы снимают ошейник. – Ты никому не нужен, но я тебя отпущу… быть может.
Шеи коснулся холодный металл. И Оден, зарычав, бросился на врага.
Ну вот, следовало ожидать.
Мне повезло. Он был ранен. Истощен. И слеп. Напуган и растерян. А я двигалась достаточно быстро, чтобы увернуться от удара.
Не надо было с ножом лезть, подумаешь, узел тугой, как-нибудь да справилась бы.
Пес, встав на четвереньки, вертел головой, пытаясь уловить мой запах. А лес с любопытством наблюдал за происходящим. В конечном итоге лес примет и мое тело.
…он крупнее.
Да, на дольше хватит.
Попытавшись сделать шаг, пес наступил на хвост веревки. Сейчас этот дурак сам себя задушит. Головой замотал, попытался ослабить ошейник, но не тут-то было. Хитрая петля, такая только затягивается. Но, судя по ранам на шее, ему случалось носить и куда более опасные украшения.
– Послушай. – Я приближалась с осторожностью. Слаб или нет, но даже сейчас он сильнее меня во много раз. – Я не хочу причинить тебе вред. Если бы хотела, то бросила бы в городе. Или сейчас. Мне достаточно просто уйти…
– Нет. Н-не… н-надо.
Заговорил. И, кажется, отдавая себе отчет в том, что говорит. Замечательно. Значит, есть шанс договориться.
– Не буду. Но веревку лучше снять. Согласен?
Кивок.
– Ты не бросишься на меня?
– Нет.
– Обещаешь?
– Да.
– Слово на крови и железе?
Пес дернулся, но выдавил:
– Да.
Что ж, этому слову можно верить, и лес разочарованно зашелестел. Понимаю его обиду, но не разделяю. Я все же приближалась к псу с опаской: слово словом, а осторожность не помешает, подозреваю, он и сам плохо понимает, что творит.
– Это я. – Коснулась макушки. Волосы у него, как у мамы, – с тяжелой остью и мягким пуховым подшерстком, может, поэтому меня тянет его погладить. – Эйо.
– Эйо, – послушно повторил пес.
– Наклони голову, пожалуйста.
Узел был под горлом и теперь, затянувшись, продавил кожу. Нет, над позвоночником веревку пилить сподручней. Нож у меня хороший, острый, и резать я старалась аккуратно. Пес ждал и, по-моему, боялся шелохнуться.
– Вот и все. Сейчас будет неприятно.
Веревку пришлось отдирать от кожи. Язвы. Кровь. Сукровица. И знакомые проколы под подбородком. Его долго держали в ошейнике, не позволяющем опустить голову.
Полчаса – и мышцы ломит. Час – и кажется, что вот-вот их судорогой сведет. Два… и стоит опустить подбородок, как острые зубья впиваются в кожу. Кажется, на третьем мне стало все равно.
Я всегда была упрямой девочкой, но до пса мне далеко.
– Так лучше?
Не надо его трогать, но я не удержалась. А он вдруг сгреб меня в охапку и опрокинул на листья. Сам сверху навис.
Убьет?
И правильно сделает: за дурость надо платить. Лесу-то сколько радости будет…
…овраг. Далеко. Выше надо.
Какие мы капризные, однако.
Но пес не торопился меня добивать, обнюхивал. Волосы. Лицо. Шею.
– Запах. – Он снизошел-таки до разъяснения. – Ты. Я. Знать. Запах. Эйо. Свой.
А про невесту рассказывал связно. Сейчас же ощущение, что собственный язык его не слушается. Пес прижался щекой к моей щеке и замер. Я тоже не шевелилась, мало ли что ему в голову взбредет. Минуту не шевелилась… две… на третьей не выдержала, главным образом из-за запаха: воняло от него выгребной ямой.
– Тебе надо вымыться. – Подозреваю, эта процедура ему не понравится. – Вода холодная. И будет больно. Но так раны скорее заживут.
Будь в нем хоть капля живого железа, они бы уже затянулись, без воды и моей помощи. Пес же вздохнул, но все-таки отстранился и встал на колени. Руку протянул. И пальцы мои сдавил так, что еще немного – и сломает.
Боится отпустить?
Потеряться?
– Сначала снимем твои лохмотья. Я постираю и посмотрю, что можно сделать…
…все равно другой одежды нет и в ближайшем будущем не предвидится. В лесу вообще с одеждой сложно, а соваться в город – безумие.
– Идем.
Встал без споров. И шел за мной, осторожно, медленно. И раздеть себя позволил.
Он был изможден до крайности: кожа, кости и живое мясо. Его не просто пытали, а мучили снова и снова, позволяя ранам зарубцеваться, а вот здесь, под левой лопаткой, явно шили. О псе заботились, не позволяя умереть. Наверное, он был интересной игрушкой.
– Решетка, – сказал пес, когда я коснулась язв на спине.
Аккуратные отверстия все еще сочились сукровицей. Девять рядов вдоль спины, девять – поперек. А следов от огня нет. Впрочем, я слышала, что холодное пламя не обжигает, оно просто вытапливает из крови железо.
…это война, бестолковая Эйо. А пес – враг.
Вот и убили бы как врага. Пытать зачем?
– Потерпи. – Я сглотнула, не зная, что сказать ему. – Еще немного потерпи. Пожалуйста.
Кивнул.
И двинулся за мной к воде.
– Стой. – Берег был топким, осклизлым. – Садись. И осторожно, здесь глубоко.
Я помогла ему спуститься в воду и положила руку на корень старой ели. За него удобно держаться.
– Я сейчас вернусь.
У меня еще оставалось мыло, пусть и самое дешевое, изрядно воняющее. Для пса, вероятно, этот запах и вовсе невыносим был. Но он терпел, жмурился, фыркал. И сам тер и без того разодранные плечи, хотя меня от одного вида открывшихся ран трясти начало. Моей силы не хватит на все.
Разве что понемногу… изо дня в день…
Я помогла ему выбраться из воды и отвела к своему гнезду, сооруженному из еловых лап и сухих, шелестящих листьев.
– Вытереть тебя нечем.
Солнце еще стояло высоко. Обсохнет. И согреется. Надеюсь.
– Чистый. – Он понюхал собственную руку. – Чистый. Хорошо.
Я же развела костерок. Сегодняшняя добыча была скудна – пара серых, скукоженных картофелин, из тех, что скоту запаривают, и несколько горстей сечки. Но из старых запасов у меня оставались хлеб, сыр и почти прозрачный уже кусок сала на нитке. Картофель я варила вместе с зерном, добавила травы и жир. Пес терпеливо ждал. Он свернулся в гнезде клубком, подтянув ноги к груди. И плащ мой, слишком маленький для него, принял с благодарностью.
Так и лежал, уставившись на огонь, но вряд ли видел. И, кажется, придремал.
А я, пользуясь случаем, разглядывала его.
Крупный, широкой кости, с массивной грудной клеткой, тяжелыми лапами и мощным хребтом. Такой выдержит и полную броню. Окрас золотистый, с характерным отливом и более светлым подшерстком, какой бывает только среди высших. И родинки – как подтверждение. Семь – на левой щеке, одиннадцать – на правой.
Может, не все так и плохо?
Я проведу его по землям детей лозы, а он поможет мне за Перевалом.