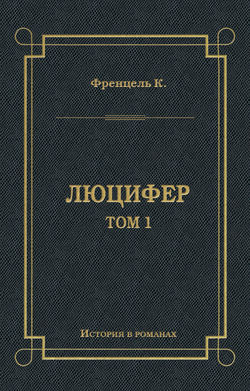Читать книгу Люцифер. Том 1 - Карл Френцель - Страница 3
Часть I
Глава II
ОглавлениеНезнакомец по приглашению управляющего вошел в его комнату, выходившую окнами в сад. Около стола за остатками ужина сидел капуцин, рядом с Мартином Теймером. Первый самодовольно гладил свою рыжую бороду, потягивая вино; другой, коренастый, широкоплечий человек с темными волосами, одетый в полугородское и полудеревенское платье, в башмаках и коротких панталонах, безостановочно курил свою трубку.
Свет маленькой лампы, горевшей на столе, слабо освещал комнату, наполненную густым табачным дымом, за которым едва виднелась резко очерченная голова Теймера.
Теймер молча поклонился незнакомцу из окружавшего его табачного облака.
– Мир Господень да будет с вами, – пробормотал, в свою очередь, монах.
– Прошу вас присесть на минутку, – сказал управляющий, подвигая к столу деревянный стул с резной спинкой. – Я сейчас извещу графа.
– Ради бога, поспешите, тут дорога каждая минута.
Управляющий вышел.
Капуцин с любопытством рассматривал молодого человека. Первое, что он заметил в его наружности, были белокурые вьющиеся волосы, падавшие на стоячий воротник голубого сюртука; вторая особенность незнакомца заключалась в том, что он от нетерпения ни минуты не мог просидеть спокойно на месте.
– Не хотите ли вы выпить стаканчик вина, молодой барин? – спросил капуцин. – Вы, кажется, устали, а вино восстанавливает силы.
– Благодарю вас, патер, – сказал незнакомец и, взяв со стола налитый для него стакан, выпил несколько глотков.
– Пейте все до дна. Вам это не повредит, да и нас не обидите. У нас тут вдоволь вина. – В подтверждение своих слов монах вынул из-под стола новую бутылку. – Вы, верно, нездешний. Откуда вы?
– Из Зальцбурга, или, лучше сказать, из западного Тироля.
– А говорите не по-нашему, – заметил Теймер густым басом.
– Я родился в Вене.
– Это чертовски большой город, – продолжал Теймер, – и с вечным ветром… Ну, а теперь поселились в горах?
– Да, мне хотелось познакомиться с этой местностью.
Теймер не понял незнакомца и вопросительно взглянул на капуцина.
Монах, больше видевший свет и людей, поспешил выручить своего приятеля из затруднения.
– Значит, вы путешествуете, молодой человек, для своего удовольствия. Мне также приходится много странствовать для сбора милостыни, а ему по своим торговым делам. Наша земная жизнь не что иное, как вечное странствование.
Незнакомец, занятый своими мыслями, не слушал его.
– Ну, я думаю, Тироль совсем обаварился, – проворчал Теймер.
– Что хотите вы этим сказать?
Теймер презрительно взглянул на него и толкнул локтем капуцина с таким видом, как будто хотел сказать, что с дураками рассуждать нечего.
Капуцин допил свой стакан и глубокомысленно посмотрел на молодого человека, видимо желая убедиться, не притворяется ли он.
– Разве вы не знаете, что Тироль принадлежит теперь баварцам?
– Да, знаю… Но мне какое дело до этого? – сказал с досадой незнакомец.
– Разумеется, это и не мое дело, – ответил монах, – я не военный человек и не придворный; не мне обсуждать решения императоров и королей. Но разве не обидно, что проклятые французы отняли у нас эту прекрасную страну? Впрочем, вы, господа ученые, на все смотрите свысока, мечтаете неизвестно о чем и, кажется, так бы и поднялись на небо, к Господу Богу.
– К сожалению, я еще не могу назвать себя ученым, – сказал незнакомец, делая вид, что не замечает насмешливого тона, с которым говорил монах.
– Какой он ученый, просто дурак или плут, – пробормотал Теймер на своем родном диалекте, почти непонятном венскому уроженцу. Теймер мог теперь бранить незнакомца на каком угодно языке, потому что тот забыл о его существовании, услышав шум шагов в коридоре.
Минуту спустя отворилась дверь и в комнату вошел граф.
Незнакомец снял шляпу и сделал несколько шагов ему навстречу.
– Так это вы, Эгберт! Очень рад видеть вас, – сказал граф, подавая руку молодому человеку и с видимым удовольствием оглядывая его статную фигуру и всматриваясь в лицо, которое можно было смело назвать идеалом мужской красоты и где все было безукоризненно, начиная с высокого, прекрасно очерченного лба, слегка приподнятых бровей, голубых задумчивых глаз и кончая классически красивым носом и губами.
– Извините, что я побеспокоил вас, граф, – сказал Эгберт. – У вас, кажется, гости.
– Вы из Вены? – спросил граф, прерывая его. – Надеюсь, что вы сообщите мне хорошие вести…
– Нет, я из Зальцбурга.
– Тем лучше. Очень рад, что вы наконец послушались моего совета, милый Эгберт, и решились на время покинуть Вену. Человек становится крайне односторонним, живя постоянно в городе. Что бы ни говорил ваш отец, не книги, а свет и жизнь воспитывают людей. Поэтому я считал путешествие необходимым для вас. Ну, теперь вы отдохнете у меня с дороги. Я не скоро выпущу вас отсюда; вы недаром попали в мои когти.
Граф, довольный тем, что его опасения относительно дурных известий из Вены оказались напрасными, совсем упустил из виду, что его молодой друг мог явиться к нему в дом в такое позднее время только вследствие каких-нибудь особенных причин.
– Извините меня, граф, но прежде чем воспользоваться вашим приглашением, я должен исполнить то дело, которое меня привело сюда…
Эгберт замолчал и с замешательством взглянул на капуцина и Теймера, почтительно стоявших у окна.
– Говорите смело, я вполне доверяю этим людям. Что случилось?..
– Я привез сюда умирающего.
– Господи, этого еще недоставало! – с ужасом воскликнул управляющий. – Я думал, что мне это только померещилось издали…
Граф с нетерпением остановил его.
– Мы нашли его в расщелине скалы между Гмунденом и Феклабруком.
– Феклабруком! – повторил граф, бледнея.
Капуцин подошел ближе.
– Да, это какой-то француз, и немолодой. Он назвал себя Жаном Бурдоном…
– Жив ли он? Где вы его оставили? – спросил граф взволнованным голосом.
– Внизу под горою. Он лежит в доме вашего лесного сторожа. Мы не решились привезти его сюда, услыхав, что у вас гости.
– Вы отлично сделали. Благодарю вас, Эгберт. Но я должен сейчас же идти к нему.
– Я пришел сюда, чтобы просить вас об этом. Он настойчиво требует вас к себе.
– Шляпу, Антон! Скорее! Вы проводите меня, Эгберт, и расскажете дорогой, как вы нашли его.
– Если я не ошибаюсь, то его хотели убить с целью грабежа…
– Несчастный! Если бы он послушал меня и взял с собой слуг… Неужели всякая борьба с этим демоном должна кончаться неудачей!..
Последние слова граф произнес вполголоса; они вырвались у него помимо его воли.
Управляющий подал графу шляпу и накинул на его плечи серый плащ.
– Вы, патер Марсель, пойдете с нами. Ваше присутствие может успокоить умирающего. А ты, Антон, должен зорко смотреть, чтобы кто-нибудь не проскользнул за нами. Я не хочу, чтобы в зале узнали о том, что случилось; вели им подать побольше вина, самого лучшего. Я скоро вернусь. Постарайся также совладать со своим лицом – у тебя совсем растерянный вид.
Путники скоро очутились за стенами замка и пошли боковой дорожкой, проложенной под деревьями для пешеходов. Граф шел впереди с Эгбертом, сзади неслышными шагами шел капуцин. Лунный свет, пробиваясь то тут, то там сквозь густую листву каштанов и ореховых деревьев, освещал им путь.
Эгберт начал свой рассказ, понизив голос:
– Мы выехали из Зальцбурга…
Граф прервал его.
– Вы говорите «мы», разве вы были не один?
– Нет, я познакомился дорогой с одним молодым художником, если можно так назвать его, потому что он одинаково увлечен сценой, живописью и музыкой. Вот он и согласился сопутствовать мне.
– Или, другими словами, путешествовать за ваш счет. Вы всегда останетесь таким же мечтателем, каким я знал вас в Вене. Ну, а где вы оставили своего спутника?
– Я просил его побыть с умирающим; ему, вероятно, приятно будет иметь при себе человека, которому он может передать свое последнее желание…
– Ваш приятель говорит по-французски?
– Да, немного.
Граф замолчал и казался озабоченным.
Они прошли молча несколько шагов.
– Однако рассказывайте дальше, – сказал граф. – Я не стану прерывать вас.
– Мы провели последнюю ночь в Феклабруке, с тем чтобы оттуда отправиться в Линц и сесть на пароход, идущий в Вену. Но утром трактирщик стал так красноречиво описывать нам красоты здешнего озера около Гмундена и утеса Траунштейна, что мы решились продлить наше путешествие еще дня на два. Ввиду этого мы послали моего слугу с багажом в Линц, а сами с легкими ранцами на плечах отправились по направлению, которое указал нам трактирщик. Но скоро большая дорога наскучила нам, потому что приходилось идти по солнцу и в пыли, и мы, свернув в сторону, пошли наугад по тропинкам через лес и овраги. Заблудиться мы не могли, потому что стоило взойти на любой пригорок, чтобы увидеть издали красную вершину Траунштейна, который служил нам верным ориентиром. Люди попадались редко; мы встретили только пастуха, лесного сторожа и нескольких детей, которые собирали ягоды; по временам утренняя тишина нарушалась звуками охотничьих рогов и выстрелами, которые раздавались то совсем близко от нас, то на значительном расстоянии…
– Это, вероятно, были наши охотники, – заметил граф Ульрих.
– Одним словом, – продолжал Эгберт, – это была одна из прелестнейших прогулок, которую мне когда-либо в жизни удавалось сделать. Наконец мы поднялись на высокий гребень холмов, поросших лесом, и, выбрав тенистое дерево, расположились под ним, чтобы позавтракать теми запасами, которые были у нас в ранцах. Но тут мой приятель неожиданно поднялся с места и взошел на скалу над оврагом.
– Ты ничего не слышишь? – спросил он меня.
– Нет!
– Мне послышался легкий стон.
Я подошел к моему приятелю и стал прислушиваться; мне также показалось, что кто-то стонет, но так неясно, что я подумал: не обманывает ли меня воображение? Гребень холма у того места, где мы стояли, спускался отвесно футов на сто, тогда как с другой стороны он был покатый и соединялся с долиной едва заметными уступами. Высокие деревья, растущие в овраге, совершенно скрывали его от нас, и только кое-где на дне виднелись ручьи, которые текли с утесов, покрытых густой зарослью. Мы сделали несколько шагов в сторону, и тут уже совершенно отчетливо долетели до нас стоны и вздохи. Тогда, недолго думая, мы стали спускаться вниз, и скоро глазам нашим представилось страшное зрелище. На дне оврага, в кустах, лежал умирающий человек со сломаной рукой и с пулей в груди. Несмотря на мои жалкие познания в медицине, я все же решился воспользоваться ими, чтобы привести руку в более удобное положение и перевязать рану. Пуля засела так глубоко, что вынуть ее вряд ли было бы возможно даже с помощью инструментов. Мы уже застали этого несчастного в лихорадке, потому что он, должно быть, пролежал часа два без всякой помощи. Я принес воды из ключа, подлил в нее вина, которое было у нас, и напоил его. Между тем мой товарищ несколько раз принимался кричать и звать на помощь, но, убедившись, что кругом нет ни души, отправился на поиски, в надежде отыскать поблизости какое-нибудь жилье. Я остался с умирающим. Сделанная мною перевязка настолько успокоила его, что он в состоянии был пробормотать несколько слов. Таким образом я узнал, что его имя Жан Бурдон и что ему необходимо видеть вас, граф. Затем он замолчал, и мне показалось, что он потерял сознание. Я опять подал ему воды с вином, и он заговорил, хотя с большим трудом и беспрестанно останавливаясь. Из всего, что он сказал мне, я понял, что дело произошло таким образом: он шел по гребню холма с каким-то человеком и разговаривал с ним, но тут внезапно раздался выстрел, и пуля настигла его. Несколько секунд он лежал под палящими лучами солнца, а когда пришел в себя, то стал искать воду, ползая по земле, но, должно быть, приблизился к самому краю обрыва и полетел вниз, где мы и нашли его. Одно мне осталось неясным в его рассказе – убил ли его тот самый человек, который разговаривал с ним, или кто-нибудь другой? Несчастный также несколько раз вспоминал своего сына, называл ваше имя и жаловался на потерю каких-то бумаг, которые у него отняли или он сам потерял, – я этого не мог понять из его слов. Он все время держал меня за руку и даже беспокоился, когда я отходил от него, чтобы зачерпнуть воды из ручья. Ему все казалось, что опять нападут на него… Извините меня, граф, что я рассказываю подробно; но в этом случае самое ничтожное обстоятельство может иметь значение.
– Даже большее, чем вы думаете, – возразил граф. – Продолжайте, пожалуйста.
– К несчастью, раненый, как я уже говорил, не отпускал меня от себя ни на шаг, и я не мог осмотреть место преступления по свежим следам. Наконец, после долгих часов ожидания, вернулся мой приятель с работниками с мельницы и носилками. На горе он встретил девушку, которая показала ему дорогу на мельницу Рабен и теперь явилась вместе с ним, вероятно из любопытства. Девушка эта была полуребенок с босыми ногами и смуглым, загорелым лицом. При виде раненого она громко вскрикнула, захлопала в ладоши как сумасшедшая и убежала. «Это черная Кристель, – сказали работники. – Она не в своем уме, так же как и ее отец». Нам, разумеется, некогда было заниматься ею. Мы положили Бурдона на носилки и отнесли на мельницу, которая в часе ходьбы от места преступления. Мельник и его домашние сильно перепугались при нашем приходе. Они знали раненого в лицо. На рассвете он остановился у них, чтобы починить в экипаж, потому что поблизости не было кузницы. По словам мельника, он сильно досадовал, что теряет напрасно время, торопил их и сел даже на скамейке перед домом, чтобы наблюдать за починкой, так как ему казалось, что дело идет слишком медленно. Вслед за тем подъехал какой-то человек верхом и, сойдя с лошади, поговорил немного с Бурдоном на иностранном языке. Бурдон приказал кучеру ждать его возвращения, а сам отправился в лес вместе с незнакомцем, который вел свою лошадь под уздцы. Скоро они оба исчезли из виду, а с этого времени их не видели на мельнице; всадник также не возвращался. Долгое отсутствие путешественника начало уже тревожить мельника, но кучер успокоил его тем, что, вероятно, тут какая-нибудь тайна, потому что когда он садился на козлы в Гмундене, то капуцин Марсель сказал ему, чтобы он только смотрел за своими лошадьми и что ему нет никакого дела до того, что он увидит или услышит. Кучер буквально исполнил это приказание и спокойно ждал возвращения своего господина у готового экипажа, стоявшего посреди двора мельницы.
– Слышите ли, патер, к чему привели принятые вами предосторожности, – сказал граф, обращаясь к капуцину.
– Будущее известно одному Богу, – скромно ответил монах.
– Вот все, что я мог узнать на мельнице, – продолжал Эгберт. – Затем я опять перевязал рану Бурдона, и так как смерть его неизбежна и поездка в удобном экипаже не могла особенно повредить ему, я решился привезти его сюда, тем более что он все настоятельнее желал видеть вас. Я думал, что, может быть, и вам окажу этим услугу.
– Благодарю вас, Эгберт, – сказал граф, пожимая ему руку. – Для меня это настолько важно, что я буду считать себя вашим вечным должником. Но вот мы и пришли.
У подножия высокой горы, на которой стоял замок, и в нескольких саженях от леса виднелся одноэтажный деревянный домик. Здесь жил на покое отставной солдат, который некогда служил под началом графа Ульриха и вместе с ним сражался против французской республики. Несмотря на свои раны, он чувствовал себя настолько бодрым, что не хотел «даром есть хлеб», как он выражался, и просил владельца замка дать ему какое-нибудь занятие. Граф, выслушав это заявление, улыбнулся и ответил, что он может смотреть за лесом и со своего аванпоста сторожить его замок.
Седой Конрад с радостью принял возложенную на него обязанность и взялся за нее с неутомимым усердием.
Соседние жители в продолжение многих лет видели, как он изо дня в день обходил лес с ружьем, которое подарил ему граф, и прозвали его лесным сторожем.
Он стоял на часах у своего дома с лохматой собакой у ног, когда граф Ульрих подошел к нему со своими спутниками.
– Плохая ночь, Конрад! – сказал граф. – Несмотря на мир, мы все на военном положении.
– Будет еще хуже, ваша графская милость, – ответил Конрад, отворяя дверь своего дома. – Французу скоро наступит конец. Еще одним будет меньше на земле!
На постели Конрада на его соломенном тюфяке лежал Жан Бурдон в предсмертной агонии. На столе стояла свеча в железном подсвечнике и глиняная кружка с водой; на скамье у постели сидел Гуго, приятель Эгберта.
С умирающего сняли сюртук, но он оказал такое отчаянное сопротивление, когда хотели стащить с его ног высокие, тяжелые сапоги, что вынуждены были оставить их. Странный вид имели эти запыленные и грязные сапоги, выглядывавшие из-под одеяла, которым был покрыт умирающий.
На лице его отразился ужас, когда он увидел троих вошедших людей.
Гуго уступил место графу.
– Я пришел к тебе, мой дорогой Бурдон, – сказал граф по-французски, взяв за руку умирающего.
Бурдон смотрел на него неподвижными глазами; он, казалось, не узнал того, кто говорил с ним, но немного погодя лицо его оживилось, он судорожно сжал руку графа и, приподняв голову, проговорил с усилием:
– Мой бедный Веньямин! Граф, спасите моего сына!
– Как это все странно! – невольно воскликнул граф, но тотчас же опомнился и, наклонившись к уху умирающего, спросил:
– Где бумаги?
– Пропали, – чуть слышно ответил Бурдон, стараясь достать что-то из своего сапога. Но это полусознательное движение настолько увеличило его страдания, что страшный, нечеловеческий вопль вырвался из его груди.
Граф закрыл лицо руками. Все стихло, капуцин читал молитву.
– Сын мой! – простонал Бурдон. Черты лица его исказились, и он поднял руку, как будто отталкивая кого-то. – Не убивайте его!
Но рука бессильно опустилась на одеяло.
– Кончено! – сказал граф после долгого молчания, глядя с глубокой печалью на лицо покойника. – Судьба сильнее нас. Пули, которые мы направляем против него, поражают нас самих…
– Господь Бог пошлет архангела Михаила, который победит этого Вельзевула, – набожно проговорил капуцин.
Остальные молчали.
Молодые путешественники, которых случай натолкнул на след страшного преступления, стояли у окна. Эгберт отвернулся от постели и смотрел на луну сквозь тусклое зеленоватое стекло, между тем как его приятель, повернувшись к нему спиной, внимательно разглядывал покойника и лица присутствующих, как будто хотел изобразить их на картине.
– Мы не должны ни отчаиваться, ни питать безумных надежд, – сказал граф капуцину. – Это был дельный человек с детства до смерти. Он должен служить нам примером… На эту ночь, Конрад, я оставляю тело на твоем попечении. Ты ведь не боишься покойников?
Старик едва не расхохотался, но из уважения к усопшему остановился.
– Прикажи вынуть ящик из экипажа и принести в замок, – сказал граф. – Смотри, чтобы это было сделано как следует.
– Пусть граф не беспокоится, – сказал многозначительно капуцин, – я сам распоряжусь здесь всем, что нужно, и отошлю кучера в Гмунден.
– Я вполне доверяю вам, патер Марсель, и знаю, что вам нечего напоминать об осторожности.
В этот момент глаза графа остановились на Эгберте, который все еще смотрел в окно.
– Здесь душно и тяжело, господа, – сказал он, обращаясь к обоим приятелям. – Пойдемте на чистый воздух.
Они вышли втроем на лужайку перед домом, которая была вся освещена лунным светом. С озера дул прохладный восточный ветер, который живительно подействовал на них и до известной степени рассеял тяжелое впечатление, произведенное на них зрелищем смерти.
– Мой дорогой Эгберт и вы, милостивый государь… – начал граф.
– Гуго Шпринг, – добавил тот, к кому обращались эти слова.
Граф подал ему руку.
– Позвольте поблагодарить вас, господа, – сказал он, – за все то, что вы сделали сегодня для несчастного Бурдона. Я знаю, что молодые люди не любят, когда в подобных случаях к ним обращаются с благодарностью или похвалой, так как считают, что сознание сделанного добра уже само по себе достаточное вознаграждение. Но вы оказали услугу не только умершему, но и мне, и вам нелегко будет отделаться от моей благодарности. Вы должны непременно пойти со мной в замок, тем более что моя сестра, маркиза Гондревилль, была очень расположена к Бурдону и, наверно, захочет услышать от вас самих некоторые подробности.
– Завтра, граф, мы к вашим услугам, – сказал Эгберт, – а теперь мы отправимся в Гмунден.
– Нет, я не допущу этого, – возразил граф. – Вы пойдете в замок вместе со мной. Не оскорбляйте меня отказом…
– У нас даже нет с собой приличного платья, – сказал Эгберт под влиянием необъяснимого чувства, которое удерживало его принять приглашение графа, хотя он давно желал познакомиться ближе с так называемым высшим обществом, которое он знал только по романам и видал издали в Вене на Пратере.
Приятель Эгберта не мог понять причины его упорного отказа и досадовал, что таким образом лишится возможности провести приятно несколько дней. Но, пользуясь кошельком Эгберта, он не считал удобным идти против его желания и упорно молчал.
– Почему вы думаете, что мы, аристократы, придаем такое значение платью? – сказал граф. – Помимо кровавых уроков революции, мы всегда умели ценить людей не по одной внешности. Нет, Эгберт, ваши доводы неубедительны для меня. Я вижу вас не в первый раз и знаю, что вас пугает внезапный переход от одной обстановки в другую. Вы, вероятно, уже составили себе целый план, как вы пойдете к озеру в лунную ночь и будете рассуждать с приятелем о разных высоких материях, о конечных причинах смерти, земном ничтожестве и тому подобном. Но, кажется, ваш приятель веселее смотрит на жизнь и согласится со мной, что после такого дня стакан хорошего вина – вещь не лишняя. Помогите мне, господин Шпринг, уговорить его принять мое приглашение.
– Вы как будто прочли в моей душе, граф! – сказал Гуго. – Я не в состоянии погружаться в бездну бесконечности и философии, как Эгберт, и избегаю этого, как холодной ванны. Даже у великого Шекспира высокое сменяется комическим, картины смерти и веселья идут у него рука об руку. В этом вся мудрость жизни. Пойдем в замок, Эгберт. Разве ты хочешь быть мудрее Шекспира?
– Вам уже нечего возражать на это, Эгберт, – сказал, улыбаясь, граф Ульрих. – Вдобавок вам необходимо знакомиться со светом и людьми. Уж я столько раз говорил вам это; не заставляйте меня возвращаться опять к старой теме…
– Я к вашим услугам, граф, – сказал Эгберт, чувствуя, что неловко заставлять себя упрашивать так долго, тем более что граф, видимо, торопился к своим гостям.
– Ну, так пойдемте скорее, – сказал граф.
Неизвестно, стал ли бы он при других обстоятельствах так настойчиво приглашать к себе в дом людей без имени. После услуги, оказанной молодыми людьми, чувство благодарности и правила гостеприимства не позволяли графу отпустить их в гостиницу, которая была за час ходьбы от замка, но он мог предложить им ночлег и ужин в своем доме, не приглашая их в общество своих гостей и родных. Если бы Эгберт имел более верное понятие о свете, чем то, которое составил себе из окон своей студенческой квартиры, из чтения романов и театральных представлений, а Гуго был не так беззаботен и самоуверен, то они, наверно, заподозрили бы какую-нибудь затаенную цель в чрезмерной любезности гордого дворянина.
Цель эта обнаружилась, как только они вошли с графом в освещенную залу.
– Вот так сюрприз! – сказал граф, обращаясь к своим гостям. – Только молодость способна на подобные вещи. Приехать издалека, чтобы попасть к концу ужина! Позвольте представить вам прекрасного юношу, господина Эгберта Геймвальда из Вены, отчасти моего воспитанника, и господина Гуго Шпринга, будущего принца Гамлета. Давайте нам скорее вина; после дальней дороги всегда мучит жажда.
Представив таким образом незнакомых людей, граф отвлек от себя внимание общества и отчасти объяснил свое долгое отсутствие. Вслед за тем граф подошел к Пухгейму и сказал ему вполголоса, но настолько громко, что многие могли услышать его слова:
– Советую вам, барон, обратить внимание на этих молодых людей, которых можно считать украшением нашего австрийского бюргерства.
Цель графа Вольфсегга была вполне достигнута.
Неожиданное появление двух незнакомцев настолько поглотило внимание общества, что никому и в голову не приходило справляться о причинах долгого отсутствия хозяина дома, так как приезд молодых людей достаточно объяснял его. Друзья графа тотчас же решили, что Эгберт и его приятель явились в замок не с простым визитом, а с каким-нибудь тайным поручением из Тироля, Пруссии или Вестфалии, так как недовольство против иноземного владычества достигло крайних пределов в тогдашней Германии. Бонапарт хотел насильственно заставить немецкий народ признать свое господство; и эта цель проводилась в жизнь нагло и открыто его братьями и маршалами и втайне его вассалами – князьями Рейнского союза. В это время среди немецких патриотов опять воскресла надежда, что австрийский королевский дом возьмет на себя инициативу освобождения Германии и отстоит ее в решительной борьбе с помощью своего гордого и могущественного дворянства. Ко всем знатным и богатым дворянским родам в Австрии посланы были патриотические воззвания, и те изъявили полную готовность пожертвовать жизнью и всем своим богатством для общего дела. Казалось, вернулись снова времена римского Цезаря и его легионов. Положение дел было такое же отчаянное, как и в первые времена германской истории, когда в Гессене и вдоль Рейна стояли римские укрепления и сторожевые башни, а ликторы Вара проходили через леса и деревни с топором и бичом в руках. Как тогда, так и теперь, вся Германия была одушевлена желанием свободы и надеждой освободиться от иноземного ига.
Против Бонапарта составился тайный заговор целого народа; все сословия Германии, соединенные узами братской любви и взаимной верности, вооруженные ненавистью против общего врага, ожидали часа, когда Австрия позовет их на защиту родины. Чувство патриотизма в это время было сильнее вековых традиций и сглаживало разницу состояний и старый сословный антагонизм. Похвалы, расточаемые графом обоим юношам, были приняты его друзьями как доказательство, что и они принадлежат к великому союзу и что им подготовили самый дружелюбный прием. Эгберт совсем растерялся от приветствий всех этих знатных господ, которые наперебой жали ему руку, а молодой Ауерсперг в порыве чувств даже неожиданно заключил его в свои объятия. Не менее приветливо обошлась с молодыми людьми и сестра хозяина, маркиза Гондревилль.
В пользу Эгберта говорило и то, что его фамилия была известна в высшем обществе. Отец Эгберта в свое время был одним из лучших врачей в Вене, и многие из присутствующих были обязаны ему или своей жизнью, или спасением своих родных от тяжелой болезни.
Эгберт держал себя очень скромно и с тем тактом и достоинством, которое дается хорошим образованием, хотя ему недоставало светского лоска и той свободы обращения, которая была заметна в манерах его приятеля Гуго и которая приобретается только навыком. Очутившись в совершенно незнакомом обществе, молодые люди из боязни сказать что-нибудь лишнее отвечали уклончиво на все вопросы об их путешествии и слухах об испанском восстании и свидании двух императоров.
Граф Ульрих, внимательно наблюдавший за ними все время, остался вполне доволен поведением обоих юношей и, успокоившись на их счет, взглянул в ту сторону, где сидел Цамбелли.
Итальянец, со времени возвращения графа в залу, не двигался с места и, казалось, весь был поглощен беседой с прекрасной Антуанеттой, которая стояла напротив него в дверях балкона. Граф не мог разглядеть лица Цамбелли, потому что он сидел спиной к обществу и только раз поднял руку, как будто указывая на утес по ту сторону озера. Антуанетта стояла с поникшей головой, и в ее роскошных волосах, причесанных, как у греческих статуй, живописно отражался серебристый отблеск луны. Глядя на нее, трудно было решить – исполняла ли она только приказание дяди занять этого опасного человека, или сама поддалась обаянию его увлекательного красноречия.
Остальное общество не обращало никакого внимания на одинокую пару; одни пили, другие весело болтали с молодыми людьми, подоспевшими вовремя, чтобы разогнать скуку, которую уже начали ощущать собравшиеся гости после многих часов, проведенных вместе.
– Кто на земле может назвать себя счастливым, – сказал Цамбелли грустным тоном, обращаясь к своей собеседнице, – и, наконец, что такое счастье? Если оно обусловливается спокойствием и довольством, то разве оно достижимо для людей? Разве страсть бывает спокойна, и может ли человек удовлетвориться тем, что он имеет, даже если он достиг цели всех своих стремлений? Я бы не говорил с такою уверенностью, если бы люди, достигшие богатства и могущества, научились умерять свои требования. Мне кажется, что из всех в этой зале только один человек близок к счастью.
– Кто же это?
– Ваш дядя, графиня. Помимо его личных достоинств, ума, завидного положения и богатства, он еще пользуется редким преимуществом – желать возможного. Быть может, меня обманывает его внешнее спокойствие и он требует от судьбы больше, нежели она дает ему; но этого не видно. Его жизнь полна гармонии; по сравнению с ним все остальные люди кажутся мне какими-то надорванными, жалкими и несчастными.
– Между тем действительность прямо противоречит вашим словам, – сказала Антуанетта. – Посмотрите на этих людей, как они веселы и как приятно проводят время и вдобавок спят таким непробудным сном, которому можно позавидовать.
– Масса, – возразил Цамбелли, – всегда напоминает мне тех насекомых, которые родятся и умирают в один и тот же день; разве ей доступно счастье, глубина горя, слава, бессмертие?.. Если тупость ума и нечувствительность сердца составляют счастье… то кто же может желать подобного существования! На противоположных полюсах человечества стоят немногие избранные, которые ясно понимают цель своих стремлений и неуклонно идут к ней: на одном полюсе баловни судьбы, достигшие своей цели, с челом, увенчанным лаврами, на другом – несчастные, сгорающие на собственном огне неудовлетворенных желаний; между ними бушует темное и безымянное человеческое море, существующее только для этих немногих избранных. Если бы оно могло чувствовать и сознавать свою участь, то она сделалась бы невыносимой для него. Людей можно разделить на три разряда: одни сделаны из воска, другие – из стали, а третьи – из кожи. Воск тает от солнца, сталь разлетается под ударами молотка, но кожу не берет ни молоток, ни солнце.
– Все это очень остроумно, шевалье. Но я не понимаю, какое вы имеете основание издеваться над обществом и смотреть свысока на все человечество?
– Какое я имею основание! И вы говорите мне это, графиня; вы, единственная, от которой я ожидал, что она поймет меня, потому что знает муку неудовлетворенных желаний и потому что ее душа слишком возвышенна и горда для этих людей…
Видя, что молодая девушка робко отступила на балкон, смущенная его словами, итальянец решился продолжать:
– Нет, я не ошибся, графиня Антуанетта. Вы принадлежите к тем прекрасным, но несчастным натурам, которые не довольствуются обыденной жизнью. Разве может удовлетворить вас однообразная жизнь в одиноком замке, где вы должны довольствоваться исполнением дочерних обязанностей и выслушивать день за днем любовные объяснения добросердечных деревенских юношей, быть королевой среди крестьян; разве эта участь достойна вас! Конечно, она совпадает с понятием о предназначении женщин, которое составилось у вашего дяди и у здешних господ, требующих от женщины рабского подчинения мужчине. Такой взгляд должен возмущать вас, и вы должны рано или поздно разорвать свои оковы.
– У вас богатая фантазия, шевалье, – холодно заметила Антуанетта, – и я не понимаю, как могли вы истолковать таким образом то грустное настроение, в котором вы видели меня иногда и которое было непосредственно вызвано тяжелыми обстоятельствами моего семейства. А если я однажды в вашем присутствии пожелала иметь крылья, чтобы улететь на какую-то звезду, то это такое ребячество, о котором говорить не стоит.
– Если можно назвать ребячеством стремление к лучшей жизни и предпочтение высот перед низменностями. Но вы несправедливы к себе, графиня. Выражение вашего лица противоречит вашим словам. Разве мысль о свободе не улыбалась вам за минуту перед тем, когда глаза ваши следили за облаками… и как будто искали в них решения мучивших вас вопросов? Не думайте, что я претендую на ваше доверие – я далек от такой смелости и помню разницу нашего общественного положения. Только ночные мотыльки летят на огонь и обжигают себе крылья. Но мне не хотелось остаться непонятым. Несмотря на то, что я постоянно окружен людьми, я чувствую себя одиноким, так как у меня нет ни родных, ни друзей. Мне казалось, что в вас я найду отголосок моим страданиям, и я осмелился заговорить с вами о том, в чем вы боитесь сознаться даже перед собою. Если это преступление, то простите меня…
– Мне нечего прощать вас, – сказала Антуанетта. – Каждый из нас убежден, что может читать в душе другого.
– И свое собственное настроение приписывает другим, – добавил Цамбелли. – Недовольному кажется, что весь свет чувствует то же, что и он. Но так как я уже отчасти начал свою исповедь, то позвольте закончить ее. Ваш дядя упрекает меня в непомерном честолюбии и еще в одном пороке, о котором умалчивает из вежливости, – в крайней бедности. Последнее побуждает меня завидовать богатым, между тем как всем кажется, что я только насмехаюсь над ними. Меня постоянно мучит беспокойное желание возвыситься над толпой. Это желание нельзя назвать ни преступным, ни безумным. Действительность превосходит подчас самые невероятные мечты. Кто мог ожидать, что разрушится старый свет? Разве не поучителен пример Наполеона Первого, его жены, сестер, братьев, маршалов, которые еще так недавно вышли из ничтожества, а теперь занимают чуть ли не самые старые престолы Европы? Ввиду этого у каждого честолюбивого человека может появиться естественное желание принять деятельное участие в этой грандиозной и дикой охоте за счастьем, которую революция открыла для всех с одинаковыми шансами поймать добычу.
– Или погибнуть, – возразила Антуанетта.
– Конечно, не все могут быть победителями. Но лучше умереть в борьбе, чем оставаться в ленивом бездействии; лучше погибнуть от землетрясения, чем спокойно умереть в постели от старости и болезни.
– Значит, вы предполагаете во мне ту же потребность борьбы и волнений? – с живостью спросила Антуанетта.
Цамбелли собирался ответить, но в этот момент маркиза Гондревилль позвала свою дочь.
Эгберт, стоявший около маркизы, увидел идущую через залу прекрасную, стройную фигуру молодой девушки в белом легком платье. Ее изящные, обнаженные руки, тень неудовольствия и раздумий на лице, грустный и почти мрачный взгляд, который она бросила на него, – все это вместе произвело на Эгберта неизгладимое впечатление. Он никогда не видел такой женщины, и она показалась ему видением, которое должно исчезнуть так же внезапно, как оно появилось. Он не понял, что сказала маркиза своей дочери, видел только, как та протянула ему руку и сказала что-то своим звучным, приятным голосом. Машинально и как будто во сне он прикоснулся к ее руке; затем ему казалось, что они говорили о чем-то между собою, но это были для него слова без содержания, которые совершенно изгладились из его памяти. В пылу восторга он забыл, где он. По счастью, никто не мешал ему предаваться своим размышлениям, так как в этот момент все забыли о его существовании. Было уже около полуночи, и гости поднялись со своих мест. Граф и сестра его, переходя от одной группы к другой, уговаривали их остаться по крайней мере до двенадцати часов. Пухгейм раньше всех заявил о своем согласии.
– Наш хозяин прав, как всегда, – сказал он своим громким голосом, – не мешает выпить на прощанье еще стаканчик вина. На земле все дело одной минуты; кто знает, может быть, мы завтра же разойдемся в разные стороны, как Наполеон с Александром Первым?
Заявление это встретило общее одобрение, и тотчас же по распоряжению хозяина появились слуги с налитыми стаканами вина на серебряных подносах. Молодые девушки и дамы окружили Антуанетту, чтобы договориться с нею о предстоящей прогулке.
Эгберт удалился с середины залы в одну из глубоких стенных ниш, чтобы насладиться лицезрением Антуанетты. Он невольно сравнивал ее с окружавшими ее подругами, и она казалась ему неизмеримо лучше и прекраснее всех их. При одной мысли, что он опять увидит ее на следующий день, им овладела такая радость, какую он не испытывал в жизни; его мечты в эту минуту не простирались далее этого.
В это время к Антуанетте подошел Цамбелли, и ее образ тотчас же затмился для Эгберта при виде его мрачной фигуры с темными волосами и бронзовым цветом лица. Влюбленный юноша чувствовал, как судорожно сжалось его сердце, когда он заметил, что в этот момент яркая краска покрыла щеки молодой девушки.
– Что вы так удалились от нас, Эгберт? – сказал граф, проходя мимо него. – Вы, верно, устали от сегодняшнего дня, но я надеюсь, что вы отдохнете в моем доме.
– Кто этот господин, который разговаривает с графиней? – спросил с живостью Эгберт. – У него такая наружность, которая невольно обращает на себя внимание.
– Не правда ли? Это, несомненно, самый выдающийся из моих гостей. Его зовут Витторио Цамбелли. Он родом из итальянского Тироля, младший сын одной дворянской фамилии. Хотите, я познакомлю вас с ним?
– Нет, граф, я не желаю этого.
В эту минуту кто-то из гостей позвал графа, и Эгберт остался один.
На другой стороне залы ненавистный для него человек, имя которого он только что узнал, разговаривал с молодой графиней о каком-то важном и тайном деле. Эгберт заключил это из того, что подруги Антуанетты отошли от нее и она осталась одна с итальянцем. Она отвечала ему односложно, но слушала его очень внимательно. У Эгберта появилось сильное желание помешать их разговору, и он уже сделал несколько шагов, чтобы подойти к ним, однако светские обычаи и привычки оказались сильнее ревности. Но то, что он увидел теперь, превзошло все его ожидания. Цамбелли наклонился к руке Антуанетты и прижал ее к своим губам. Эгберт ждал, что девушка с негодованием вырвет у него руку и не потерпит такого осквернения. Но правая ее рука оставалась в его руке… При виде этого вся кровь прилила к сердцу Эгберта, и он, не помня себя, подошел к ним быстрыми шагами.
Оживленная беседа графини с итальянцем, по-видимому, рассердила еще одного человека, который не счел нужным скрывать своего неудовольствия и имел на это больше прав, чем Эгберт. Это был молодой Ауерсперг, который подошел к Цамбелли с таким вызывающим видом, что тот поспешно отпустил руку Антуанетты и простился с нею с почтительным поклоном. Но, избегая ссоры со своим вспыльчивым противником, Цамбелли так быстро отвернулся от него, что столкнулся с Эгбертом.
– Извините меня, милостивый государь, – сказал Цамбелли, взглянув в лицо юноши.
Он не обратил никакого внимания на волнение Эгберта, потому что ему и в голову не приходило, чтобы тот мог чувствовать к нему ненависть, не обменявшись с ним ни единым словом. Но его живо интересовала личность молодого бюргера, с которым граф обходился как со старым знакомым и которому маркиза, эта гордая аристократка, помешанная на тщеславии, выказывала чуть ли не материнскую нежность. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания Цамбелли, несмотря на его философские рассуждения с Антуанеттой о свете и человеческой судьбе.
«Если тут скрывается какая-нибудь тайна, – подумал он, – то нетрудно будет раскрыть ее, потому что этот белокурый юноша кажется мне олицетворением откровенности».
– Извините меня еще раз, – продолжал Цамбелли своим изысканно вежливым тоном. – Если я не ошибаюсь, то видел вас сегодня, милостивый государь, в Ламбахе?
– Это невозможно, потому что я не был в Ламбахе, – коротко ответил Эгберт.
– Неужели я ошибся? – сказал Цамбелли в надежде вызвать юношу на откровенность. – Это было на большой дороге; я ехал верхом из Гмундена, вы шли с севера.
Дерзкая навязчивость итальянца вывела из терпения Эгберта, и он решил отплатить ему той же монетой.
– Какое странное совпадение! – сказал он, стараясь сохранить хладнокровие. – А я так положительно убежден, что видел вас у мельницы Рабен.
Эгберт назвал первое попавшееся место, которое пришло ему в голову, но Цамбелли сильно смутился и отступил назад с видом человека, перед которым открывается пропасть.
– Значит, это была игра моей фантазии, – сказал Цамбелли, – если только вы не имеете двойника. В будущем этого не случится, потому что лицо ваше никогда не изгладится из моей памяти.
– Я также не забуду вас, – ответил Эгберт тем же тоном.
В этот момент мимо него прошла Антуанетта, провожавшая своих подруг. Ее гордый и спокойный вид отрезвил Эгберта. Что за безумная мечта овладела им! Какое ему дело до молодой графини и до того, кто нравится ей? Разве он может играть какую-нибудь роль в этом обществе, в которое он попал только благодаря случаю и помимо своей воли!
Печальные размышления Эгберта были прерваны хозяином дома, который, подойдя к нему, положил руку на его плечо.
– Вы отлично держали себя, Эгберт, – сказал он. – Первый шаг сделан, а это самое трудное! К обществу вовсе не так трудно привыкнуть, как это кажется с первого взгляда.
– Я не понимаю вас, граф. Но мне кажется, что тот мир, о котором вы говорите, навсегда останется мне чужим и никогда не будет мне по душе.
– Может быть, я ошибся, но мне показалось, что вы имели неприятный разговор с итальянцем и уже, вероятно, считаете его своим врагом. Но верьте мне, что неприязненные отношения иногда бывают полезнее дружбы. Однако мне нужно провожать моих гостей. Желаю вам спокойной ночи. Антон позаботится о вас и вашем приятеле.
Кругом слышались отрывочные восклицания:
– Счастливого пути!
– До свидания.
– Дня через три, если погода не испортится, устроим прогулку по озеру.
– Да, непременно!
– Какая отличная охота была у нас сегодня!
Среди всех этих отрывочных разговоров, приветствий и пожимания рук то тут, то там слышались изъяснения в дружбе и братские поцелуи, которым немало способствовало вино хозяина. Но всех дольше и нежнее прощались молодые девушки с Антуанеттой. Слуги ждали господ со шляпами и шинелями в руках; во дворе, фантастически освещенном горящими факелами, стояли запряженные экипажи, фыркали лошади и нетерпеливо били копытами о землю.
Эгберт и Гуго, усталые и отчасти ошеломленные непривычным блеском и роскошью, вышли незаметно из залы и последовали за управляющим, который со свечой в руках проводил их в приготовленную для них комнату в верхнем этаже замка.