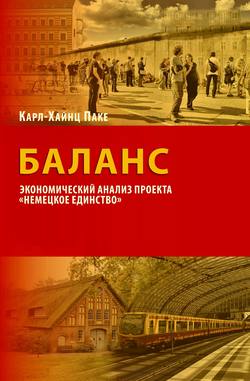Читать книгу Баланс. Экономический анализ проекта «Немецкое единство» - Карл-Хайнц Паке - Страница 7
2
Быстрый старт
2.1. Валютный союз
ОглавлениеВначале был валютный союз. Уже 1 июля 1990 г., т. е. за три месяца до государственного воссоединения, в еще существующей ГДР была введена немецкая марка. Для многих скептиков в вопросе объединения Германии валютный союз является своего рода первородным грехом, от которого средне- и восточногерманская экономика в последующее время так и не смогла избавиться.
В политическом отношении идея валютного союза возникла под давлением сложившихся обстоятельств. События развивались стремительно, во всяком случае, по сравнению с привычной скоростью принятия политических решений. Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 г. и решение федерального правительства от 7 февраля 1990 г. предложить правительству ГДР валютный союз разделяют всего лишь три месяца, наполненных интенсивными общественными дискуссиями о том, что следует предпринять, чтобы эффективно противодействовать полному коллапсу экономики ГДР. А этот коллапс уже стучался в дверь: ежедневно ГДР покидали до 3000 человек, дисциплина и производительность труда на предприятиях упали до минимума. Ханс Модров, занимавший в то время должность председателя правительства, даже заговорил о драматическом разрушении государственности. Все всякого сомнения, о целенаправленном, упорядоченном производстве больше не могло быть и речи. Господствовал хаос, и этого уже никто не отрицал. После первых свободных выборов в Палату народных депутатов 18 марта 1990 г. в течение двух месяцев между обоими немецкими правительства – Гельмута Коля и Лотара де Мезьера – шли переговоры о валютном союзе. 18 мая 1990 г. состоялось подписание государственного договора о создании с 1 июля 1990 г. «совместного экономического, валютного и социального союза».
В середине года он действительно был создан. Немецкий Бундесбанк вывел восточную марку из обращения, заменив ее на немецкую марку как в наличном, так и безналичном обороте. Банк в высшей степени профессионально выполнил эту огромную организационную задачу, спланировав всю работу с военной точностью, практически без ошибок и сбоев. За что он с полным основанием снискал похвалу самой широкой общественности. Кратко обозначим основные параметры обмена: заработная плата рабочих и служащих, пенсии, другие социальные пособия, а также арендная плата за жилье были переведены на немецкую марку в соотношении один к одному; долговые обязательства и денежные сбережения – в различном соотношении от одного к одному, от двух к одному или трех к одному.
Перед принятием политического решения состоялось всестороннее обсуждение всех «за» и «против» валютного союза. Многие частные вопросы, поднимавшиеся в ходе этих обсуждений, вытекали из конкретной ситуации того времени. Они почти не оставили каких-либо следов в коллективной памяти и почти не оказали влияния на позднейшую интерпретацию имевших место событий. То есть они сохранили свое значение только в исторической ретроспективе. Совершенно иначе обстоит дело с центральными аргументами, которые выдвигали сторонники и противники валютного союза. Эти последние на долгое время предопределили характер восприятия валютного союза и продолжают определять его в наши дни.
Каковы же были эти центральные аргументы? Сторонники видели настоятельную необходимость дать гражданам ГДР ясную перспективу в сфере денежных отношений как основу для принятия всех последующих экономических решений. С их точки зрения, это можно было сделать только в том случае, если Федеративная Республика Германии примет на себя обязанность предоставить гражданам на Востоке страны гарантию денежного обеспечения, однозначно сформулированную политически и не допускающую пересмотра на практике. Только тогда вообще появлялся шанс на то, чтобы на основе последующих мер предотвратить массовый исход большей части граждан из ГДР. Так как, говоря простым языком, хотя стабильные деньги – это еще не все, однако без стабильных денег все остальное не имеет смысла. Только со стабильными деньгами можно было создать такие рамочные условия, которые позволили бы принимать разумные последующие основополагающие решения в сфере экономической политики. Речь шла о внушающем доверие акте политического самоограничения, совершаемом с помощью высокоавторитетного центрального банка, в благонадежности и серьезности которого – после четырех десятилетий беспримерной стабильности немецкой марки – не было никаких сомнений. С передачей этой национальной задачи в руки Бундесбанка законодатель мог и был обязан использовать свою самую сильную политическую козырную карту и тем самым создать предпосылки для всех последующих действий.
Такова в общих чертах была аргументация. Она более или менее отчетливо прослеживается в высказываниях ответственных политиков, как, впрочем, и ученых-экономистов, в первую очередь в экспертных заключениях научного совета при федеральном министерстве экономики в ноябре – декабре 1989 г. и в марте 1990 г.[4] Ее можно назвать политически окрашенной, тем более что почти вся она, если додумать ее до конца, указывала на необходимость полного, т. е. государственного, воссоединения. Ведь, естественно, вряд можно было представить, что все закончится простой передачей ответственности центральному банку, если повсюду в Восточной Германии в обращении окажется немецкая марка.
Однако эта аргументация имела также важную экономическую составляющую. Поскольку она черпала свои идеи из основополагающей философии монетарных реформ, которые вот уже в течение ряда десятилетий повсюду в мире входят в стандартный набор инструментов экономической политики. Как правило, их используют после периодов тяжелых общеэкономических потрясений с приоритетной целью обеспечения надежности монетарной системы, причем по возможности в один прием, без того, чтобы в течение многих лет и десятилетий доказывать, что новые правительства или новые институты вообще способны создавать стабильность.
Многие валютные реформы в развивающихся странах и странах с переходной экономикой преследовали именно эту цель. При этом они всегда использовали инструменты, которые позволяли им балансировать на грани заимствования чужой надежной валюты, не делая, однако, последнего политически взрывоопасного шага, вводя на самом деле эту валюту в обращение и изымая из него свою собственную, что могло бы быть воспринято как национальное унижение. В этой связи можно, например, вспомнить Аргентину, которая в 1991 г. через так называемый механизм валютного управления (Currency Board) организовала 100-процентное обеспечение своей валюты долларами США в качестве резервной валюты только для того, чтобы продемонстрировать всему миру надежность своего нового курса на стабилизацию. Или Эстонию, которая в 1991 г. обрела независимость и уже в 1992 г. также пошла аналогичным путем, прибегнув к механизму Currency Board. Правда, при этом для обеспечения эстонской кроны использовалась немецкая, а позднее европейская валюта.
Действительно, можно было бы сказать: ГДР сделала то же самое, что позднее Эстония и Аргентина, с той только разницей, что она сделала на один шаг больше и сразу же ликвидировала собственный центральный банк по той простой причине, что монетарное обеспечение за счет Бундесбанка было воспринято не как политическое унижение, а как шанс. Естественно, что тем самым доверие к ней укрепилась несравнимо сильнее, чем это когда-либо имело место посредством валютного управления, так как в конечном счете последнее может быть вновь упразднено, если все еще существующий центральный банк под сильным политическим и экономическим давлением откажется от полного обеспечения собственной валюты за счет резервной. Собственно, так это и произошло, в конце концов, в январе 2002 г. в Аргентине. В результате страна потерпела огромные убытки в форме утраты доверия на международных рынках капитала. Напротив, Эстония до настоящего времени продолжает следовать прежним курсом. Однако в условиях мирового финансового кризиса ее надежность испытывает суровую проверку на прочность. Если страна ее выдержит, то, видимо, вскоре она перейдет на евро – точно так же, как Восточная Германия в 1990 г. перешла на немецкую марку.
Короче говоря, валютный союз раз и навсегда исключил возможность возврата к нестабильности. Поскольку было невозможно представить себе, что в ГДР немецкая марка когда-либо будет выведена из обращения – если только не путем введения европейской валюты, о которой, правда, в то время еще никто не говорил. Необходимо хорошо уяснить следующее; с помощью валютного союза был достигнут максимально возможный в мире уровень монетарной стабильности и надежности. Так как, за исключением швейцарского франка, не было другой валюты, которая могла бы предъявить похожую историю стабильности, как немецкая марка. Если помнить об этом, то тогда будет трудно рассматривать валютный союза исключительно как чисто политическое, а не как также экономическое решение. Поскольку экономическая история полна примеров, свидетельствующих о том, насколько важна для экономики валютная и ценовая стабильности, прежде всего в качестве гаранта низких издержек капитала.
Критики валютного союза никогда в принципе не оспаривали этот положительный аспект введения немецкой марки. Однако они высказывали предположение, что за него была уплачена слишком высокая цена. Острие критики было направлено главным образом против отмены в рамках валютного союза механизмов тонкого регулирования в сфере валютной политики. С их точки зрения, тем самым восточногерманская экономика была обременена тяжелым грузом финансовых обязательств, что не могло не иметь долгосрочных последствий. По этой причине для правильной оценки валютного союза необходимо еще раз тщательно рассмотреть эту аргументацию. Это тем более важно, что такой взгляд на вещи широко распространен и сегодня, причем в совершенно различных политических кругах – от экономистов-рыночников до далеких от экономики интеллектуалов и деятелей культуры[5].
О чем же на самом деле шла речь? У кого есть собственная валюта, тот в принципе имеет свободу выбора между тремя возможностями. Он может ограничить конвертируемость валюты с помощью государственного контроля над хождением валюты. Или отпустить курс своей валюты «в свободное плавание» («free floating»), поставив его в зависимость от свободной игры рыночных сил на международных рынках капитала и товаров. Или, наконец, привязать конвертируемую валюту к другой якорной валюте, оставив при этом для себя открытой опцию время от времени проводить девальвацию или ревальвацию своей валюты по отношению ко всем другим мировым валютам в зависимости от общеэкономической потребности. Именно от этих трех возможностей – и только от них – отказались при создании валютного союза. Поэтому возникает большой вопрос: какую ценность на самом деле имели эти три возможности?
Первая возможность – ограничение конвертируемости – с самого начала не рассматривалась, по крайней мере вне рамок очень короткого временного интервала. Поскольку она означала бы, что ГДР будет продолжать ту же политику, которая во многом виновна в ее бедственном положении, а именно: политику изоляции от мирового рынка. Пока в Германии существует свобода передвижения и свобода торговли, реализация этой возможности имела бы абсурдные последствия: восточные немцы, хотя и могли бы в этом случае посещать страны Запада, но они практически ничего не могли бы купить на заработанные дома деньги – совсем как прежде. А на товарных прилавках обычных восточногерманских магазинов розничной торговли, видимо, отсутствовали бы западногерманские товары, так же как и прежде. Соответствующей была бы и собственная оценка людей своего заработка как заработка с ограниченной покупательной способностью, т. е. только для приобретения продуктов с Востока, опять-таки совсем как прежде. В результате мы имели бы отток людей, ищущих работу на Западе. Помешать этому могло только ограничение свободы передвижения и свободы торговли, т. е. сооружение новой «берлинской стены». Такое развитие событий, естественно, невозможно было себе даже представить.
Вторая возможность – свободный плавающий курс («free floating») восточной марки – также имела скорее авантюрный характер и также никогда всерьез не рассматривалась. Поскольку валюта страны, перед экономикой которой после открытия границ встала задача глубочайшей структурной адаптации, вне всякого сомнения, испытала бы мощные колебания своей стоимости на финансовых рынках. Хуже того:
на обозримый период времени с большой степенью вероятности рынок оценил бы эту стоимость экстремально низко. В результате произошло бы также экстремальное сокращение размера заработной платы на Востоке, пересчитанной на немецкую марку. Последствия были бы катастрофическими: или массовый отток населения, или инфляция заработной платы и цен, которая еще больше обесценила бы валюту на рынке, не говоря уже о потери доверия к любой программе реформ. Международная стоимость валюты при гибком курсе является важнейшим показателем успешности стабилизационных мер. В действительности в Центральной и Восточной Европе после 1989 г. практически не было ни одной страны, которая пошла бы этим путем, хотя там существовали более благоприятные предпосылки для такого рода политики, чем в ГДР, поскольку трансграничная мобильность населения в этих странах была однозначно ниже.
Таким образом, оставалась только третья возможность – привязка к одной из якорных валют, которой, учитывая сложившееся положение, естественно могла быть только немецкая марка. Собственно говоря, к этому сводилось главное предложение, прозвучавшее в то время в ходе широких обсуждений. Оно в очень обоснованном виде было представлено «пятью мудрецами», т. е. экспертным советом по анализу экономического развития, в специальном заключении от 20 января 1990 г.[6] Совет рекомендовал учреждение независимого центрального банка ГДР, который должен был бы обеспечить для восточной марки твердый обменный курс по отношению к немецкой марке, а также в максимально короткие сроки переход к конвертируемости. Такая привязка к немецкой марке дала бы в руки центрального банка ГДР важный инструмент для решения задачи регулирования денежного обращения таким образом, чтобы была гарантирована денежная стабильность.
Примерно к этому сводились все рекомендации для новой валютной политики ГДР. Как ни странно, они выглядели весьма далекими от реальной действительности, причем как в экономическом, так и в политическом отношении. С экономической точки зрения сразу же возникал вопрос: кто должен был гарантировать привязку обменного курса? Вряд ли это мог быть вновь созданный центральный банк ГДР, поскольку он не располагал ни достаточными резервами девиз, ни надежностью финансового института с давно устоявшимся авторитетом, способного проводить политику денежной стабилизации. Только Бундесбанк был бы в состоянии предоставить в этих целях соответствующие гарантии. Он должен был бы, если и не в юридическом отношении, то по крайней мере на практике взять на себя проведение всех рыночных операций, чтобы обеспечить твердый обменный курс немецкой марки к восточногерманской валюте, каким бы он ни был. При этом с экономической точки зрения не имело бы ровно никакого значения, взялся бы он сам за поддержание курса на установленном уровне или же поручил это центральному банку ГДР (и за счет межгосударственных трансфертов или кредитов позаботился о том, чтобы тот в любой момент располагал для этого необходимыми резервами).
Теоретически все это можно было себе представить. Однако возникает вопрос, какой смысл имела бы такого рода конструкция. Речь в этом случае шла бы о судорожной попытке каким-то образом найти путь, чтобы использовать надежность Бундесбанка в целях стабилизации валюты ГДР, не выводя из обращения восточногерманскую марку. В условиях огромного недоверия населения ГДР к собственной валюте такое решение практически означало бы создание Бундесбанком внутригерманского «Currency Board» при высокой степени обеспечения восточногерманской марки маркой ФРГ. В результате каждый гражданин ГДР, который этого желал, мог бы в любое время обменять свои восточногерманские марки по твердому курсу на немецкую марку. Странная идея, поскольку в этом случае совершенно очевидно возникает вопрос о том, почему сразу же не сделать последний шаг к валютному союзу, имея в виду высокую степень всеобщего доверия к заявленным мерам и необратимость ожидаемых результатов.
Существование центрального банка ГДР «на содержании» было бы совершенно немыслимо и с политической точки зрения. Бундесбанк должен был бы – как и в ходе валютной реформы – взять на себя колоссальную ответственность, не получив одновременно полного контроля над системой денежного обеспечения в ГДР. Тем самым была бы открыта дверь для нерешаемого конфликта в теперь уже общем доме. То есть или со всей серьезностью вести дело к денежной стабильности и в этом случае при необходимости пойти на девальвацию восточной марки, или последовательно защищать курс восточногерманской марки, эквивалентный курсу марки ФРГ, что поставило бы под удар денежную стабильность в Западной и Восточной Германии. Такой конфликт превратил бы Федеративную республику в арену будущих ожесточенных политических сражений. Короче говоря: это был бы рецепт, пригодный только для того, чтобы подорвать надежность банка. Но именно этого и удалось избежать, предложив прозрачное решение вопроса в рамках валютного союза.
В действительности никто из критиков валютного союза никогда всерьез не ставил этих неудобных вопросов, не говоря уже о том, чтобы дать на них удовлетворительные ответы. Они вновь и вновь заявляли, что как-нибудь удастся выйти на правильный обменный курс и тем самым избежать изменений паритета и широкомасштабных финансовых поддерживающих мер. В частности, экспертный совет предложил выбрать в качестве пригодного ориентира для определения правильного твердого обменного курса цены мирового рынка на торгуемые товары, произведенные на предприятиях ГДР. Имелось в виду, что эти товары с учетом установленного обменного курса станут конкурентоспособными. В результате, как считали, было бы достигнуто своего рода внешнеэкономическое равновесие, которое после введения конвертируемости приобрело бы устойчивый характер[7].
Сегодня, по прошествии времени, такой взгляд на вещи кажется весьма далеким от действительности. Как бы там ни было, в 1990 г. ГДР, избавившись от вакуумного колпака социализма, оказалась перед необходимостью тотальной переоценки своей промышленной продукции на мировом рынке. При этом эта переоценка могла быть сделана только в сторону уменьшения ее стоимости. А это, в свою очередь, означало бы значительное снижение уровня заработной платы, пересчитанной на немецкую марку. Поскольку мобильность рабочей силы препятствовала ее адаптации к более низкой оплате труда, то производство соответствующих товаров просто бы прекратилось. По этой причине чистой иллюзией было бы внешнеэкономическое равновесие при обменном курсе и уровне заработной платы, которые могли бы удержать людей на Востоке страны.
Здесь мы вновь сталкиваемся с основной экономической проблемой, возникшей вследствие падения Берлинской стены. С открытием границы восточногерманская рабочая сила обрела мобильность. При этом как бы походя она также разрушила возможность для обеспечения конкурентоспособности – благодаря более низкой внешней стоимости собственной валюты – тех продуктов, которые они сами изготавливали в ГДР. Граждане ГДР теперь пересчитывали свою заработную плату, номинированную в восточногерманских марках, на немецкую марку, тем более что значительная часть товаров, которые они хотели потреблять сами, производилась на Западе страны и должна была быть оплачена в немецких марках. Реакцией на слишком сильное уменьшение выраженного в немецкой марке стоимостного содержания заработной платы, номинированной в восточногерманских марках, была бы в результате девальвации валюты миграция рабочей силы на Запад. То есть девальвация как инструмент восстановления конкурентоспособности оказалась бы совершенно непригодной – в силу такого фактора, как обретенная свобода передвижения. Поэтому цена полного отказа от такой меры была бы не слишком высока.
Заметим, что этот вывод полностью вписывается в теоретические представления, которые были широко распространены в экономической науке уже в то время. Например, так называемая теория оптимального валютного пространства уже с 1960-х годов занимается вопросом о том, при каких условиях для какой-либо страны было разумно отказаться от суверенитета в валютной политике[8]. Центральным критерием при этом является эффективность влияния изменений паритетного соотношения на международную конкурентоспособность экономики и тем самым степень гибкости, с которой рабочая сила этой страны реагирует – в виде миграции и требований увеличения оплаты труда – на уменьшение внешней стоимости своей заработной платы. Чем больше эта гибкость, тем более убедительно выглядит аргумент в пользу валютного союза. Ситуация в Восточной Германии после падения Берлинской стены дает прямо-таки хрестоматийный пример очень высокой степени гибкости.
Ко многим примечательным особенностям бурных месяцев после падения стены относится та, что даже наиболее хорошо подготовленные наблюдатели не увидели или не захотели увидеть эти взаимосвязи. Так, 9 февраля 1990 г. экспертный совет направил в адрес федерального канцлера письмо с настоятельным предостережением от заключения валютного союза[9]. Среди прочих аргументов был и такой: единство валюты сразу же выявит серьезную разницу в уровнях жизни на Востоке и на Западе. Ставшая явной, эта разница породит ожидания на их выравнивание, которые, в противном случае, очевидно, не возникли бы и которые далеко выходят за рамки возможного, учитывая существующую производительность труда на Востоке. Такая точка зрения, которая дожила до наших дней, смешивает причину и следствие. Так как понимание этой разницы, которое, по мнению экспертного совета, является следствием валютного союза, существовало еще задолго до падения Берлинской стены. Ведь каждый восточный немец мог без труда подсчитать в уме, что означает его заработная плата в восточных марках в пересчете на западную марку. И именно на основе этого понимания он мог принимать свои решения – искать работу на Западе страны, требовать более высокую заработную плату на Востоке и т. д. Введение немецкой марки в этом отношении почти ничего не изменило. Одним словом, эта проблема уже существовала, и речь шла только о том, как интерпретировать ее политически.
Возможно, что именно в неверном истолковании причинно-следственных связей кроется ответ на вопрос, почему экспертный совет и другие ученые столь скептически отнеслись к валютному союзу. Для многих советников из академических институтов было некомфортно оказаться в общественной ситуации, которая почти не оставляла сколь-либо по-настоящему серьезных возможностей для маневра. Поэтому ученые были поставлены перед не слишком привлекательным выбором. Они могли прямо посмотреть в глаза неприятной реальности и высказаться в пользу практически неизбежного или еще немного времени отрицать эту реальность, сохранив за собой роль увещевателей-скептиков. Первая возможность таила в себе большой риск того, что позднее на них вместе со всеми политиками будет возложена ответственность за огромные трудности, с которыми следовало считаться и после создания валютного союза. Другая возможность была связана с опасностью через какое-то время снискать себе недобрую славу оторванных от реальной жизни кабинетных ученых. Не все из них, но многие выбрали эту вторую.
Немецкие дебаты
Интеллектаульной элите не понравился валютный союз
«Белендорф, 29.6.90. Заголовок для еще не написанной полемической статьи“ Выгодная покупка под названием ГДР”, при этом следует признать, что северогерманское выражение“ выгодная покупка” как ни одно другое характеризует современную безыдейную ментальность капиталистического рвачества».
Это цитата из книги «По пути из Германии в Германию. Дневник 1990» Гюнтера Грасса, опубликованной в январе 2009 г. Из приведенного отрывка становится понятным, как большой писатель и лауреат Нобелевской премии оценивает валютный союза ко времени начала обмена денег: как неоколониалистский захват западногерманским капитализмом ГДР. Здесь Гюнтер Грасс выразил то, о чем тогда думали и все еще продолжают думать многие интеллектуалы.
Этот радикальный приговор, если сопоставить его с фактами, собственно говоря, несостоятелен, как экономически, так и политически. Его место – среди мифов. Но как этот миф возник? И почему он остается столь живым до настоящего времени? Ответ не имеет никакого отношения к экономике, но исключительно к германскому духу и его идеалистической склонности быть оторванным от реальности. С падением Берлинской стены целый класс немецких интеллектуалов оказался перед лицом фактов, которые противоречили их собственной картине мира. Неожиданно появились многие тысячи людей, которые были готовы отвернуться от своей родины, чтобы заново обустроить собственную судьбу и судьбу своих семей, причем сделать это на Западе. Как и переселенцы, которые в ХIХ веке собрали свои пожитки и отправились в Америку – не из любви к Америке, а потому, что не имели никаких жизненных перспектив у себя дома. Это была самая элементарная форма использовать свободу, ту самую свободу, которая и теперь прокладывала себе дорогу, высвобождая огромную энергию.
Эта была совершенно новая для немцев ситуация. В течение немногих недель в небытие канули все тщательно прорисованные соображения по поводу различного рода стратегий осторожной, поэтапной адаптации. Пространство для политического маневра было сужено до предела. Более того, в новой ситуации все идеалистические умозаключения утратили свое обоснование. Это был травмирующий опыт для духовной элиты, привыкшей в качестве моральной инстанции к повсеместному самому серьезному отношению к себе со стороны общественности. Так было и на Востоке и на Западе, поскольку и там и тут чистая идея в одночасье обесценилась. Реальность отбросила ее на обочину. Это обстоятельство объясняет раздраженную тональность «Дневника» Гюнтера Грасса каждый раз, когда он говорит о немецком единстве. При чтении чувствуется досада наставника нации ввиду неизбежности надвигающихся событий. И его нескрываемое раздражение в связи с тем, что даже Вилли Брандт, его старый друг и политический соратник, по всем существенным пунктам согласен с канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Гансом-Дитрихом Геншером.
От этого шока от столкновения с реальностью только один маленький шаг до упрека в неоколониализме. Ведь как иначе можно с этой точки зрения охарактеризовать введение немецкой марки, если не как подготовку внезапного захвата слабого Востока сильным Западом? Только как соблазнение людей, чтобы помешать им идти своим собственным путем в рамках собственной экономической системы, путем между капитализмом и социализмом. Лишь немногие интеллектуалы, в первую очередь Моника Марон и Хельга Шуберт, решительно выступили против этой точки зрения. Они справедливо указали на то, что валютный союз был создан только потому, что люди в Восточной Германии отказывались в очередной раз быть объектом для экспериментов с неочевидным исходом. Люди использовали свою свободу. Они хотели получить то, что уже имеют другие, и ничего сверх того. И политики не могли не отреагировать на эти настроения.
С учетом реальностей жизни это было, очевидно, умное решение. Поскольку политики, приняв ответственность за валютный союз, на самом деле вызвали на себя огонь всех тех недовольных, которые желали получить более выгодный экономические результат, хотя при этом были не в состоянии сами показать, каким образом этот результат можно было достичь на практике. Вина политиков была действительно очень велика. Знаменитые слова Гельмута Коля, сказанные им по поводу создания валютного союза о том, что на Востоке возникнут «цветущие ландшафты», возможно, принесли ему много голосов избирателей на предстоящих тогда первых общегерманских выборах в бундестаг. Они также вызвали сильный всплеск энергии и эйфории, поскольку вселили в людей веру в то, что в их работе есть цель, контуры которой уже обозначились на горизонте. Однако в долгосрочной перспективе эти настроения обернулись бумерангом, так как уже спустя немного лет стало очевидно: начатый процесс экономических преобразований носит во много раз более глубокий и сложный характер, чем представление о нем как о процессе расцветающих ландшафтов. Многие разочарования людей в более позднее время, несомненно, коренились в этих несбывшихся ожиданиях.
Однако вернемся к хронологии событий. С избранием новой Народной палаты ГДР 18 марта 1990 г. были созданы политические рамки для валютного союза. За выборами последовали два месяца дальнейших интенсивных дискуссий в кругах общественности. Правда, теперь уже речь шла не о «за» и «против» валютного союза, а о конкретных условиях его учреждения. Особое внимание в ходе политических дебатов было уделено переходному курсу между восточногерманской и западногерманской маркой.
При этом, что естественно, на передний план выдвинулась проблема распределения денежной массы. Главным образом это касалось вопроса о том, будут ли и каким образом на основе переходного курса сохранены накопления граждан ГДР как часть результатов их трудовой деятельности за прошедшие годы. Почти не удивляет, что именно по этому вопросу произошло резкое политическое размежевания среди тех, чьи интересы он затрагивал в наибольшей мере. Правительство ГДР как адвокат своих граждан высказывалось в пользу переходного курса в соотношении один к одному, федеральное министерство финансов и Бундесбанк за более низкую оценку стоимости восточногерманской марки[10]. Результатом стал политический компромисс: все текущие выплаты и платежи, как-то: заработная плата рабочих и служащих, пенсии, аренда жилья и т. д., если речь шла о действующих договорах, были номинированы в немецкой марке по курсу один к одному; все денежные накопления и долговые обязательства – в зависимости от их размера, вида и времени возникновения – по курсу от одного к одному, двух к одному или трех к одному. В целом же средний рассчитанный переходный курс составил 1,8 к 1.
Можно ли назвать этот компромисс хорошим? В политическом смысле ответ будет «да», поскольку дискуссия на Западе и Востоке о возможном влиянии компромисса по вопросу о распределении быстро повсеместно сошла на нет и в последующее время больше почти не возникала, – верный признак того, что ни одна из сторон не считала, что осталась в накладе. В экономическом смысле вопрос, естественно, носил существенно более сложный характер. В первую очередь речь шла о том, не приведет ли выросшая денежная масса в немецких марках к ценовой инфляции и каким образом экономика на Востоке страны сумеет адаптироваться к новой среде.
Что касается инфляционных тенденций, то очень скоро опасения на этот счет рассеялись. Новая денежная масса в немецких марках хотя и оказалась несколько больше ожидаемой, поскольку размер сбережений в восточногерманских марках был недооценен, однако Бундесбанку, не прилагая особых усилий, удалось в последующее время смягчить остроту проблемы с помощью инструментов денежной политики.
Вместе с тем на территории Восточной Германии структура цен претерпела сильные изменения, которые, однако, имели причиной прекращение субсидирования цен на основные виды продовольственных продуктов и трудности сбыта промышленной продукции. То есть это были последствия ожидаемых изменений рыночных условий, а не инфляционных тенденций. В целом ситуация носила спокойный характер, что, вне всякого сомнения, можно было расценить как успех.
Отметим, что статистические оценки так называемого паритета покупательной способности обеих немецких валют, сделанные в свое время, показывали, что стоимость восточногерманской марки – измеренная в ценах потребительских товаров – совсем ненамного отличалась от стоимости немецкой марки[11]. Для жителя Запада страны, регулярно посещающего ГДР, данное утверждение может показаться странным, поскольку он постоянно испытывал трудности приобрести за деньги по так называемому принудительному обменному курсу соответствующие товары. Однако, с точки зрения восточного немца, такое положение дел выглядело отнюдь не нелепым. В мире социалистического потребления денег всегда не хватало. Восточногерманская марка в пределах своего хождения постоянно выполняла свои классические монетарные функции – в качестве платежного средства и как форма сохранения стоимости. О сильной скрытой инфляции, как, например, в соседней Польше, в то время, несмотря на строгие меры контроля над ценами, не могло быть и речи. Поскольку структура этих цен была такова, что существовали не только товары с искусственно заниженной ценой, но также и такие, цена на которые была очень высока, прежде всего это касалось товаров длительного пользования для дома, как, например, электрических бытовых приборов или даже автомобилей. То есть в этом отношении обменный курс 1,8 к 1 никак нельзя назвать великодушным жестом, о чем многие говорили. Он был в значительной мере также признанием стремления восточногерманского населения на протяжении многих лет откладывать деньги, что и отразили их накопления в восточногерманской марке. Их стоимость по меркам мирового рынка была бы существенно ниже, поскольку восточногерманская валюта при введении конвертируемости, несомненно, была бы оценена по значительно более низкому курсу. Однако в пересчете на реальные потребительские товары, которые сберегатели хотели бы приобрести, создавая свои денежные накопления, стоимость этих накоплений внушала уважение.
В ходе проведения валютной реформы на самом деле впервые возникла одна запутанная проблема, которая потребовала принятия трудных политических решений. Каким образом оценить задним числом структуру имущества граждан ГДР и обоснованность их имущественных претензий, имущества, которое было честно накоплено при социализме, чтобы спустя годы жить за его счет, и которое в новом мире конвертируемости практически больше ничего не стоило? Что следовало принимать во внимание? Шла ли речь действительно о сегодняшней рыночной стоимости этого имущества? Или о стоимости, на которую в то время рассчитывали люди, решая начать откладывать деньги? Или о тогдашней стоимости, но только после ее «актуализации» в сторону увеличения с учетом сегодняшних условий? Вот те почти неразрешимые вопросы справедливости, которые могут поставить общество на грань раскола, если значительная часть населения воспримет в конечном счете полученный результат как несправедливый. В этом отношении валютный союз, во всяком случае, не оставил после себя плохой памяти.
И тем не менее валютный союз вообще не был воспринят широкими слоями населения как успех. Это, однако, объясняется совершенно иными обстоятельствами. Восточногерманская экономика быстрыми темпами двигалась в направлении кризиса. С первого по второе полугодие 1990 г. объем промышленного производства сократился вдвое, резко выросла безработица, увеличилось количество работников, переведенных на неполную рабочую неделю. Прыжок в ледяную воду конкурентной борьбы одним махом обнажил практически все проблемы промышленности. Все эти процессы развивались с такой скоростью, которой в истории промышленно развитых наций не было и, возможно, больше никогда не будет. Это была первая большая жертва, связанная с наследием восточногерманской плановой экономики после ее вступления на путь рыночных отношений.
Опыт непосредственного знакомства восточногерманского населения с новой для них рыночной экономикой оказался весьма болезненным. Он был полностью противоположен опыту старшего поколения западных немцев во второй половине 1948 г. после начала в июне того же года валютной и экономической реформы. В 1948 г. западные немцы стали свидетелями мощного подъема, своего рода чуда после череды лет военных и послевоенных лишений, в то время как восточные немцы испытали тотальный распад привычного для них индустриального мира. Разумеется, им было ясно, что продолжать жить по-старому нельзя, однако практически никто из них не представлял себе столь свободного падения вниз. При этом главное испытание – собственно санация их предприятий – еще было впереди.
Едва ли можно в полном объеме оценить значение этого распада как самого первого впечатления от непосредственного знакомства с рыночным хозяйством. В 1948 г. целое поколение западных немцев одномоментно превратилось в эмоциональных друзей рыночной экономики, независимо от того, что подсказывал им собственный разум. От либеральных приверженцев принципа личной ответственности, которые видели в происходящем подтверждение своего собственного оптимизма и оптимизма Людвига Эрхарда, до социалистов-скептиков, внезапно обнаруживших бурную деятельность на предприятиях и в магазинах. Совсем иную картину явил 1990 год в Восточной Германии: развал промышленности стал причиной глубокого эмоционального неприятия рыночной экономики многими восточными немцами, опять-таки независимо от того, что подсказывал им собственный разум. И в данном случае эти чувства были характерны не только для записных социалистов, но и для либерально и консервативно настроенных граждан. Об этих настроениях хорошо свидетельствуют опросы общественного мнения, в том числе последнего времени.
Был ли крах неминуем? Никто не может знать этого, но представляется весьма трудным делом придумать альтернативы, которые привели бы к иному результату. Даже сегодня можно часто слышать утверждение, что выбор обменного курса один к одному при пересчете заработной платы (и цен) является-де определяющей причиной столь сильного падения восточногерманской экономики. В частности, бывший федеральный канцлер Гельмут Шмидт, подводя итоги процесса немецкого объединения[12], заявил по смыслу следующее: «да» валютному союзу, но при более низкой оценке стоимости восточногерманской марки по отношению к марке ФРГ с тем, чтобы сохранить на Востоке низкие производственные издержки. Однако такая мера привела бы к тому, что после создания экономического и валютного союза заработная плата на Востоке была бы существенно ниже чем на одну треть уровня западногерманской, который при переходе на единую валюту по курсу один к одному был принят как исходный. Другими словами, возможно, тогда это была бы одна шестая (при соотношении два к одному) часть заработной платы на Западе или даже еще меньше. Но в этом случае, очевидно, произошло бы следующее: внутри воссоединившейся Германии возникла бы та самая волна миграции на Запад, которая поднялась бы и без валютного союза при низкой оценке стоимости восточногерманской марки. Или заработная плата быстро установилась бы на том же уровне, на каком она оказалась при обменном курсе один к одному[13].
Здесь мы еще раз сталкиваемся с основной проблемой немецкого воссоединения: как только граница была открыта, мобильность людей заставила повысить заработную плату на Востоке до уровня, который, как скоро выяснилось, составил более одной трети заработной платы на Западе и в любом случае был больше одной шестой ее части. То есть реалистической альтернативы, которая могла бы предотвратить экономический коллапс, не существовало и к выбранному обменному курсу. Разумеется, за исключением ограничений на свободу передвижения, что означало бы отказ от экономического и валютного союза и в конечном итоге от немецкого единства.
Также важно сравнение со странами Центральной и Восточной Европы. И там были необходимы решительные действия, но в этих странах существовало значительно большее пространство для маневра, чтобы управлять начавшимися процессами, растянув их по времени, поскольку у людей не было легкой альтернативы сменить место жительства. Напротив, в Восточной Германии ситуация подталкивала к быстрому принятию мер, причем в условиях, которые никак не могли быть результатом свободного выбора. Несмотря на ужас промышленного коллапса, все-таки сохранялись ожидания того, что, возможно, в скором времени произойдут какие-то фундаментальные перемены. И поэтому стоило, вероятно, остаться дома и включиться в начавшуюся работу по возрождению Востока.
4
См. данные научного консультационного совета при федеральном министерстве экономики (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft: «Gutachten vom 17/18. November und 15./16. Dezember 1989. Thema: Wirtschaftspolitische Herausforderungen der Bundesrepublik im Verhältnis zur DDR». In: Sammelband der Gutachten von 1987 bis 1997. Stuttgart. S. 1480–1491. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft: «Gutachten vom 1./2. März und 27. März 1990. Thema: Schaffung eines gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsgebietes in Deutschland». In: Sammelband der Gutachten von 1987 bis 1997. Stuttgart. S. 1493–1507). О сторонниках в политике и в научной сфере см. работу Хееринга (Heering, W. [1998]: «Acht Jahre deutsche Währungsunion. Ein Beitrag wider die Legendenbildung im Vereinigungsprozeß». In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung «Das Par-lament», B 24, S. 20–25). Наиболее обоснованные и всесторонние аргументы в пользу необходимости валютного союза в тот период представили Курт Биденхоф (Biedenkopf, K. H. [1990]: «Offene Grenzen, offener Markt. Voraussetzungen für die Erneuerung der DDR-Volkswirtschaft». Wiesbaden) и Клаус фон Донаньи (Dohnanyi, K. v. [1990]: «Das Deutsche Wagnis. Über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Einheit». München).
5
Подробно см.: Heering. W. „Acht Jahre…».
6
Экспертный совет (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung [1990]: Auf dem Wege zur wirtschaftlichen Einheit Deutschlands. Jahresgutachten 1990/91. Stuttgart), цифры 32–40, с. 287–289.
7
Экспертный совет (1990), цифры 38–40, с. 289.
8
Классическую статью по теории оптимального валютного пространства еще в 1961 г. опубликовал Роберт Мунделл (см.:Mundell, R. A. [1961]: „A Theory of Optimum Currency Areas“. In: The American Economic Review 51 [4], S. 657–665). Практически в любом хрестоматийной учебнике мировой экономики можно найти изложение этой теории (например, учебник Кругмана, Обстфельда – Krugman, P.; Obstfeld, M. [2009]: International Economics. Theory & Policy. Achte Auflage. Boston).
9
Перепечатано в сообщениях Экспертного совета (1990), с. 306–308.
10
Более подробно см.: Heering, W.: «Acht Jahre…», с. 30–33. В середине 1991 г. Карл Отто Пель досрочно завершил свою деятельность на посту президента Немецкого федерального банка. 19 марта 1991 г., выступая перед членами экономического и валютного комитета Европейского парламента, он назвал последствия валютного союза «катастрофой».
11
Более подробно см.: Sinn, Sinn, «Kaltstart…», с. 65–72, особенно таблицу III. 1, с. 66, в которой сравниваются пять важных оценок, на основании каждой из которых были сделаны очень схожие выводы.
12
См. Schmidt, H. (2005): «Auf dem Weg zur deutschen Einheit. Bilanz und Ausblick». Reinbek bei Hamburg.
13
См. высказывания в следующей части 3 этой главы. Постоянно не принимается во внимание то обстоятельство, что в ходе тарифных переговоров в начале 1990-х годов речь практически никогда не шла о процентном повышении восточногерманской заработной платы, но всегда только о ее соотношении с уровнем заработной платы на Западе страны. По этой причине ее более низкий уровень в начале переговоров почти ничего не менял по сути дела. См. по этому вопросу: Paqué, K.-H. (2001): «East/West-Wage Rigidity in United Germany». In: Riphahn, R. T.; Snower, D.; Zimmermann, K. (Hrsg.): Employment Policy in Transition: The Lessons of German Integration for the Labor Market. Heidelberg. S. 52–82.