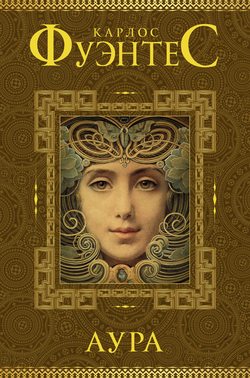Читать книгу Аура (сборник) - Карлос Фуэнтес - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Рассказы
Чак-Мооль[15]
ОглавлениеНекоторое время тому назад Филиберто утонул в Акапулько. Это случилось на Страстной неделе. Хотя Филиберто и оставил свою должность в секретариате, он, бывший бюрократ, не мог противиться искушению привычки и поехал, как все прошлые годы, в немецкий пансион есть кислую капусту, подслащенную потливой тропической кухней, танцевать в Великую субботу на Ла-Кебраде и чувствовать себя «своим человеком» в темной безликой толпе, заполняющей вечерами пляж Орнос. Конечно, мы знали, что в молодости он плавал хорошо, но теперь ему стукнуло сорок, он заметно сдал – и надо же было заплыть так далеко, да еще в полночь! Фрау Мюллер не позволила устроить бдение над усопшим – пусть и старинным постояльцем – в своем пансионе; напротив, в тот вечер она организовала танцы на тесной и душной террасе, в то время как Филиберто, бледный-бледный в своем гробу, дожидался, пока утренний автобус выйдет из парка, и провел среди корзин с фруктами и мешков первую ночь своей новой жизни. Когда я пришел ранним утром, чтобы проследить за погрузкой покойного, Филиберто был погребен под горой кокосовых орехов; водитель велел быстро занести его в хвостовую часть и прикрыть брезентом, чтобы не пугать пассажиров; может быть, даже и солью присыпать перед тем, как отправиться в путь.
Когда мы выехали из Акапулько, еще дул свежий бриз. Жара и сверкающий свет явились возле Тьерра-Колорада. За завтраком, состоявшим из яиц и колбасы, я раскрыл сумку Филиберто, которую забрал вместе с другими его пожитками из пансиона Мюллеров. Двести песо. Газета, уже не выходящая в Мехико; лотерейные билеты; билет в один конец – только туда, обратного нет? И дешевая тетрадь в клетку, в обложке под мрамор.
Я решился прочесть, что там написано, несмотря на тряску, запах рвоты и естественное чувство уважения к частной жизни моего покойного друга. Мне вспомнятся – да, так я думал вначале – наши конторские будни; может быть, я узнаю, почему он работал все хуже и хуже, забывая о своих обязанностях, почему надиктовывал бессмысленные документы, без исходящего номера, без визы начальства. Потому-то в конце концов его и уволили, не назначив пенсии, невзирая на выслугу лет.
«Сегодня ходил хлопотать насчет пенсии. Лиценциат был крайне любезен. Я ушел настолько довольным, что решился потратить пять песо в Кафе. В это самое кафе мы ходили в молодости, и именно сюда я теперь никогда не заглядываю: это место напоминает мне о том, что в двадцать лет я мог позволить себе больше излишеств, нежели в сорок. Тогда все мы были равны и решительно пресекли бы любые нападки на наших товарищей – мы и в самом деле яростно бились за тех, кому ставили в вину низкое происхождение или отсутствие элегантности. Я знал, что многие (может быть, из самых смиренных) достигнут вершин, и здесь, в Институте, завяжутся прочные дружеские связи, которые помогут впоследствии в житейских бурях. Нет, это не сбылось. Все вышло не по правилам. Многие из смиренных остались на своем месте, многие взлетели так высоко, как мы и предугадать не могли на тех полных пыла и приязни посиделках. Иные из нас, обещавшие много, остановились на полпути, завалив экзамен, предложенный жизнью за стенами факультета, и глубокий ров отделил их и от тех, кто добился успеха, и от тех, кто не достиг ничего. Короче говоря, сегодня я снова уселся на стул, более современный – напротив, словно укрепленный пункт захватчика, автомат с газированной водой – и сделал вид, будто читаю исходящие. Я увидел многих, изменившихся, все позабывших, искаженных неоновым светом, процветающих. Вместе с Кафе, которое я почти не узнавал, вместе с самим городом, они оттачивались, совершенствовались в ритме, не совпадавшем с моим. Нет, они уже не узнавали меня, или не хотели узнавать. В общей сложности – один или двое – пухлой рукою мимоходом похлопали по плечу. Пока, старик, как дела. Между нами пролегали восемнадцать лунок в Кантри-клубе. Я зарылся в исходящие. Передо мной проходили годы счастливых иллюзий, великих планов – и упущений, которые не позволили их осуществить. Мной овладела тоска от того, что не удавалось запустить пальцы в прошлое и сложить наконец кусочки давно оставленной головоломки; но невесть куда запропастился сундук с игрушками, и кто знает, где теперь оловянные солдатики, шлемы и деревянные мечи. Все это – не более, чем чужие одежды, в которые я любил рядиться. Однако мне свойственны постоянство, дисциплина и чувство долга. Было этого недостаточно или в избытке? Порой меня преследовали, не давали покоя мысли, высказанные Рильке. Великим воздаянием за безоглядную смелость молодости обязательно станет смерть; мы, молодые, так и уйдем со всеми нашими тайнами. И не стоит сегодня оглядываться на соляные города. Пять песо? Два на чай».
«Пепе не только страстно увлекается торговым правом, но и любит порассуждать на отвлеченные темы. Он заметил, как я выхожу из Собора, и мы вместе направились к Дворцу. Он неверующий, и мало того: не прошли мы и полквартала, как он уже выдал теорию. Дескать, если бы он не был мексиканцем, то не поклонялся бы Христу, и: «Нет, послушай, ведь это очевидно. Приходят испанцы и предлагают тебе поклоняться Богу, замученному, превращенному в кровавый сгусток, с пронзенным боком, пригвожденному к кресту. Его принесли в жертву. Заклали. Разве не естественно будет воспринять эмоцию, настолько близкую всем твоим обрядам, всей твоей жизни? …Зато представь себе, что Мексику завоевали буддисты или магометане. Невозможно вообразить, чтобы наши индейцы стали поклоняться типу, который умер от несварения. Но Бог, которому недостаточно, чтобы люди приносили ему в жертву себя, который идет даже на то, чтобы ему самому вырвали сердце – черт возьми, шах и мат Уитцилопочтли! Христианство, в его горячем кровавом смысле, жертвенном, литургическом, становится естественным продолжением и обновлением исконной индейской религии. Та сторона, что связана с милосердием, любовью, другой щекой, наоборот, отвергается. В Мексике все на этом построено: чтобы верить в людей, надо их убивать».
«Пепе знал, что я с молодости увлекаюсь некоторыми видами исконного мексиканского искусства. Коллекционирую статуэтки, идолов, глиняные поделки. Выходные провожу в Тласкале или Теотиуакане. Может быть, поэтому он охотно рассуждает со мной на эти темы. Конечно, я давно уже ищу приличную реплику Чак-Мооля, и сегодня Пепе мне сообщил, что в одной лавчонке в Лагунилье продают такую и, кажется, дешево. В воскресенье поеду посмотреть».
«Один шутник в конторе подлил красных чернил в графин с водой, и вся работа встала. Я был вынужден доложить директору, а тот долго хохотал, только и всего. Виновный воспользовался этим обстоятельством и целый день язвил меня как мог, все насчет воды. Г…!»
«Сегодня, в воскресенье, поехал в Лагунилью. Нашел Чак-Мооля в лавчонке, которую указал Пепе. Великолепная вещь, в натуральную величину, и, хотя продавец клянется, будто скульптура подлинная, я в этом сомневаюсь. Она из обычного камня, но блок массивный, и работа изящная. Хитрый торговец вымазал ей живот томатным соусом, чтобы убедить туристов в том, что на этом камне и в самом деле приносились кровавые жертвы».
«Доставка мне обошлась дороже, чем сама покупка. Но он уже здесь, в данное время в подвале, пока я в музейной комнате переставляю свои трофеи, чтобы освободить место для скульптуры. Такие фигуры требуют солнца в зените, яростного: это их стихия. Он теряется в темноте подвала, кажется плотной массой, сжавшейся в предсмертной агонии, а гримаса на его лице – укор всем нам за то, что мы лишаем его света. У торговца свет падал на скульптуру строго вертикально, подчеркивая все ее грани, придавая моему Чак-Моолю более приветливое выражение. Нужно последовать его примеру».
«Проснувшись поутру, я обнаружил, что прорвало трубы. Пока я спал, кухню затопило, вода потекла дальше, просочилась сквозь пол и полилась в подвал, и я обнаружил это не сразу. Чак-Моолю сырость не вредит, но мои чемоданы промокли, и все это в рабочий день, так что я опоздал в контору».
«Наконец пришли чинить трубы. Чемоданы покоробились. А Чак-Мооль снизу весь покрылся тиной».
«Проснулся в час ночи: мне послышался ужасающий стон. Подумал, воры. Игра воображения».
«Жалобные крики по ночам продолжаются. Не знаю, чем объяснить их, но это действует на нервы. В довершение всех бед, снова прорвало трубы, зарядили дожди, подвал совсем затопило».
«Водопроводчик не идет, я в отчаянии. О Департаменте Федерального округа лучше не говорить. Впервые дождевая вода не уходит по стокам, а льется ко мне в подвал. Зато стонов больше не слышно: нет худа без добра».
«Подвал осушили, Чак-Мооль весь покрыт тиной. У него гротескный вид, кажется, будто вся скульптура покрыта зелеными лишаями, кроме глаз, которые остались каменными. В воскресенье соскребу эту зелень. Пепе посоветовал обменять дом на квартиру, да на последнем этаже, чтобы избежать этаких водяных трагедий. Но я не могу оставить особняк, разумеется, слишком большой для меня одного, мрачноватой архитектуры времен Порфирио[16] – но это единственное наследство, единственная память о родителях. Не знаю, что со мной станется, доведись мне увидеть в подвале автомат с газированной водой и симфонолу, а на первом этаже – меблированные комнаты».
«Стал шпателем счищать с Чак-Мооля тину. Зелень, похоже, так и въелась в камень; я работал час с лишним и закончил в шесть вечера. В полумгле было плохо видно, довел ли я свой труд до конца, и я ощупал контуры камня. Чем сильней я нажимал на глыбу, тем мягче она становилась. В это было трудно поверить, но под руками ощущалось какое-то тесто, чуть ли не месиво. Тот торговец с Лагунильи надул меня. Его доколумбова скульптура – гипсовая, от сырости она вся расползется. Я обернул ее тряпками, а завтра перенесу на верхний этаж, пока она не погибла окончательно».
«Тряпки лежат на полу. Невероятно. Я снова ощупал Чак-Мооля. Он затвердел, но все-таки это не камень. Трудно написать такое: на спине прощупывается что-то вроде живой ткани, плоти, она пружинит под пальцами, будто резина, я чувствую, как что-то струится внутри этой лежащей фигуры… Вечером спустился снова. Сомнений нет: у Чак-Мооля на руках волоски».
«Такого со мной не случалось никогда. Я перепутал все дела в конторе, отправил к оплате ведомость, которая не была согласована, и директор был вынужден вызвать меня и указать на это. Может быть, я даже допустил грубость по отношению к товарищам. Надо бы сходить к врачу, выяснить, воображение это или бред, или еще что, и избавиться от проклятого Чак-Мооля».
До этого места почерк Филиберто оставался прежним, каким я видел его столько раз в меморандумах и формулярах: крупный, размашистый, овальной формы. Запись от 25 августа, казалось, сделал другой человек. Почерк становился то детским – с трудом выписанные буквы не сливались, отстояли одна от другой, то нервным, торопливым до неразборчивости. Три дня было пропущено, потом рассказ продолжился.
«Все так естественно, поэтому и веришь в то, что это реально… но ведь это и вправду так, это не я придумал. Ведь реален графин, более того, мы сильнее убеждаемся в его существовании, или бытии, когда шутник окрашивает воду в красный цвет… Реальна затяжка эфемерной сигарой, реален чудовищный образ в зеркале, поставленном в цирке; и разве не реальны все мертвецы, недавно усопшие и позабытые? …Если человек попадет в Рай во сне, и ему дадут цветок в доказательство, что он там был, и если, проснувшись, он обнаружит этот цветок у себя в руке… что тогда? Реальность: однажды ее разбили на тысячу кусков, голова в одном месте, хвост – в другом, и мы постигаем лишь один из обломков ее огромного тела. Океан, вольный и выдуманный, реален только тогда, когда заключен в раковину. Три дня тому назад моя реальность тоже была сжата, стиснута, почти что стерта: отраженное движение, рутина, припоминание, кипа бумаг. А потом, словно земля, которая содрогается, чтобы мы вспомнили о ее власти, или смерть, которая придет, чтобы вырвать меня из забвения, длившегося всю жизнь, является иная реальность – и ведь мы знали, что она всегда бродила, бесхозная, где-то рядом; ей достаточно задать нам встряску, чтобы вдруг предстать перед нами живой, настоящей. Я было подумал снова, что это – игра воображения: Чак-Мооль, мягкотелый, изящный, за одну ночь поменял цвет; желтый, почти золотой, он, казалось, выказывал передо мной свою природу Бога, пока еще расслабленного, с менее напряженными коленями и более благодушной улыбкой. А вчера, наконец, – внезапное пробуждение, ужасная уверенность в том, что два дыхания скрыты в ночи, что не только мой пульс бьется в темноте. Да, на лестнице раздавались шаги. Это кошмарный сон. Лучше снова заснуть… Не знаю, сколько времени я делал вид, будто сплю. Когда я открыл глаза, еще не рассветало. В комнате пахло ужасом, ладаном и кровью. Мутным взглядом я обвел спальню, пока не наткнулся на два отверстия мигающего света, два свирепых желтых флажка.
Чуть дыша, я включил лампу.
Там, выпрямившись во весь рост, стоял Чак-Мооль, цвета охры, с багряным животом. Меня приковали к месту его маленькие глазки, почти раскосые, близко посаженные к треугольному носу. Лицо его с закушенной верхней губой оставалось неподвижным; только блики на квадратной шапочке, венчающей ненормально массивную голову, выдавали жизнь. Чак Мооль сделал шаг к постели, и тогда пошел дождь».
Помню, в конце августа Филиберто уволили из секретариата, директор публично вынес ему порицание, прошел слух о сумасшествии, даже о хищении. В это я не поверил. Но своими глазами видел ни с чем не сообразные исходящие: он посылал в мэрию запрос по поводу того, может ли вода пахнуть, или предлагал свои услуги Министерству водных ресурсов, заверяя, что способен вызвать дождь над пустыней. Я не знал, чем это объяснить, даже подумал, что необычайно сильные дожди, которые шли тем летом, помутили его рассудок, или подавленное состояние вызвано жизнью в старинном особняке, где половина комнат заперта на ключ и покрыта пылью, без прислуги, без семьи. Следующие записи относятся к концу сентября:
«Чак-Мооль может быть обворожительным, когда захочет… плещет-плещет очарованная водица… он знает фантастические истории о муссонах, о тропических ливнях, о том, как пустыни были наказаны великой сушью; каждое растение состоит с ним в мифическом родстве: ива – его пропащая дочь, лотосы – любимые чада, теща – опунция. Что для меня непереносимо, так это нечеловеческий запах, исходящий от этой плоти, которая не есть плоть, от этих древних сандалий, рассыпающихся в труху. Со скрежещущим смехом Чак-Мооль рассказывает, как его раскопал Ле-Плонжон, и он соприкоснулся с людьми, имевшими другие символы. Дух его жил в кувшине, в грозе, это согласно с природой; но его камень – другое дело: вырывать скульптуру из тайника жестоко и противоестественно. Думаю, Чак-Мооль никогда этого не простит. Он знает, что эстетическое действо неминуемо восторжествует.
«Пришлось снабдить его мылом, чтобы он отмыл себе живот, который торговец вымазал кетчупом, сочтя его ацтеком. Похоже, ему не понравился вопрос относительно родства с Тлалоком, а когда он злится, зубы его, и без того отвратительные, заостряются и сверкают. Сперва он на ночь спускался в подвал, со вчерашнего дня спит в моей постели».
«Начался сухой сезон. Вчера, из комнаты, где я теперь сплю, я снова услышал те, прежние, хриплые стоны, а потом – ужасающий грохот. Я поднялся наверх и приоткрыл дверь спальни: Чак-Мооль разбивал лампы, крушил мебель; он прыгнул к двери, вытянув исцарапанные руки, и я едва успел захлопнуть ее, убежать и скрыться в ванной… Потом он спустился, тяжело дыша, прося воды; весь день бродил по дому, открывая краны; не осталось ни одного сухого уголка. Мне приходится спать в теплой одежде, я его попросил больше не заливать эту комнату».
«Сегодня Чак-Мооль совсем затопил комнату, где я живу. Я вышел из себя и пригрозил, что отвезу его обратно в Лагунилью. Не менее чудовищной, чем его смешок – ужасным образом отличающийся от любых звуков, какие могут издавать люди или животные – была пощечина, которую он влепил мне своей рукой, увешанной тяжелыми браслетами. Должен признаться: я – его пленник. Моя первоначальная идея была другая: подчинить Чак-Мооля, присвоить его, как присваивают игрушку; может быть, виной тому до сих пор длящаяся ребяческая уверенность в себе; но детство – кто это сказал? – плод, поглощаемый годами, а я и не заметил, как… Он забрал мою одежду и надевает халат, когда проступает зелень. Чак-Мооль привык, чтобы ему подчинялись, иначе и не бывало никогда; мне ни разу в жизни не доводилось командовать, и я могу только склониться перед ним. Пока не пойдет дождь – и где же его магическая сила? – Чак-Мооль будет вспыльчивым и раздражительным».
«Сегодня я обнаружил, что по ночам Чак-Мооль уходит из дому. Каждый раз с наступлением сумерек поет скрипучую древнюю песнь, которая старше любого песнопения. Потом все смолкает. Однажды я несколько раз постучал в его дверь, он не отозвался, и я дерзнул войти. Спальня, которой я не видел с того самого дня, когда статуя пыталась на меня напасть, лежит в руинах, здесь сгустился тот запах ладана и крови, которым пропитался весь дом… Но за дверью полно костей: собак, крыс, кошек. Вот за кем охотится по ночам Чак-Мооль, добывая себе пропитание. Этим объясняется ужасающий лай, который каждое утро слышится на рассвете».
«Февраль, сухо. Чак-Мооль наблюдает за каждым моим шагом; мне приходится ежедневно звонить в придорожное кафе и заказывать курицу с рисом. Но деньги, позаимствованные из конторы, скоро закончатся. Случилось неизбежное: с первого числа отключили за неуплату водопровод и электричество. Но Чак-Мооль обнаружил уличную колонку за два квартала отсюда; каждый день я по десять-двенадцать раз хожу за водой, а он надзирает за мною с крыши. Говорит, что если я попытаюсь удрать, он меня испепелит, ведь Чак-Мооль также и Бог Молнии. Но он не знает, что я в курсе его ночных похождений… Поскольку нет света, приходится ложиться спать в восемь часов. Я должен был бы уже привыкнуть к Чак-Моолю, но недавно, в темноте, мы столкнулись на лестнице, я коснулся его ледяных рук, покрытых чешуйками новой кожи, и чуть не завопил».
«Если в ближайшее время не пойдет дождь, Чак-Мооль снова обратится в камень. Я заметил, что ему стало трудно двигаться; иногда он лежит часами, словно разбитый параличом, и снова напоминает идола. Но такой отдых только прибавляет ему сил, чтобы истязать меня, раздирать ногтями, будто пытаясь извлечь хоть немного влаги из моего тела. Прошла та благодатная пора, когда Чак-Мооль рассказывал мне старые сказки; кажется, я замечаю, как в нем зреет обида. Есть и другие знаки, заставляющие меня задуматься: мой винный погреб почти иссяк, Чак-Мооль поглаживает шелк халата; хочет, чтобы я завел в доме служанку; заставил показать ему, как пользоваться мылом и лосьонами. Думаю, Чак-Мооль становится подвержен человеческим искушениям, даже лицо его, казавшееся вечным, как-то состарилось. Не в этом ли мое спасение? – если Чак очеловечится, все века его жизни могут слиться в единый миг, и он рассыплется прахом… Но в этом таится и смертельная опасность для меня: Чак не захочет, чтобы я присутствовал при его крахе и, возможно, решится меня убить.
Сегодня я воспользуюсь ночной прогулкой Чака и убегу. Поеду в Акапулько; поглядим, не удастся ли найти работу, а там и дождаться смерти Чак-Мооля; да, его кончина близка, он седеет, опухает. Мне нужно побыть на солнце, поплавать, набраться сил. У меня осталось четыреста песо. Я остановлюсь в пансионе Мюллеров, там дешево и удобно. Пусть Чак-Мооль забирает себе все; посмотрим, долго ли он продержится без воды, которую я таскаю для него ведрами».
Здесь заканчивается дневник Филиберто. Я не стал задумываться над его рассказом и проспал до самой Куэрнаваки. Оттуда до Мехико попытался как-то объяснить его записи: может быть, человек переработал, или была другая причина психологического характера. Когда в девять часов вечера мы прибыли на вокзал, я так и не смог до конца проникнуться мыслью о том, что мой друг сошел с ума. Я нанял грузовичок, чтобы отвезти гроб в дом Филиберто, собираясь оттуда распорядиться похоронами.
Не успел я вложить ключ в замочную скважину, как дверь распахнулась. Появился желтолицый индеец в домашнем халате, с шарфом вокруг шеи. Вид его был до крайности отвратительным, от него исходил запах дешевого лосьона, слой пудры на щеках едва прикрывал морщины, рот кое-как вымазан губной помадой, а волосы, похоже, крашеные.
– Простите… я не знал, что Филиберто был…
– Неважно, я все знаю. Скажите людям, чтобы труп отнесли в подвал.
16
Порфирио Диас – президент Мексики с 1877 по 1880 и с 1884 по 1911 год.