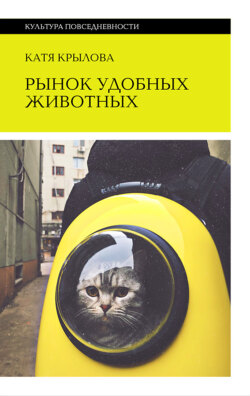Читать книгу Рынок удобных животных - Катя Крылова - Страница 5
ГЛАВА 1. ЖИВЫЕ АНТИДЕПРЕССАНТЫ
Больше стресса, больше удобных животных
ОглавлениеРабота, содержание которой представляет собой мыслительный процесс, в условиях свободного рынка и неограниченной конкуренции превращается в непрерывный стресс. «Как измерить когнитивный труд, выполняемый ученым, художником, учителем, дизайнером или писателем? Они когда-нибудь перестают работать, то есть думать?»19 – рассуждая о природе интеллектуального и творческого труда, Терранова сформулировала вопросы, которые помогают понять, почему увлекательный процесс производства знания имеет обыкновение выходить за пределы времени и пространства, отведенных для работы. Интенсификация конкуренции, с одной стороны, и снижение работоспособности из‐за накопленной усталости, с другой, способствуют тому, что режим работы без отдыха становится доминантным, а отказ от права на личное время – привычным. Эту тенденцию очень точно иллюстрируют разнообразные демотиваторы, которые наводнили соцсети в ответ на корпоративные стратегии повышения трудового энтузиазма. Фоновыми картинками для таких мемов служат фото трогательных животных-компаньонов, которые спят мертвым сном – лицом в подушку.
Другая особенность когнитивного труда связана с переживанием стресса, обусловленного не столько скоростью, сколько содержанием работы. Психологическое напряжение всегда сопровождает процесс поиска оригинальных идей и решений, принятие репутационных рисков, обработку критических комментариев. В этом контексте выход из зоны комфорта и работа в обстановке контролируемого стресса, связанного, например, с освоением новых навыков и форматов деятельности, рассматриваются как универсальная стратегия профессионального развития. Между тем немногие из нас представляют, какой уровень тревожности способны контролировать и какая норма дискомфорта будет продуктивной в той или иной ситуации. Как правило, стресс становится неконтролируемым раньше, чем мы успеваем заметить симптомы эмоционального выгорания. К тому же, оказавшись на стадии нервного истощения, работники когнитивного труда редко выбирают заботу о здоровье и предпочитают доделать работу до конца. Делегировать завершение авторского проекта нелегко, скорее по определению невозможно.
Принципом самоорганизации при когнитивном капитализме стал жестокий оптимизм. Этот термин введен философом Лорен Берлант для обозначения наших стремлений к реализации той или иной амбиции вопреки здравому смыслу20. В таких ситуациях абсурдность цели делает усилия бессмысленными. В качестве примеров можно привести сохранение токсичных отношений в надежде на создание семьи или паллиативное лечение смертельно больной собаки, которая страдает от боли и не может двигаться. Принципиальная невозможность достижения желаемого результата, встроенная в подобные ситуации, характеризует пребывание в них как проявление жестокости по отношению к себе (ил. 1). Благодаря неолиберальному императиву «Все возможно!» жестокий оптимизм процветает во всех сферах нашей жизни, заставляя терпеть повышенные нагрузки в надежде на успех как награду за тяжелый труд.
Ил. 1. Кейси Грин (KC Green). «В огне», вебкомикс из серии Gunshow, 2013. В 2014 году после публикации первых двух кадров комикса на Reddit он стал популярным мемом, а выражение «Все в порядке» (This is fine) приобрело противоположный смысл.
Сегодня привычные модели жизни и работы устаревают раньше, чем формируются новые. В результате стремление к традиционным компонентам благополучия – приобретению квартиры, достижению высокого профессионального статуса, созданию семьи – становится препятствием для осознания и удовлетворения собственных интересов. Преследование недостижимых показателей успеха рано или поздно приводит к эмоциональному истощению, развитию тревожности и депрессии. Жилплощадь, зарплата, отношения – все три стереотипных слагаемых счастья удается собрать немногим. Между тем именно просторная квартира, высокая зарплата и семья обеспечивают возможность содержать крупную собаку и достойно ухаживать за ней в течение 15–18 лет, летая при этом в командировки и работая на износ. В квартирах одиноких жестоких оптимистов выживают лишь удобные животные – незаметные и легкие в уходе. Они не требуют внимания, когда их опекуны заняты, в то же время помогают переживать стресс, если человек инициирует контакт – а к нему они всегда расположены.
В последние два десятилетия жестокий оптимизм питает карьерные амбиции в развивающихся экономиках. В России, как и в странах развитого капитализма, перспектива построить успешную и продолжительную карьеру в корпорациях или предпринимательстве с нуля становится все менее вероятной. Социолог Ален Эренберг, исследующий симптомы самоизноса, связывает рост депрессивных расстройств во второй половине XX века с углублением конфликта между верой человека в безграничные возможности и действием неподконтрольных факторов, препятствующих индивидуальному успеху21. Надежда на достижение желаемого, длинная история уже потраченных усилий и пристрастие к непрерывной самоактуализации побуждают людей предпринимать все новые попытки проявить себя, теперь уже в разных сферах – для подстраховки. Мы все больше работаем ради работы. Откликаясь на вакансии, отправляя заявки на гранты, налаживая связи или наращивая свою популярность в соцсетях помимо основной работы, многие из нас балансируют на грани эмоционального выгорания, часто откладывая полноценный отдых и удовольствия. Это превращает карьерное соревнование в эстафету жертвенности. Кажется, что при равно выдающихся способностях выиграет тот, кто откажется от опыта, обязательств и даже людей, непосредственно не связанных с профессиональным развитием и ростом дохода. В числе таких необязательных контактов оказываются животные-компаньоны – интервалы повседневного взаимодействия с ними сужаются, забота сводится к минимуму или делегируется. По этой же причине знания о потребностях и особенностях животных становятся поверхностными и фрагментарными, так как поиск и изучение заслуживающих доверия научных исследований требует времени.
Как и жесткая диета, самоистязание карьерой приводит к срывам – в этом отношении примером саморазрушающего потенциала жестокого оптимизма можно считать образ японского офисного работника – сараримана (от английского salaryman). Сарариман засыпает в обеденный перерыв на велосипеде, прислонившись к стене круглосуточного магазина, а в конце недели напивается до беспамятства. Пятничные вечеринки с коллегами заканчиваются сном на газоне, в общественном туалете или на платформе метро. Инстаграм-аккаунт @shibuyameltdown публикует фото сарариманов, заснувших пьяными на улицах в районе Сибуя в Токио22. Хронические переработки усугубляет стресс скученности, характерный для таких городов. Сложно представить жизнь сараримана с субботы по четверг без удобного кота, который по вечерам успокаивает его тревожные мысли уютными вибрациями своего тела и разминает уставшую спину лапами.
Животные участвуют в лечении людей как минимум тысячу лет – известно, что в IX веке они использовались в процессе реабилитации инвалидов в Бельгии, а в 1790 году в Англии кролики и цыплята помогали пациентам психиатрических клиник развивать самоконтроль23. Первая научная статья о положительном влиянии животных-компаньонов на людей была опубликована в 1944 году американским социологом Джеймсом Боссадом и называлась «Психическая гигиена жизни с собакой». Детский психолог Борис Левинсон приводил своего пса Джинглса на сеансы терапии. Изучив реакции пациентов на присутствие животного, он опубликовал статью «Собака как со-терапевт» (1962)24. Приставка «со» в этом случае очень важна – животное не может заменить врача. Точное название комплекса психотерапевтических практик с участием животных включает эпитет animal-assisted, а реализация таких методик предполагает обязательный контроль со стороны специалиста. Как правило, терапия с участием животных носит характер вспомогательных интервенций в основной план лечения, то есть сводится к серии непродолжительных контактов.
В 1980 году Эрика Фридман впервые в истории изучения животных-компаньонов измерила их полезность для здоровья людей, анализируя статистику восстановления пациентов после инфаркта по критерию наличия у них кошек и собак. Это позволило ей сделать вывод о способности животных обеспечивать необходимый для выздоровления психологический комфорт25. Вслед за Фридман десятки исследователей межвидового взаимодействия пытались вычислить, как животные влияют на переживание стресса. Ученые подсчитывали у испытуемых уровень артериального давления, частоту сердечных сокращений, содержание в крови гормонов и иммуноглобулинов. В результате выяснилось, что тактильный и/или зрительный контакт с харизматичным животным практически мгновенно снижает психологическое возбуждение, а продолжительные отношения с питомцем формируют своего рода буферную зону между человеком и стрессовой средой26. Способность животных успокаивать нервы привела к распространению профессиональных собак-терапевтов в больницах и домах престарелых. Иногда питомцев «выписывали» в дополнение к медикаментам для лечения на дому. Сегодня животные-терапевты работают в школах и университетах, залах суда и тюрьмах – сфера их применения продолжает расти, побуждая задействовать приютских собак. Антистрессовый потенциал животных-компаньонов привлекает не только пожилых людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистой недостаточности. Финансовая нестабильность, хронические переработки и эмоциональное истощение вызывают потребность в непрерывной поддержке и заботе почти у каждого. Как следствие, рынок животных-компаньонов устойчиво растет. Между тем жизнь с питомцами не сводится к непродолжительному контакту в присутствии специалиста и, помимо эмоциональных подъемов, включает стрессовые ситуации: это может быть тяжелая болезнь животного, переезд в другую страну, сложности в поиске жилья. Вопрос о роли животных-компаньонов в поддержании здоровья своих опекунов остается открытым, так как ответ на него требует продолжительного исследования многих субъективных факторов.
Спустя два десятилетия после публикации исследования Фридман стало очевидно, что в формуле влияния кошек и собак на физическое и психическое здоровье своих владельцев есть множество неучтенных переменных. Так, исследование, опубликованное в 2010 году, не подтвердило выводы, сделанные Фридман в 1980‐е и 1990‐е. Ученые получили противоположные результаты: некоторые опекуны собак, а еще чаще кошек после сердечного приступа чувствовали себя хуже, чем пациенты, у которых не было животных27. Это может быть связано с тем, что люди стали больше переживать о благополучии своих питомцев, а значит, последних стоит рассматривать не только как средство снижения стресса, но и как его источник. Также, анализируя методологию изучения эффектов межвидового взаимодействия в ретроспективе, современные ученые находят ошибки и упрощения, которые ставят под сомнение выводы многих исследований. Так, Мишель Моррисон подчеркивает, что такие эксперименты не учитывают необходимость расширенного наблюдения за состоянием пациентов после терапии с участием животных для определения продолжительности эффекта. Оптимистичные результаты клинических исследований, подтверждающих положительное влияние присутствия кошек и собак-терапевтов на самочувствие пациентов, не могут распространяться на питомцев – такие опыты игнорируют фактор новизны при взаимодействии с незнакомыми животными, регистрируемый эффект от общения с ними значительно выше28. Исследования, проведенные Николиной Антонакопулос в Канаде и Ясмин Пикок в Австралии в 2010 и 2012 годах, не выявили прямой положительной зависимости между привязанностью к животным-компаньонам и психическим здоровьем их людей, а, напротив, обнаружили негативные корреляции – например, склонность одиноких владельцев кошек и собак к повышенной тревожности29. Это не значит, что животных-компаньонов стоит считать спутниками одиночества и депрессии, но результаты подобных исследований ставят под сомнение распространенные предубеждения – например, что сам факт наличия питомца поможет избежать проблем со здоровьем.
19
Ibid.: 48.
20
Berlant 2011: 1–2.
21
Ehrenberg 2010: 230.
22
Instagram – социальная сеть компании Meta, признанной в России экстремистской. – Прим. ред.
23
Morrison 2007: 51.
24
Levinson 1962: 59–65.
25
Friedmann, Katcher, Lynch, Thomas 1980: 307.
26
Serpell 2000: 108.
27
Sandøe, Corr, Palmer 2015: 52.
28
Morrison 2007: 57.
29
Peacock, Chur-Hansen, Winefield 2012: 292; Antonacopoulos, Pychyl 2010: 37.