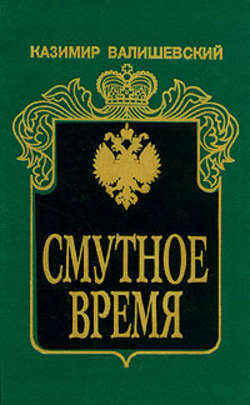Читать книгу Смутное время - Казимир Валишевский - Страница 2
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Угасающая династия
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Наследство Грозного
ОглавлениеI. Блаженный на троне
Богатырю следовало бы принять тяжкое наследие Грозного, а наследником оказался звонарь. Говорят, сам Иван IV наделил этим прозвищем младшего из своих сыновей, Феодора, а судьба в отместку предопределила его наследовать престол. Старшего – Ивана, как известно, отец убил собственноручно в припадке бешеного гнева.
Наследие Грозного! Внутри государства затеяны огромные преобразования, – почти государственный переворот, приостановленный в самом зачатке и возбудивший противодействие, которое было заглушено одним из самых ужасных проявлений деспотизма, какие известны в истории; заглушено, но не уничтожено.
Все шатко на глухо клокочущем вулкане! Извне – Польша и Швеция готовы были продолжать свои победы и мстить за былые поражения. Да, нужен был богатырь. А между тем 18 марта 1584 г. вступил на престол 27-летний Феодор… Вот как насмешливые иностранцы, – свои не посмели бы, – Флетчер, Пирсон и Маржерет описывают в своих записках его обычное времяпрепровождение.
Молодой государь обыкновенно вставал в четыре часа утра. Покончив с одеваньем, он посылал за духовником; духовник являлся с большим крестом и, коснувшись им лба и щек государя, подносил крест к устам для целования. За ним следовал дьякон с иконой святого, память которого в тот день праздновалась по святцам. Ее ставили на самое почетное место среди бесчисленных икон, которыми была усыпана сверху донизу комната царя. Иконы были грубого письма, но в богатых ризах с жемчугом и драгоценными каменьями; перед ними горели восковые свечи и неугасимые лампады. Феодор сейчас же становился на молитву перед принесенной иконой. Четверть часа царь усердно и истово, клал земные поклоны. На это время духовник уходил и возвращался с чашей святой воды и кропилом. Каждый день эта вода доставлялась по очереди многочисленными московскими монастырями, в знак благоговейного почтения к особе государя.
Совершив эту первую утреннюю молитву, царь посылал справиться о здоровье царицы, как почивала? Супругой Феодора была Ирина Годунова, сестра знаменитого Бориса, которому судьба готовила высокую, полную трагизма долю. Феодор только накануне многочисленных в православной церкви постных дней разделял ложе супруги и приглашал ее к своему столу. Их покои разделяла зала; получив ответ посланного, царь шел навстречу государыне и проводил с нею некоторое время. Затем они отправлялись вдвоем в свою домовую церковь к заутрени, которая длилась около часа. По возвращении царь отправлялся один в приемную палату и, сидя в большом кресле, принимал тех придворных бояр, кого считал достойным этой милости. Около девяти часов он отпускал своих приближенных. Пора звонить к обедне. Царь сам исполнял эту обязанность, а так как обедню служили в одном из кремлевских храмов со всем сложным чином по обрядам греческой церкви, то эта ежедневная служба занимала царя еще часа на два. На самом-то деле, по крайней мере у окружающих царя, время тратилось не на одну молитву. В эти часы церковь служила палатой совета, под звуки бесконечных песнопений думные бояре заводили шумные мирские споры, замолкая по временам, когда справлялись о мнении своего государя. Но у государя своего мнения никогда не было; он выслушивал, блаженно улыбался и, не говоря ни слова, продолжал перебирать четки. По окончании этого второго богослужении, царь возвращался во дворец обедать. Обед подавался к одиннадцати часам весьма торжественно. После обеда государь почивал три часа, а затем опять шел в церковь к вечерне. Остальные часы до ужина посвящались вполне заслуженному отдыху. Ирина проводила это время вместе с супругом, и оба они развлекались разными забавами, обыкновенно балагурством шутов и кувырканьем карликов. Иногда, впрочем, государь удостаивал своим вниманием работы своих золотых и серебряных дел мастеров и иконописцев. После ужина он снова молился со своим духовником и получал его благословение на сон грядущий.
Только по воскресеньям да по большим праздникам изменялось это распределение дня. В такие дни государь посещал монастыри в окрестностях столицы. Иногда, чтобы не нарушать чересчур круто обычаев страны и порядков, заведенных его предшественниками, он присутствовал на боях с медведями или на кулачном бою, но ему они не доставляли никакого удовольствия.
Вот каков был новый царь всея Руси. Личность, словом сказать, довольно близкая по типу и к «идиоту», как его изобразил в своем знаменитом романе Достоевский, и к юродивому, каких еще и теперь можно встретить в русских деревнях, и к блаженным, которых набожные люди средних веков причисляли к лику святых. Разные писатели того времени, как светские, так и духовные, действительно, изображают Феодора вполне отрешившимся от мирских дел и помышляющим только о вечной жизни. Правда, один из этих писателей, патриарх Иов, под влиянием чувства, довольно близкого тому, которым вдохновлялся великий русский романист, готов был видеть в этом нищем духом еще и разумного правителя и образец государя. Но он один был такого мнения. Лев Сапега, выдающейся государственный деятель Польско-Литовского государства, вернувшись из Москвы, куда он ездил в качеств посла, говорил: «Напрасно говорят, что у этого государя мало рассудка: я убедился, что он вовсе лишен его».
Флетчер оставил нам такое описание наружности государя: росту малого, приземист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водянке; нос у него ястребиный, на постоянно улыбающемся лице, поступь нетвердая и неясная речь. С этим описанием довольно сходен портрет царя с сиянием вокруг головы, сохранившийся и до сих пор в Архангельском соборе в Москве.
Да и на самом деле, при вступлении Феодора на престол никому и в голову не приходило, будто он способен управлять страной; да и сам он кротко покорился вспомогательному правительству, которое было учреждено немедленно. В таком зачаточном и почти еще аморфном состоянии, в каком пребывала тогда Московия, потребности создают органы. У смертного одра Грозного естественно из лиц наиболее приближенных к покойному царю образовалась своего рода пентархия. Первое место по почету, но без наибольшей власти, занял ближний боярин, князь Иван Феодорович Мстиславский, потомок древнего рода князей литовских, породнившийся с царствующим домом. Способности у него были посредственные, и он сознавал это. В пользу одного из его товарищей, Ивана Петровича Шуйского, говорило то, что он был Рюрикович, из доблестной линии Александра Невского. Недавняя защита Пскова против Батория придала ему лично известность. Но он был воитель, и только. Другой товарищ, Богдан Бельский, был смутьян. Да и по общему мнению, Грозный больше всего возлагал свое доверие на своего шурина, родного дядю Феодора, Никиту Романовича Захарьина-Юрьева (Романова), а услужливая легенда, о которой я упоминал в другом месте, наделяла Никиту Романовича всевозможными добродетелями.[1]
Последнее место в этом ареопаге выпало на долю шурина Феодора, Бориса Годунова; его сравнительно невидное происхождение, по-видимому, не позволяло ему заявлять притязания на высшее положение. А между тем оказалось, что среди всех этих вельмож это был единственный человек, способный исполнить важную роль; что его властолюбие ожидало только благоприятных условий, чтобы развернуться вширь, и события скоро должны были выдвинуть его на первый план.
Впрочем, о составе этого своеобразного опекунского совета, принимавшего на себя попечение о новом монархе и о его государстве, неизвестно ничего вполне достоверного. Источники противоречат друг другу.[2] Из них с очевидностью вытекает только одно: что это олигархическое правление, каковы бы ни были его участники, заключало в себе элементы непримиримого раздора и было бессильно по существу своему, так как это были те же самые элементы разложения, какими болела вся аристократия страны. В глазах Мстиславского и Шуйского, представители выдвинувшихся вперед московских бояр новой или старой выслуги, как Годунов и Романов, одинаково были выскочками; но и сами Мстиславский и Шуйский, пришедшие в упадок представители старшей линии или других отраслей владетельных князей, в своей вековой борьбе с младшей, восторжествовавшей надо всем домом Рюрика, потеряли даже обаяние, которое в былое время было связано с их первенством в роде; сами-то они еще вспоминали про него, но кругом них позабывали об этом. К тому же опричнина[3] вместе с системой местничества успели стереть все привилегии и преимущества, основанные на исторических правах. Отныне лишь разрядные книги да милость государя определяли место и чин каждого из подданных.
Этот порядок был навязан тяжелой рукой Ивана IV, которая сокрушала всякое сопротивление, но только она одна и могла поддерживать его. Не стало Грозного царя – и тотчас же неизбежно наступило «смутное время».
В первую же ночь по смерти Грозного в Москве вспыхнул мятеж. Его характер и размеры еще недостаточно выяснены. Судя по его последствиям, есть основание думать, что поводом к нему служил тот младенец, которому предопределено было в близком будущем исполнять роль главного героя великой национальной драмы, которую я предполагаю восстановить в памяти.
Феодор был сын первой супруги Ивана, Анастасии Романовны, но кроме него, от шестой или седьмой жены, – числа их никак нельзя было точно установить, – Грозный оставил еще сына, малолетнего Дмитрия. Дмитрий жил со своею матерью, Марией Нагой, в одной из обширных пристроек дворца. И вот один из опекунов Феодора, Богдан Бельский, задумал выставить его соперником нового царя. Это была безумная затея. Не говоря уже о правах Феодора как старшего брата, Дмитрий, по-видимому, устранялся от престола даже вследствие своего рождения в браке, запятнанном незаконностью: уставы православной церкви признают только три брака, отвергая законность последующих. Но, пожалуй, Бельский действительно был сумасбродом, насколько мы о нем знаем; а с другой стороны, наследование престола в этой стран не подчинялось еще строго установленным или обычно соблюдаемым правилам. На деле оно зависело от трех противоречащих друг другу принципов; здесь смутно давали себя знать при своем столкновении неподходящие друг к другу понятия о наследственном праве на престол, о семейной власти и о политической свободе: первородство, выбор государя и избрание. Монарх указывал себе преемника, обыкновенно своего старшего сына, а народное собрание – земский собор – утверждало этот выбор.[4]
Итак, Бельский замышлял дворцовый переворот, первый из тех переворотов, которые затем в течение двух следующих столетий так часто изменяли порядок управления страною. Товарищи его по совету, однако, оказали ему сопротивление, обратившись с воззванием к простонародью. Двое рязанских дворян, братья Ляпуновы, будущие герои революционного движения, особенно отличились своим рвением в защите прав законного государя, и Феодор одержал верх.
Так говорит большинство иностранных летописцев – Горсей, Флетчер и Пирсон. Но по другим свидетельствам можно думать, что это была только попытка восстановить опричнину против опять начавших пробуждаться притязаний аристократического элемента, либо просто ссора за первенство. Но самое возмездие, к которому прибегли победители, по-видимому, противоречит такому толкованию. Так, Бельского отправили воеводой в Нижний Новгород, – почетная ссылка такого рода часто применялась тогда, – а Дмитрий, его мать и многочисленная родня их покинули Москву; их выслали в Углич, небольшой город Ярославской области, назначенный молодому князю в удел.
Если мы примем во внимание время и место действия, такое обращение не покажется нам слишком суровым; но помимо того, что волки не имеют обыкновения пожирать друг друга, защитники Феодора должны были еще сообразоваться с благочестивыми настроениями государя. Сам царь оставался в прекрасных отношениях с высланными: Нагие посылали ему пироги, а он отдаривал их мехами.
В то время никто, конечно, и не предвидел, сколько бедствий произойдет от такого вступления в улажение родственных счетов.
Чтобы бесспорно укрепить права нового царя, был созван Земский Собор.[5] По свидетельству летописцев, видные представители всех областей «слезно» умоляли Феодора быть царем и венчаться на царство. Слезы составляли неотъемлемую принадлежность исконного церемониала, и, хотя серьезные историки допускают, что этот парламент, как называет собор Горсей, в самом деле занимался избранием Феодора, все же позволительно думать, что все это действие было просто соблюдением обряда. Более серьезно, по-видимому, высокое собрание посвятило себя решению некоторых вопросов административного порядка, как-то: подтверждение предпринятых ранее мероприятий для отобрания в казну церковных имуществ и отмены тарханных грамот, или освобождений от налогов, чересчур щедро жалованных предыдущими правителями разного рода владельцам, по большей части духовным. Впрочем, благочестие Феодора должно было служить немалой помехой строгому исполнению обнародованных в этом духе законов.[6]
Коронование Феодора было великолепно, изумляя свидетелей-иностранцев своим блеском и внушая им, бесспорно, преувеличенное представление о богатствах, которые оно обнаруживало. В таких случаях, исполняя обычай страны, выставляли все, какие только имелись, драгоценности, но эта показная пышность только прикрывала мрачную нищету.
После отъезда Бельского, в Совете осталось четыре члена. Первое время преобладающую власть сохранял за собой Никита Романович, в этом ему помогали преданность и способность двух его подчиненных, дьяков Щелкаловых, Василия и Андрея, имена которых мы встретим опять в превратностях предстоящей драмы. Однако уже в августе того же года здоровье Никиты Романовича оказалось тяжко расстроенным, а год спустя он умер. Тогда взошла звезда Бориса Годунова.
По единогласному свидетельству современников, царица Ирина была женщина с ясным умом, разумная и решительная, что при тогдашнем ее положении возвышало ее над обычным уровнем влияния московских цариц. Она нежно любила брата и всегда и во всем поддерживала его. Хотя она редко разделяла ложе своего хворого и целомудренного супруга, зато часто она являлась соучастницей его правления или даже заменяла его в исполнении верховной власти,[7] а на самом деле это было правление Бориса, которое оттесняло, таким образом, правление Совета. С каждым днем захват власти проявлялся все сильней, возбуждал явное противодействие себе, которое навлекло опалу на несколько знатных семейств – Мстиславских, Воротынских, Головиных и Колычевых. Обстоятельства, вызвавшие эту опалу, остаются темными. Один летописец упоминает о заговоре на жизнь Бориса: предполагали убить его на пиру у Ивана Феодоровича Мстиславского. Так или иначе, но в 1585 году старый вождь московского боярства исчез со сцены: он был заточен в монастырь и, принужденный постричься в иноки под именем Иосифа, вскоре там и скончался. Один из Головиных – Михаил Иванович – отправился в Польшу увеличивать кучку политических «отъездчиков», последователей знаменитого Курбского.
К той же оппозиционной партии принадлежали, понятно, и Шуйские. В ту пору их пощадили; их черед наступил через два года. Летопись рассказывает о тех происках, к которым они прибегали, чтобы склонить Феодора к разводу с Ириной, потому что она бесплодна. Усилиям Шуйских помогало и ставшее силой благодаря политике Грозного сословие московских купцов, которые устраивали буйные зрелища перед Грановитой палатой. Но с помощью братьев Щелкаловых и митрополита Дионисия Борис укротил бурю. И Шуйские, проворно менявшие направление, стали сторониться от своих единомышленников, пытаясь лицемерно примириться с царским любимцем.
«Вы примирились нашими головами!» – крикнул им один возмущенный купец. Этот несчастный исчез в следующую же ночь, но и Шуйские недолго пользовались плодами своей подлой трусости. Донос одного подкупленного слуги послужил предлогом к новым и более строгим гонениям. Борис, которому теперь предоставлено было действовать по его усмотрению, будучи более уверен в послушании своего венценосного питомца, не задумался нанести решительный удар. Знаменитый воин Иван Петрович Шуйский был сослан на Белоозеро, а двоюродный брат его, Андрей Иванович, в Каргополь, и оба они были задушены. Восемь купцов сложили свои головы на плахе, а сотни их, действительных и подозреваемых сообщников, или были заключены в тюрьмах, или разосланы по разным областям.
Вполне ли точны эти подробности, – сомнительно, ведь Ирина не была бесплодна. У нее было несколько выкидышей, а в 1592 году она разрешилась от бремени дочерью, царевной Феодосией. Во всяком случае, суть этого события, т. е. казнь Шуйских Борисом Годуновым, не подлежит никакому сомнению, хотя московские послы, находившиеся в то время в Польше, и получили наказ решительно отрицать факты, гул от которых пошел за границу. Послы должны были уверять, будто Шуйские вовсе не были в опале, а напротив, даже пользуются расположением и щедротами государя. Что же касается Головина, бегства которого нельзя было оспаривать, то он будто бы провинился в воровстве.[8]
Такая дипломатическая ложь составляла часть исконного обычая, который соблюдался непрерывно и впоследствии. Но наверное митрополит Дионисий и архиепископ Варлаам – глава важной Крутицкой епархии – ходатайствовали в это время отнюдь не за вора и понесли за это кару. Оба священнослужителя были заточены в монастырь. Митрополичий престол занял вполне преданный Годунову ростовский архиепископ Иов, и царский любимец стал всемогущ.
II. Борис Годунов
Род Годуновых происходил от татарского мурзы Чета. Этот мурза-перебежчик, покинув Золотую Орду, поступил на московскую службу в царствование Ивана Калиты (1328–1341). Здесь он вскоре крестился, основал знаменитый Ипатьевский монастырь и сделался родоначальником нескольких фамилий, которым суждено было оставить память по себе в истории усыновившей его страны. Чета считали своим предком и Сабуровы, породнившиеся через первую жену Ивана Грозного с царствующим домом. Близость к царю Бориса, несомненно, была такого же происхождения. Его женитьба на дочери знаменитого опричника Малюты Скуратова давала ему более прочное право рассчитывать на милость царя, а брак его сестры с Феодором обеспечил его положение. Борису было за тридцать, когда на престол вступил его зять. Нет ни одного подлинного портрета, который мог бы дать нам представление о его наружности: те, что воспроизводятся в гравюрах, только копии внушенного фантазией рисунка, исполненного в XVIII веке. Борис пользовался большой известностью красавца, несмотря на свой небольшой рост, плотное сложение и некоторую преждевременную хилость. Он обладал, по-видимому, величавой осанкой, способностью повелевать и большим врожденным даром слова, которого совсем был лишен Феодор. Образования, однако, Борису не доставало еще в большей степени, чем Феодору. Должно быть, это был первый случай безграмотности царя на престоле. Но зато он обладал в наивысшей степени тем даром усвоения и той силою интуиции, которые остаются одними из характерных черт его соотечественников, и он так же изумительно умел скрывать свои недостатки, как и извлекать выгоды из своих достоинств. Грозный для своих врагов и способный питать непримиримую ненависть, он был великодушнейшим из друзей и умел при случае выставить напоказ свое человеколюбие. Горсей описывает, как Борис остановил казнь одного английского подданного, Джона Горнеби, обвиненного в шпионстве и подвергнутого пытке.
Но больше всего в течение всей его карьеры в нем обнаруживается великий честолюбец, всегда владеющий собой и никогда не теряющий из виду намеченной цели; он сумел быть воздержным в этой стране пьяниц и не упускал ни единого повода, ни единого случая, ни единого средства, чтобы выдвинуться вперед. После опалы Шуйских, на самом деле облеченный властью регента некоторого рода, он терпеливо и искусно трудился над тем, как бы упрочить свое положение и придать этой должности правовую санкцию, потому что примеров ее не имелось в летописях страны. Первый из временщиков в хронологическом порядке, он сразу вознес преимущества этого сана на такую высоту, какой только они могли когда-либо достигнуть. С 1581 года Борис был боярином, начиная с 1584 он присваивает себе один за другим целый ряд титулов, которые уже тем, что они были исключительны и единственны, вели его, словно ступени лестницы, вверх от степени до степени до наивысшего сана. Он был «конюшим», «слугою», «ближним великим боярином», «наместником царств Казанского и Астраханского» до того дня, когда в 1594 году ему был присвоен официальной грамотой титул, действительно соответствующий его должности, и с тех пор он стал правителем, регентом.
Любопытная подробность: этой последней ступени он достиг лишь благодаря некоторому, так сказать, обходному движению, использовавши для этого старательно приобретенные связи в заграничных землях. В агенте Английской Торговой Компании, Горсее, Борис нашел в высшей степени искусного и преданного ему дипломатического посредника. Благодаря именно посредничеству Горсея, уже в 1586 году английская королева шлет Годунову письмо, в котором называет его «князем» и «любезнейшим другом». Три года спустя сам Горсей в своем отчете о путешествии, тогда же изданном и получившем широкое распространение, наделяет его титулом «лорда-протектора». В то же время посольства, отправляемые в европейские и азиатские государства, получали подобные этому негласные предписания, а последствием их внушений были послания, в которых государи, заранее настроенные таким образом, расточали предполагаемому властелину Московского государства свидетельства своего уважения и наделяли его соответствующими титулами. Борис прикидывался смущенным: следует ли ему отвечать? Вопрос этот поднимался не раз в течение 1588–1589 годов и был решен, как и следовало ожидать, в утвердительном смысле.
Искусное сочетание мелочей этикета служило той же цели: на приемах иностранных послов Борис один только из всех присутствующих бояр стоял у трона; и дошло до того, что как-то раз его протянутая рука, как будто не нарочно, овладела «государевым яблоком», державой – эмблемой власти, которую вечно улыбающийся Феодор и не подумал у него оспаривать. За аудиенцией у царя следовал прием у царского любимца, где послы опять встречали тот же торжественный церемониал. Когда их приглашали на придворные пиры, они слышали там, как за здоровье Бориса пили одновременно с тостами за здоровье Феодора. В бумагах, которые они получали из посольского приказа, неизменно указывалось, что все постановления зависели и исходили от Годунова.
В 1594 году, как я уже указал, такое положение его было официально признано. Но и этого было мало: год спустя официальные документы присоединили к имени «правителя» Бориса и имя его сына. Прежде чем умер Феодор, прежде чем утвердилась уверенность, что он не оставит наследника (Ирина только что подала надежду на потомство), его наследие казалось уже предопределенным в пользу новой династии!
Борис полагался на свое счастье. Он верил в звезды. Будучи настолько же суеверным, насколько он был необразованным, Борис окружал себя звездочетами, гадателями и колдунами. Один из них, говорят, предсказал Борису, что он будет царствовать, но всего лишь семь лет. – «Хоть бы один день!» – ответил будто бы на это царский любимец. Анекдот этот, вероятно, придуманный нарочно, хорошо воспроизводить свойство того пламенного и вместе с тем не находящего себе покоя честолюбия, которое позволяло этому избраннику судьбы ясно сознавать всю необычайность своего быстрого возвышения; оглядываясь ежедневно на уже пройденный путь и измеряя предстоящий, он видел в нескольких часах царствования вполне достаточную награду за совершенные усилия. Как ни высоко поднялся уже Борис, он все же продолжал быть некоторым образом смиренным. Он подвигался к трону крадучись, неслышными шагами: в совет, который номинально еще существовал, он удержал за собой то место, которое занимал и вначале, т. е. последнее; он придумывал особые званые обеды в покоях царя, на которых собирался избранный кружок, но сам воздерживался от посещения этих собраний. А по правде сказать, он в то же время давал обеды у себя, и быть приглашенным на них считалось еще большею честью.
Борис быстро приобрел значительные, богатства. Английский посол Флетчер приписывал ему доход в 93 700 рублей, сумма для того времени громадная: рубль соответствовал тогда почти фунту стерлингов. Горсей считал для Бориса вполне возможным набрать и содержать армию до 100 000 человек! Это были, вероятно, преувеличения, причастные той известности, которая создавалась вокруг имени Бориса; а в частности цифры, приводимые Флетчером, в настоящее время признаются неточными.[9] Впрочем, Борис, хотя и получал такой хороший доход, совсем не копил денег, чересчур усердно стараясь изливать свои щедроты и своими благодеяниями стяжать себе народное расположение. Это был второй Сеян, только ему не приходилось бояться никакого Тиберия. Не менее расточительный и в государственных расходах, Борис много строил, увеличивая число каменных зданий и церквей среди деревянных построек, которые обыкновенно преобладали не только в главных городах, но и в самой столице, – «украшая Москву, словно красивую женщину», по свидетельству патриарха Иова.
В общем, его регентство было счастливо и одинаково благоприятно интересам страны как внутри, так и во внешних сношениях. Вначале во внешней политике ему угрожала страшная опасность; но в войне, как и в дипломатии, счастье ему не изменило.
III. Война и дипломатия
Борис Годунов не знал ратного дела и, конечно, перед таким противником, как Баторий, его постигла бы жалкая участь. Победитель Грозного, между тем, решил возобновить наступательные действия; наперекор равнодушию и скупости своих подданных, он нашел теперь, к кому обратиться: римский престол занимал Сикст V, и этот великий папа словно был создан, чтобы действовать заодно с великим королем. О том, насколько они сговорились между собою, свидетельствует то, что в 1586 году в Риме спорили лишь, какими способами удобнее всего переслать в Краков по тайности субсидии, которых просили для завоевания Москвы.[10]
«Если бы жизнь и гений Батория не угасли до кончины Годунова, то слава России могла бы навеки померкнуть в самом первом десятилетии нового века».
Слова, эти принадлежат Карамзину.[11]
Но Батория не стало. Неумолимая болезнь остановила его военные приготовления, и 2 декабря 1586 года он скончался. Положение дел сейчас же изменилось: Феодор, казалось, мог теперь рассчитывать на наследие Ягеллонов и надеяться, что путем избрания на польский престол он приобретет Краков. Польская шляхта не прочь была поладить с государем, известным своей кротостью. Борис, однако, или не сумел, или не захотел воспользоваться таким благоприятным случаем. С одной стороны, здесь, в Польше, корона вручалась уже тому, кто больше давал; а посланники царя приехали на сейм с пустыми руками; а с другой стороны, они сами выказали себя чересчур требовательными. Вот что они предлагали: столицей соединенных государств должна быть Москва; в общем гербе корона Польши будет помещена под шапкою Мономаха, и, last but not least, будущий царь-король не будет менять своей православной веры. Эти требования вызвали единодушный протест.
«Москвитяне хотят пришить Польшу к своей стране, как рукав к кафтану!» – воскликнул один из наиболее влиятельных избирателей – Христофор Зборовский. Известно, каковы были результаты: избранными оказались одновременно Сигизмунд Шведский и Максимилиан Австрийский, брат императора Рудольфа II.[12] Сигизмунд скоро одержал верх, и такая развязка приобретала для Москвы особенно угрожающий характер: сын Иоанна III, с таким ожесточением воевавшего мечом и пером с Иваном Грозным, и Екатерины Ягеллонки, новый король унаследовал от обоих и принес с собой на трон неутолимую злобу и ненасытное честолюбие. Москва, однако, отделалась только тревогой. В Польше Сигизмунду много было хлопот, чтобы окончательно вытеснить Максимилиана и покорить его приверженцев; помимо этого, будучи ярым католиком, он, подобно большинству современных ему западных государей, ревностнее всего занимался религиозными делами. Занимаясь в свободное время живописью, – картины его были довольно неудачны, – он на одной картине изобразил себя укрощающим ересь. Картина эта находится в Аугсбургской галерее, – недавно еще ее приписывали Рубенсу! Он действовал так хорошо, или, вернее, так плохо, что в Москве, поняв свою безопасность, скоро успокоились и решили даже, что настала благоприятная пора посчитаться со своим шведским соседом. После бурных препирательств Борис в 1590 году уговорил самого Феодора стать во главе громадного войска и двумя последовательными походами добился от Швеции уступки двух городов, Копорья и Иван-города, которые давно уже служили предметом спора между обеими сторонами. Потом, когда велись переговоры с Польшей о заключении перемирия на двенадцать лет, Борис стал замышлять достигнуть еще большего, после того как Иоанн III умер, унося с собой в могилу проекты отмщения, не перестававшие тревожить Москву.
Это событие стоило нескольких побед. Наследие покойного возбудило вражду между Сигизмундом и его дядею – Карлом, который был облечен властью регента; пользуясь этим, Москва в 1595 году вынудила у Швеции окончательные условия мира. В Тявзине, при посредничестве императора, был подписан весьма выгодный, хотя и вызывавший довольно жестокие нападки, мирный договор. Ко всему уже приобретенному ранее царь присоединил и Кексгольм. Одна статья договора, сохранявшая за шведами исключительное право торговли в Нарве, правда, казалась не очень благоприятной; во всяком случае, она наносила чувствительный удар, но лишь выгодам Ганзейского союза, а жертвовать его интересами был уже заведенный обычай.[13]
Император потребовал уплаты за свои услуги, и вот, начатые в 1588 году переговоры привели, с его стороны, к одной из самых странных дипломатических неразберих, о каких когда-либо свидетельствовали архивы. Со времени появления в 1588 году на берегах Дуная тайного агента Феодора, Луки Паули, – авантюриста темного происхождении, – и после трех последовательных миссий императорского посла Николая Варкоча, за которыми последовала в 1597 году миссия бургграфа Доны, – Венский двор совсем запутался в интриге, готовившей ему одни разочарования. После неудачи в Польше, он рассчитывал одно время великолепно вознаградить себя в Московии. Венский двор льстил себя надеждой достичь двойной цели: пополнить московскими рублями вечно пустую императорскую казну и обеспечить за принцем австрийского дома наследование Феодору!
Паули прибыл в 1588 году с предложением субсидии, чтобы поддержать в Польше кандидатуру Максимилиана, – спор о ней был уже покончен, – а затем от своего имени сообщил новость, будто существует тайное завещание Ивана IV, предназначавшее московский трон австрийскому принцу (мудрено понять: как так и почему, ведь Феодор был жив!). Варкочу, – понятно почему, – не удалось увидеть этого таинственного завещания, и он удовольствовался сообщением, будто подлинник погиб во время пожара. Не довелось ему увидать и московского серебра, хотя в одном, вероятно подложном, рассказе о своем первом путешествии он будто бы говорит о трех миллионах флоринов, вывезенных им из Москвы и, для пущей предосторожности, скрытых в бочках с воском.[14] Зато сначала от Бориса, а затем и от самого Феодора Варкоч получил обещания и поощрения, по его мнению, крайне заманчивые. Посредником для сношений с Феодором служил начальник Посольского приказа, весьма могущественный и очень влиятельный дьяк Андрей Щелкалов, вскоре впавший в немилость, надо думать, за свое дерзкое вмешательство в эту интригу.[15] Борис заявлял, что царь не покинет императора, «хотя бы ему пришлось есть из деревянных чашек», а когда его заставили высказаться начистоту, договорился до того, будто его государь смог бы накопить пять миллионов для помощи Рудольфу против общих врагов. А что касается вопроса о завещании, то тут Годунов обнаружил больше сдержанности и даже несколько мистифицировал Варкоча, а тот, по-видимому, и не догадывался об этом: документ-де существовал, и если Максимилиану удастся водвориться в Варшаве, то «могут произойти большие дела», – ведь Феодору, очевидно, не суждено иметь наследника. А между тем, когда при Бычине (24 января 1588 года) эрцгерцог был разбит и даже взят в плен, Рудольф завел переговоры о его освобождении, как раз ценой полного отречения его от притязаний на корону Польши! Правда, во время второго пребывания в 1593 году Варкоч не посмел уже заговорить с Борисом об этом щекотливом предмете. Он наверстал свое в беседе со Щелкаловым, а этот в свою очередь самым странным способом тешился над его легковерием, говоря от имени Феодора; если, мол, Венский двор немедленно пришлет в Россию принца лет четырнадцати или пятнадцати, то этого юношу могут усыновить и воспитать как будущего наследника царского!
Как бы это ни казалось неправдоподобным, Венский двор попался на удочку; он снова отправил одураченного дипломата, хотя теперь вопрос о сомнительном наследстве уступает место другому, более неотложному. Турки совершили нашествие на Венгрию, а императорская казна была пуста. Поэтому, не пренебрегая предложением Щелкалова, посланник должен был прежде всего стараться привезти денег. И он их привез; по крайней мере думал, что привез. О сокровенных намерениях, которые будто бы были у Феодора, Варкоч не смог ничего разведать, так как глава Посольского приказа, дьяк Щелкалов, был уже не у дел; к тому же царь сам стал теперь отцом. Без сомнения, ему не лучше удалось бы изведать сокровенные тайны московской казны, если бы многократные посольства его не показались сами по себе разорительными для финансов царя. В свой последний приезд Варкоч со своею свитой в тридцать три человека в течение четырех месяцев съели: 48 быков, 336 баранов, 1 680 кур, 112 гусей, 224 утки, 11 200 яиц и 336 фунтов масла! Выгоднее было уж прямо поступиться кое-какими деньжонками! Надоедливого просителя отправили с целым обозом тяжело нагруженных телег, а когда их распаковали в Вене, советники императора Рудольфа увидели целый набор мехов!
Известно, что тогда шкурки куниц и сибирской белки часто заменяли в Москве золото и серебро. Это была последняя и самая жестокая мистификация.
Хотя и тщетно пытался Рудольф обратить в деньги громоздкий товар, однако не пал духом. Но и заменивший в 1597 году Варкоча Авраам Дона имел не более успеха. Дипломатия Годунова на этот раз пустила в ход средство, столь часто и столь успешно применявшееся Грозным: казна царя в распоряжении императора; но ведь речь идет о войне с турками? Значит, сперва необходимо создать общий союз всех христианских государей, а так как посол римского первосвященника находится как раз тут, то к делу можно приступить немедленно. Агент Климента VIII, Александр Комулович, действительно только что приехал в Москву, где он побывал уже два года тому назад. Но целью его миссии был исключительно вопрос о соединении обеих церквей, а Дона, со своей стороны, не имел достаточных инструкций для устроения нового крестового похода, и переговоры таким образом прервались.[16]
Возобновить их уже не привелось за неимением времени. Гроза приближалась. Много было сделано и с той и с другой стороны попыток к сближению, и все они остались тщетными. Пока все еще действовали ощупью, натыкаясь на многочисленные препятствия, разделявшие обе страны: расстояние, глубокое различие цивилизаций, интересов и психики; эту черту можно считать самой характерной вообще для зарождающихся сношений России с Западом во времена Феодора и Бориса.
IV. Сношения с Западом
Борис пытался даже и с отдаленной Францией завязать сношения. Посланный в Париж переводчик Петр Рагон вернулся в Москву в 1586 году с официозным агентом Франциском де Карле, по всей вероятности племянником известного Ланселота де Карле, сотрапезника Лопиталя, Ронсара и дю Беллэ. Дядя был блестящим представителем короля Генриха II в Риме, а племянника уполномочили известить об отправлении посольства, которое так и осталось в проекте.[17]
С Англией дела шли значительно успешней, так как Боус, посланник Елизаветы, находился в Москве при восшествии Феодора на престол. Но после крупных разногласий с Грозным этот вспыльчивый дипломат собрался уехать и, садясь на корабль в Архангельске, в запальчивости даже бросил полученные им обычные подарки и письмо нового царя с существенными условиями нового торгового договора. Однако ливонец Бекман, отправленный курьером вслед за Боусом, в свою очередь остался недоволен тем, что будто бы Елизавета приняла его «в огороде», хотя королева уверяла, что «ни чесноку, ни луку там не росло». Более успешно постарался восстановить хорошие отношения между обоими дворами агент английской Компании Иероним Горсей; в 1587 году ему удалось даже получить очень выгодную для своих соотечественников грамоту. Эта, пятая по счету, грамота значительно сокращала и так уже относительно очень низкие пошлины, которыми еще обременяли в Московском государстве английских купцов. К несчастью, могущественная Компания не прочь была злоупотреблять своими привилегиями, подвергаясь, именно за эти привилегии, ярым нападкам со стороны своих соперников из Германии, Франции, Нидерландов и даже самой Англии. Под покровительством Компании некоторые из ее агентов предпринимали личные спекуляции, и близкий советник Елизаветы, сэр Франциск Вельшингем (Walshingham), не гнушался принимать в них участие; между тем Московия не могла их считать выгодными, тем более что зачастую они оказывались разорительными для ее подданных. Даже сам Годунов пострадал от одного банкротства. Но, с другой стороны, и Иерониму Горсею, этому полукупцу и дипломатическому посреднику, не всегда везло. Так, в 1586 году Борис тайно поручил ему привезти из Англии для Ирины ученую лекарку, которая помогла бы царице иметь детей, а Горсей вернулся с повивальной бабкой!
Годунов усиленно заботился, чтобы забыли это происшествие, а той порой злосчастное впечатление уменьшалось и тогда же привезенными Горсеем подарками; особенно способствовал этому орган, собиравший перед Кремлем целую толпу слушателей. Хотя Феодор не унаследовал от отца личных причин, побуждавших Грозного оказывать внимание Елизавете, зато царский любимец, как свидетельствует Горсей, наоборот, видимо, был проникнут подобными заботами. Он хотел обеспечить себе убежище в Англии, и, когда Горсей уезжал туда, Борис, в свою очередь, отправил королеве подарки; они были так великолепны, что Елизавета, рассматривая их с увлечением, даже «вспотела», хотя дело было в октябре!
Но Годунов был не Грозный. Английская Компания возбудила против себя недовольство, отказав перевести главный пункт своей торговли из Нарвы, оставшейся в руках шведов, в гавань Святого Николая на Белом море, как этого хотели москвитяне. Борис принужден был считаться с этим недовольством, и преемнику Боуса от 1588 до 1589 года, Джильсу Флетчеру, стоило немало труда снова все уладить. Победа, одержанная Елизаветой над испанским королем, сильно способствовала его стараниям, и шестая грамота прибавила к прежним привилегиям английских купцов право свободного проезда через все Московское государство. Однако эта шестая грамота не вернула им полной свободы от пошлин, полученной в 1576 году, когда Грозный мечтал жениться в Англии. И Флетчер даже лично не мог похвалиться вниманием, которое ему оказывали.
Он отомстил тем, что, вернувшись в Англию, обнародовал книгу, которая, несмотря на многочисленные ошибки и слишком явное, преднамеренное зложелательство, остается самым ценным источником для политической, социальной и экономической истории России в эту эпоху.[18] Компания, встревоженная тем, что сочинение приобрело громкую известность, и опасаясь, как бы это не отразилось на делах ее, потребовала его конфискации, и Елизавета охотно согласилась на это. Своей едкой критикой абсолютной власти книга внушала опасения даже в Англии. Появившийся в 1845 году русский перевод был немедленно конфискован, а издатель его был лишен кафедры, которую занимал в Московском университете.
Между тем англо-русские отношения продолжали оставаться на хорошем пути, и правительство Феодора или Годунова вышло без больших потерь из этого дипломатического поединка. – Последствия расширения владений, одновременно предпринятого на востоке и юге государства, в течение 1590 года готовили России более тяжелое испытание.
V. Расширение владений на востоке
Медленно оттесняя азиатский элемент за свои постоянно расширяемые границы, Москва до конца XVI века была ограждена от возвратного наступательного движения мусульманских народов, с одной стороны, беспрестанными смутами, волновавшими Крымский полуостров, а с другой – набегами запорожских казаков, которые, беспокоя татар и турок, все замыслы их о возмездии обращали на Польшу, потому что казаки эти были ее подданными. Миролюбивое расположение крымского хана поддерживалось кое-какими подачками, посылаемыми в Бахчисарай. Но в 1590 году Швеция догадалась дать больше, и последствия этого испытал на себе посланник Феодора, Бибиков. Подражая Баторию, Казы-Гирей, выслушивая царское послание, отказался встать, а весной следующего года Орда выступила в поход. Татары говорили, будто они идут на Польшу, но в Москве скоро узнали истину. В подобных случаях тревогу подымала умно устроенная сторожевая служба. Через всю степь, возле каждого высокого дерева, стояли по два казака: один время от времени взлезал на верхушку, чтобы осмотреть горизонт, другой держал коня своего товарища. И как только туча пыли показывалась вдали, сторожевые скакали до ближайшего дерева по направленно к границе, а этот пост, получив тревогу, в свою очередь извещал следующий.[19] Это был телеграф того времени. И вот благодаря ему 3 июля в Кремль узнали, что татары перешли Оку. На следующий день они были у ворот столицы. Наспех собранная и немногочисленная рать, казалось, не в состоянии будет защитить Москву. Что произошло тогда, так и осталось невыясненным в точности. Одна из тех паник, которой порою подвергались в те времена даже более дисциплинированные войска султана, внезапно обратила Казы-Гирея в столь стремительное бегство, что посланные в догоню за ним несколько московских отрядов настигли арьергард хана только уже около Тулы.
Наибольшую выгоду из этой победы извлек опять-таки Годунов. Кажется, он никоим образом не содействовал успеху. Он не был предводителем войска. А между тем главнокомандующий, Ф. И. Мстиславский, подвергся опале за то, что в своем донесении не приписал всей заслуги в этом события временщику, как подобало. В конце концов всем воеводам были розданы великолепные награды – шубы «с царского плеча» и поместья, – но Годунов получил из них лучшую долю.
Впрочем, с Казы-Гиреем не все еще было кончено. Вернувшись сильно изуродованным в Бахчисарай, он обласкал Бибикова, сделал вид, будто ничуть не опечален этой неудачей, и позволил себе даже шутить по этому поводу.
– Меня плохо приняли у вас, – говорил он послу.
– Ты слишком скоро ушел, – ответил Бибиков, – если придешь другой раз, тебя лучше попотчуют.
Хитрый татарин ухмылялся и подумывал об отместке. Москва была рада, когда, два года спустя (в ноябре 1593 года), в Ливнах на Сосне ей удалось заключить окончательный мир, причем она обещала рассеять донских казаков и заставить терских не беспокоить турок. Хан в то время служил, действительно, обычным посредником между царем и султаном. Долгое время в Константинополе даже упорно отказывались вступить в непосредственные сношения с Москвой. «Его Величество, говорилось там, отправляет посланников только к великим государям Франции, Англии и Испании, которые платят ему дань». Благов, отправленный в Константинополь в 1584 году, чтобы известить о восшествии Феодора на престол, достиг того, что в Москву было снаряжено ответное посольство. Но и после мира в Ливнах разбойничьи набеги казаков и захваты русской колонизации по-прежнему мешали установить сколько-нибудь прочное соглашение.[20]
Москва, действительно, беспрестанно подвигалась все далее и далее. В 1586 году она проникла в Закавказье, но, по правде сказать, тут ее первые шаги были неудачны. Один грузинский князь усиленно просил помощи против турок и персов, а ему послали монахов и иконописцев! Так как князь настаивал на своей просьбе, решили двинуть в поход отряд войска, но предводитель этого отряда князь Хворостинин был разбит и потерял 3 000 человек.[21]
Попытки возобновить сношения с Персией, сделанные одновременно с этим, были прерваны трудностями сообщения. Из всего многолюдного посольства, отправленного к шаху Аббасу в 1598 году, прибыли по назначение только одни сокольники, сопровождавшие драгоценных птиц.[22]
Более успешно шли дела на северо-востоке: замирение возмутившихся черемисов и постройка целого ряда новых городов – Цывильска, Уржума, Санчурска – обеспечивали прочное владение. В низовьях Волги возникли новые города Саратов, Царицын. В Сибири, после смерти Ермака[23] и отступления его товарищей под предводительством атамана Матвея Мещеряка, на некоторое время торжествовал дикий Кучум. Но скоро по следам богатыря, искателя приключений, пошли один за другим московские отряды. В 1585 году воевода Мансуров построил при слиянии Иртыша и Оби укрепленный город и пушечным ядром сокрушил знаменитого идола, которого остяки противопоставили его артиллерии. В течение следующих лет были основаны Тюмень и Тобольск, а в 1590 году вслед за Лугуем, владевшим двумя городами и четырьмя крепостями на Оби, сам Кучум изъявил покорность.
Мирному завоеванию этого края способствовали и заселения Строгановых. Их промышленные успехи и создание Пелыма, Березова, Сургута, Тары, Нарыма и Кетского Острога, которые служили центрами привлечения русских земледельцев и ремесленников, позволили Феодору с 1592 года говорить о Сибири как об окончательно присоединенной к его владениям области. Кажется, теперь в России об этом забывают.
Во всяком случае, как внутри, так и извне, правление преемника Иванова было вполне мирно, и страна, после жестоких испытаний в царствование Грозного, обязана Феодору как бы перемирием между потрясениями недавнего прошлого и бурей недалекого будущего.
VI. Внутреннее управление
Изо всех имевших значение в русской истории временщиков Годунов был, без сомнения, наиболее достойным своей высокой доли. Он был неграмотен; но ему никак нельзя отказать в довольно правильном понимании польз и нужд своей родины в ту пору, когда он был призван ею править. Бывши сотрудником Ивана Грозного в его разрушительной работе, он сумел понять, что после перекройки следовало снова сшивать: положить конец экономическому расстройству, бывшему последствием революционной политики предшественника; восстановить обрабатывание земли в обезлюдненных центральных областях; оказать помощь классу «служилых людей», поместья которого обратились в пустыню; облегчить тягость налогов, которые обременяли сократившееся в числе тяглое население; наконец, ослабить до крайности обострившиеся столкновения между различными элементами населения. Годунов хвалился, что он всюду установил в такой мере «порядок и правосудие, что под его управлением никто, как бы велик и силен он ни был», не решится обидеть «даже сироту». Это были только красные слова; но после свирепых неистовств опричнины уже одно то, что правительство хвалилось честностью и правосудием, имело некоторую цену.
Борис Годунов был кичлив непомерно. В 1691 году московские послы утверждали в Варшаве, будто он освободил по всей стране землю от всяких налогов. Ни одной десятины, платящей хотя бы копейку! Опять одни красные слова, подобные обычному жесту Бориса, с каким он, теребя богато вышитый ворот своей рубахи, объявлял, что он готов поделиться всем, до этой одежды включительно, с первым попавшимся нищим. А в это самое время печальные угличские изгнанники и заведовавший земским хозяйством дьяк Битяговский, у которого впоследствии произошли с ними и другие более серьезные ссоры, спорили из-за размеров подати, причитавшейся с каждой обработанной десятины! Частичные льготы, отмененные ввиду истощении казны между 1580 и 1584 годами, были только что снова восстановлены, и Борис, по своему обыкновению, воспользовался этой щедростью и пустил пыли в глаза своим соседям, полякам.
Однако страна весьма заметно оправлялась от только что перенесенных ужасных испытаний. Население успокаивалось и увеличивалось, благодаря возвращению большего количества беглецов. Несмотря на упадок внешней торговли, который отмечен Флетчером и, без сомнения, объясняется потерею Нарвы, торговые обороты вообще заметно увеличились.[24] Но зло было глубоко, и те средства, к которым прибегали, могли оказать свое действие лишь со временем.
Политика Ивана Грозного стремилась расчленить некоторым образом и перестроить общество, положив в основание сословие «служилых людей», которое отбывало только воинскую службу и никоим образом не должно было приобретать значение органического элемента в общественном строе. Лицом к лицу с этим непроизводительным и неспособным к почину сословием стояли разъединенные, полные разлада, вооруженные друг против друга – крупный землевладелец, освобожденный от всяких повинностей; монах, ненасытно алчный к захвату земель; одинаково разоренные мелкий и средний собственник и превращенный в бродягу, ушедший в степь «казаковать» крестьянин, – все они выжидали только случая порешить с этой непрестанно ожесточавшейся враждой.
Впрочем, Годунов продолжал некоторым образом следовать программе Грозного, не проявляя лишь его жестокости. И русские и иностранные летописцы, как Тимофеев или Флетчер, вполне согласуются в указании на то, что Борис покровительствовал людям низкого звания в ущерб родовитой знати. И возвышение таких людей, как Клешнин, и значение, которое придавали в Думе дьякам вроде Щелкалова, по-видимому, оправдывают эту оценку. Но Годунов вместе с тем деятельно выступал в качестве примирителя в ожесточенной свалке тех обломков былого общественного строя, которые, покоряясь присущему им закону развития, стремились со своей стороны органически преобразоваться, но сталкивались между собою в страстной борьбе. Борьба шла за обладание землей, и в еще более жестоком виде – за обладание рабочими руками. Монахи и крупные помещики захватывали лучшие доли того и другого; а мелким собственникам приходилось оспаривать друг у друга немногие оставшиеся в их распоряжении пригодные к обработке десятины, охотиться на человека, на землероба; его преследовали в плохо охранявшихся поместьях, разыскивали по кабакам, где так удобно коварно переманить его, завлекали в дебри двусмысленного законодательства и продажного правосудия.
Годунов, в бытность своею правителем, а впоследствии царем, сильно заботился о том, какое придумать средство против этой хозяйственной и общественной язвы; и вот, под влиянием этой заботы или, вернее, с целью положить конец беспрестанному шатанью населения, обеспечить возделывание земли и искоренить разбойничество, он в 1592 году отменил, как полагают, право перехода, которое до той поры было предоставлено большинству крестьян.
Это было прикрепление к земле, безжалостный закон, одним росчерком пера закрепостивший тысячи человеческих существ!
Я уже высказал свое мнение по этому предмету,[25] и теперь, после нового исследования этого вопроса, я все еще отказываюсь допустить, что Годунов должен нести перед историей такую страшную ответственность. За неимением ни единого прямого свидетельства, его обвинителям остается ограничиваться умозаключениями, добытыми при помощи законодательных текстов позднейшего времени, из которых одни сомнительны или явно подложны, другим же можно давать самые различные толкования. Как ни много проницательности употреблено было на то, чтобы истолковать их в желательном смысле, мне все еще кажется неправдоподобным, чтобы почин одного человека мог, даже в этой стране произвола и насилия, ввести в один час то, что во всех других местах было созданием нескольких веков и следствием совокупности экономических и социальных причин. Те же самые причины издавна оказывали свое влияние и здесь, и последствием их вековой работы, завершившейся в XVI веке, было порабощение земледельца либо землею, либо землевладельцем (и этот вопрос тоже остается спорным).
Законодательный акт 1592 года, если он в самом деле причастен к вопросу, как и все последующие акты XVII и XVIII веков, относящиеся к этой области, издан был, вероятно, лишь с целью упорядочить на время истинное положение вещей, освященное житейским обиходом. В 1601 году, когда Борис уже царствовал, другое временное распоряжение должно было отчасти восстановить для некоторых разрядов крестьян право перехода, и вот из этого-то именно распоряжения исследователи и извлекли довод в пользу своего предположения об отмене права перехода в 1592 году. Но, лишая единовременно и притом самым прямым образом этой привилегии некоторые разряды крестьян, распоряжение это, подлинный текст коего дошел до нас, исключает, по-видимому, всякую мысль об общем законодательстве, касающемся этого вопроса. И будучи правителем, и сделавшись царем, Борис преимущественно прибегал к временным мерам, лишь бы выйти из затруднения, и этим он положил начало той «показной» политике, которой суждено было оказывать такое большое влияние на дальнейшую судьбу его родины.
Другой разительный пример этой политики можно видеть в самом важном событии его времени, имевшем значение как с политической, так и с религиозной точки зрения, – я имею в виду учреждение патриаршества.
По своим непосредственным причинам это событие, несомненно, находится в прямой связи с великим делом соединения обеих церквей; но в этом вопросе, как видно по отрицательному результату двух уже упомянутых выше миссий Комуловича, Годунов сумел занять лишь пассивное положение.[26] А вопрос этот был не таков, чтобы можно было выжидать, воздерживаясь от решения. Откладывать его нельзя было никак. Флорентийская уния обращалась в ничто под воздействием трех факторов: московской пропаганды, византийского влияния и безучастного отношены к ней католического духовенства. Но оказалось, что подготовлялось иное сближение, в силу двух весьма различных и, тем не менее, действовавших согласно между собою причин: нового подъема религиозной энергии, возбужденного в католичестве натиском реформации, и происходившего в то же самое время расстройства, – я сказал бы, почти полного разложения – православной церкви в Московском государстве.
Русские историки прежде обвиняли по этому поводу польское правительство в макиавеллизме, а теперь и они[27] признают, что побочное возникновение этой досадной задачи было, главным образом, последствием внутреннего перелома в лоне национальной церкви. Конечно, Польша не могла оставаться безучастной к этому вопросу. В одних только польских владениях князя Константина Острожского (а они заключали в себе, со своими 35 городами и местечками и семью сотнями деревень, значительную часть нынешней Волынской и часть губерний Киевской и Подольской), в одних этих владениях насчитывали 600 православных церквей, большое количество православных монастырей и ни единой униатской церкви! Спустя тридцать лет после смерти этого властелина, его внучке Анне-Алоизе Ходкевич пришлось председательствовать при закладке иезуитской коллегии в Остроге; тогда как наследник другой части владений, князь Владислав Доминик Заславский, издал в 1630 году распоряжение, коим предписывалось, чтобы все православные священники присоединились к унии.[28] Конечно, это было делом ополячивания, которое совершалось таким образом. Но поляки лишь воспользовались движением, исходившим из недр самой православной церкви. После Флорентийской унии Брестская уния (заключенная 23 декабря 1595 года при единодушном содействии всех русских епископов, имевших епархии в Польше) была лишь своего рода расколом, происшедшим, как и раскол XVII века, вследствие болезненного состояния церковного организма.[29]
Главным действующим лицом этого истинного раскола был воспитанник иезуитов Михаил Рагоза, рукоположенный в 1589 году константинопольским патриархом Иеремией в киевские митрополиты. Сам Иеремия, изгнанный в то время турками, искал убежища и… определения на должность. Удержавши его в Польше, можно было бы извлечь еще больше выгоды из его расположения. Но Сигизмунд упустил этот благоприятный случай, и странствующей патриарх направился в Москву, где его приняли с распростертыми объятиями.
С одной стороны, здесь чувствовали необходимость противодействовать тому, что подготовлялось в Польше, а с другой – преобразование национальной церкви уже давно стояло на очереди. Осуществленная уже на деле автономия русской церкви требовала еще освящения, а в то же самое время неизбежный упадок восточных патриархов делал безотлагательным разрыв номинальной зависимости, которой ничто уже не соответствовало в действительности. Во время своих частых посещений Москвы патриархи появлялись в ней почти только для собирания милостыни. Антиохийский патриарх Иоаким только что прожил там довольно долго; согласившись занимать второе место после московского митрополита, своего подчиненного по каноническому учению, он этим и внушил Годунову мысль обратить действительное положение дела в законоустановленное. Начали разрабатывать вопрос об учреждении независимого московского патриаршества. Приезд Иеремии содействовал осуществлению этого замысла. Обольщенный надеждой, что он сам займет новый патриарший престол, он охотно согласился взять задуманное учреждение под защиту своего авторитета. Но ему предложили кафедру во Владимире, так как митрополит Иов не мог уступить ему своего места в Москве, и вот 26 января 1589 года Иеремия покорился судьбе и рукоположил этого своего соперника.[30]
Указ, обнародованный по этому поводу, напоминает, что после Рима и Константинополя Москва сделалась средоточием христианской церкви, третьим Римом; он и определил быть новому патриарху на третьем месте после константинопольского и александрийского. Это последнее постановление не было утверждено Константинопольским собором, который в 1590 году дал согласие на самый акт, который Иеремия взял на свою ответственность. Новый московский патриарх оказался отодвинутым на пятое место. Но в Москве об этом и знать ничего не хотели.[31]
Ясно, что это было прекрасное добавление к зарождающемуся великолепию государства. Но все это было лишь украшение «напоказ». Как признает один из крупных русских историков, учреждение патриаршества не принесло национальной церкви никакого приращения внутренних сил, не внесло в нее никакого оздоровляющего и животворного начала. Будучи и без того уже автокефальной, даже более чем независимой в своих отношениях с нуждающимися восточными иерархами, русская церковь не приобрела того, что ей было гораздо более необходимо: никакого нового обеспечения от произвола светских властей, а только они одни и угрожали ее независимости.[32] Как покажет потом близкое будущее, патриаршество сделалось скорей преградой для преобразований внутри церкви, и опять-таки лишь они одни могли бы поднять национальное духовенство на высоту его призвания.
Но, предваряя подвиги, которыми блистали и многие другие из будущих властителей России, Годунов имел склонность к прикрасам и пусканию пыли в глаза, и к этим приемам введения в обман он прибег вскоре при таком событии, которое имело более решающее значение, когда его судьба, хотя все еще восходящая, наткнулась на зародыш рокового падения и заразилась им.
На пороге тревожной эпохи, изучение которой составляет истинный предмет настоящего труда, и о которой я сейчас начну рассказывать, царствование Феодора походит на тот промежуток обманчивого безветрия и лучезарного затишья, который предшествует бурным событиям в природе. Излагая по возможности сжато его историю, я, к сожалению, чувствую, что мне все-таки не удалось избавить своих читателей от некоторой скуки в этом несколько тусклом прологе. В следующей главе читатель будет введен в самую суть драмы.
1
Waliszewski, К. Ivan le Terrible, стр. 490. (К. Валишевский. Иван Грозный. Страницы – по французскому изданию.)
2
Арцыбышев, Н. С. Повествование о России. M. 1843, т. III, стр. 1–2, Historica Russiae Monum. т. II, № VIII; Летопись о многих мятежах (Никоновская летопись), т. VIII, стр. 5–7.
3
Ivan le Terrible, стр. 66, 321 и сл.
4
Сергеевич. Лекции и исследования по истории древн. рус. права, стр. 128.
5
Ключевский. Состав Земских Соборов, «Русская Мысль», 1890 г.
6
Латкин. Земские Соборы, стр. 87 и след.
7
Акты исторические, I, 219 и Добавление, I, 143; Акты археографической комиссии, I, 341.
8
Соловьев. История России, т. VII, стр. 270 (по изд. 1861 г.).
9
Середонин. Сочинения Джильса Флетчера, стр. 180.
10
Wierzbowski. Materiały do Dziej(w Pi(mennictwa polskiego, t. I, p. 264–308.
11
История Государства Российского, т. X, гл. II, стр. 49.
12
Caro. Das Interregnum Polens, стр. 59 и след., Hist. Russiae Monumenta, т. II, № XVI.
13
См. об этом в рус. летоп.: Никоновская, VIII, 12–13; 16–17 и 29–30; Первая Псковская летопись (Полное собрание летописей, V—320); Kelch, Lievl. Hist. 447–449; Hiaern (Mon. Liv. Ant. I, 369–371); Соловьев. История России, VII, 329 и след.; Форстен. Балтийский вопрос. II, 52.
14
Adelung. Uebersicht der Reisenden, I, 401.
15
Щепкин. Archiv f(r Slavische Philologie, XXII, 401; Платонов, Журн. Мин. Нар. Просв., июнь 1898; ср. у Лихачева. Разрядные дьяки. Стр. 191 и след.
16
Смотри для этого эпизода: Fiedier, Beziehungen Oesterreichs zu Russland, Almanach der K. Akad. der Wiss. 1866, стр. 257 и след.; Форстен. Балтийский вопрос. т. II, стр. 56 и след.; Бантыш-Каменский. Обзор внешних сношений, I, 13–14; Соловьев. История России, VII, 346; Pierling, Papes et Tsars, стр. 443 и след. – Документы: Памятники дипломатических отношений, I, 1049 и след.; II, № 32 и след. Hist. Russiae Mon., II, XXV; донесения и заметки Варкоча в Венских Архивах.
17
См. Paris, La Chronique de Nestor, I, 381.
18
The Russian Common Wealth, 1591. (О Государстве Русском. Сочинение Флетчера. СПБ. Изд. А. С. Суворина). – См. для этого события: Russia at the close of the XVI. С. Введение, ст. LXXXIX и след. и Приложение I, ст. 281; Толстой, Россия и Англия, №№ 61–64, 67–74, 76–80; Бантыш-Каменский. Обзор внешн. снош., I, 94 и след. Сборник Имп. Рус. Ист. Общества, XXXVIII, 186–246; Середонин, Сочинения Джильса Флетчера, стр. 140.
19
Карамзин. История Государства Российского, т. X, гл. III, стр. 138.
20
Соловьев. История России, VII, 370 и след.
21
Там же, VII, 387.
22
Веселовский. Памятники дипломатических сношений с Персией, I, 334 и след.
23
Waliszewski. Ivan le Terrible, стр. 478.
24
Платонов. Очерки по истории смуты, стр. 593.
25
Ivan le Terrible, стр. 29.
26
См. для истории этих миссий: Памятники дипломатических сношений, X, 393–502; Hist. Russiae Monumenta, II, №№ 26–29; Pierling, Papes et Tsars, стр. 448 и след.; его же, La Russie et le Saint-Siège, II, 330 и сл.
27
См. у Ореста Левитского, в его предисловии к шестому тому Архива юго-западной России, стр. 9.
28
Кулиш. История воссоединения Руси, I, стр. 251 и след.
29
Архив юго-западной России, VI, № 246.
30
Собрание государственных грамот и договоров, II, стр. 95. Сличите у Терновского. Изучение Византийской истории, т. II, стр. 72–73.
31
См. по этому вопросу: Николаевский. Учреждение патриаршества; Зернин, то же заглавие (Архив истор. и юрид. наук, изд. Калачевым, т. II, 1-ая часть, стр. 1—34); Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку; Макарий. История русской церкви, X; Haigold (Schlözer), Beilagen zum neuveränderten Russland, I, стр. 1; Adelung, Uebersicht der Reisenden, I, 381. Источники: Древняя Российская Вивлиофика, тт. XII и XVI; Русская истор. библиотека, II; Акты исторические. Дополнения, № 76. – Греческие повествования: Иерофея, именуемого также Дорофеем; в русском переводе у Терновского, указанное соч., Арсения Элассонского, напечатанное в Codices manuscripti Bibl. Taurinensis, Turin, 1749, т. I, по рукописи, которая теперь находится в Парижской Национальной библиотеке.
32
Костомаров. Русская история в жизнеописаниях, т. I, стр. 599.