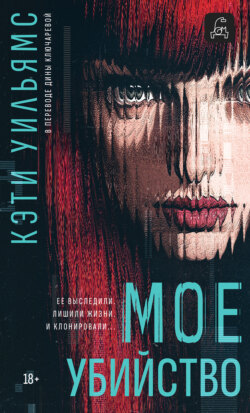Читать книгу Мое убийство - Кэти Уильямс - Страница 3
2
ОглавлениеА потом я очутилась на вечеринке: приглушенный свет чужой гостиной, аромат чистящего средства, теплое марево от греющих свечей. Я бы предпочла ухающую музыку, незнакомцев и танцы. Но вместо этого попала на камерную тусовку: кулоны на винных бокалах[2] и сплетни вполголоса. Гости кружили вокруг меня. Одни дотрагивались до моего локтя, другие – нет. Подходили парами и тройками, словно я – ваза с пуншем, сырная тарелка, веер маленьких салфеток в салфетнице. Я давно не бывала в компании такого количества людей. Нервировало внимание ко мне, случайно перехваченные взгляды, шепотки, в которых проскальзывало мое имя. Мне даже показалось, что я слышу, как кто-то мурлычет в ритме считалки, которую дети чеканят, играя в ладушки:
Эдвард Ранни, Эдвард Ранни вышел ночью на охоту,
Эдвард Ранни, Эдвард Ранни Анджелу оставил в парке.
Ферн засунул он в тележку.
Язмин бросил в переулке.
Лейси свесил с карусели.
А с Луизы снял кроссовки.
А с Луизы снял кроссовки.
Я огляделась в поисках Сайласа, который, вопреки всем своим волнениям и занудству, бросил меня в толпе одну. Я понятия не имела, где он. Впрочем, это ложь. Я не сомневалась, что он выскользнул во двор покурить вместе с Тревисом. Я сбежала на кухню и налила себе в бокал какой-то фиолетовый напиток.
Тусовщики нагнали меня и здесь – обернувшись, я обнаружила, что почти окружена. Их было четверо: подружка Тревиса, которую я мысленно называла Навеселе, обнимающаяся парочка, которая, казалось, упадет без чувств, если отлепится друг от друга, и одинокая женщина, которая постоянно шмыгала носом – то ли неодобрительно, то ли из-за простуды, разобрать было сложно.
Кое-кто выступал против действий комиссии по клонированию: одни – из религиозных соображений, другие – из-за прошлогодних скандалов. Третьи протестовали против клонирования меня в частности, считали, что я не заслуживаю оживления, поскольку кто я вообще такая? Никто, какая-то непонятная женщина. Лучше бы оживили их любимую певицу или бабулю.
– Лу! – воскликнула Навеселе – это прозвище явно было в точку: щеки и нос у нее раскраснелись от выпитого. – Мы так рады, что ты здесь!
Уж не знаю, что она подразумевала под словом «здесь»: что я пришла на вечеринку или что вообще жива. Я так и не вспомнила, как ее зовут. Поэтому подняла бокал и сказала:
– С днем рождения Тревиса!
– Нет, – сказал тип из парочки, – с днем рождения вас!
– О, сегодня ведь не мой день рождения, – возразила я.
– В каком-то смысле ваш, разве нет? – уточнила его вторая половина.
– Можно назвать этот день днем перерождения, – предложил тип. Он забрал у меня бутылку вина и вскинул руку с ней. – С днем перерождения вас! – И отхлебнул из бутылки.
– Давайте просто выпьем за Лу, – вмешалась Навеселе, бросив на друзей грозный взгляд. Она прикоснулась к моему плечу. – Давайте, а? За Лу?
– За Лу! – нестройно воскликнули тусовщики.
Я благодарно отсалютовала своим напитком. Они тоже подняли бокалы.
– Ну, расскажите же, – попросил мужчина, когда все поутихли.
– Что рассказать? – не поняла я.
– Каково это?
– Каково что?
– Родиться, конечно!
Навеселе с укором произнесла имя вопрошающего, но не заткнула его и руку с моего плеча тоже не убрала.
– Ну правда, – сказал он. – Я вот не помню, как сам родился. А вы помните?
– Нет, конечно, – ответила Навеселе. – Я же младенцем была.
– А вот она – нет! – Мужчина ткнул в меня пальцем. – Она была такой… как сейчас.
Я бросила взгляд вглубь дома, высматривая Сайласа, но его не было видно. Тусовщики наблюдали за мной с преувеличенным вниманием пьяных людей, с рассредоточенной сосредоточенностью. Я подумала, что неплохо бы отсюда улизнуть. Обронить благовидный предлог и дать деру. «Я в ванную!», или «В дверь звонят!», или «Фред!». Какой еще Фред?
А потом мне пришло в голову кое-что еще. Я подумала: им так хочется знать, каково это было? Хочется послушать байку? Ну так я расскажу. Взяла и рассказала.
– Первое, что я почувствовала, – это шум в ушах: я подумала, что шумит вода.
Тусовщики переглянулись и снова воззрились на меня.
– Вода, – тихо повторил один из них.
– Что это за вода, я не знала. Моя кровь? Вода в кухонной раковине? Волны океана бытия и небытия? Как выяснилось, это была вовсе не вода. Оказывается, слышала я совсем не воду, а звук, с которым моя кожа трется сама об себя – я терла руками бедра. Так я и обнаружила, что у меня есть руки! А еще бедра!
В этом месте тусовщики засмеялись. Забавно, наверное, узнать, что у тебя есть тело. А может, забавным было то, что мне досталось именно это тело, за плечо которого все еще держалась подружка Тревиса – с восхищением, а может, и с разочарованием, или и с тем и другим сразу, потому что это плечо ничем не отличалось на ощупь от любого другого плеча.
– Когда я открыла глаза, – продолжала я, – у меня возникло чувство, будто я опять в воде. Все было мутным или смазанным, смазанным или мутным. И я подумала: кто-то взял и превратил этот мир в месиво. Но потом я моргнула, и до меня дошло, что это мои слезы. Просто слезы, из-за которых мир вокруг превратился в одно сплошное месиво. И как только я поняла, что это слезы, они потекли по щекам.
– Вы плакали? – спросил кто-то.
– Исключительно механически. Врачи залили мне в глаза жидкость, чтобы слизистая не пересохла. Когда я проморгалась, все стало четким.
– И что вы увидели?
– Мужа и дочь. Если кто и плакал, так это Сайлас. Впрочем, Сайласа все доводит до слез: что реклама кредитных карт, что мебель, выставленная на помойку, он плачет при одной только мысли о том, как бабушка варит ему суп.
Тусовщики усмехнулись: Сайлас, их коллега с характером стоика, – и плачет при мысли о бабушкином супчике.
– Вы их узнали? – спросил кто-то.
– Конечно, узнала. Память у меня сохранилась. Иначе чем бы я была? Не собой. Просто телом. Одним большим месивом.
Тусовщики снова засмеялись – на сей раз неловко. Навеселе взглянула на руку, которая все еще лежала у меня на плече, но так ее и не убрала. Возможно, позже она потрет пальцами друг о друга и подумает, что на тех осталась какая-то пыль с меня, некие хлопья, хотя источником этого ощущения будет только она сама.
– Что еще вы помните?
– Помню запахи. Я чувствовала запахи больницы: обеззараживающего средства, пластиковой упаковки, в которой прежде лежало мое постельное белье, и чего-то под названием «обед». И аромат средства после бритья, которым пользуется Сайлас. Лимон и табак.
– Учуяли родной запах.
– Да, родной запах.
Тусовщики заулыбались и как по команде отпили из бокалов. Навеселе наконец-то отцепилась от меня и обхватила себя руками. Эта история явно прозвучала утешительно. Из забвения мы приходим в забвение, бла-бла-бла. Тусовщикам, как и всем остальным, хотелось верить, что после того, как все слезы будут пролиты, а гроб опустят в землю, они откроют глаза в ином мире, и первыми, кого они увидят, будут их родные.
Обо всем остальном я умолчала. На вечеринках такое не обсуждают. Я не рассказала им о том, как выдернули катетер, что торчал у меня между ног; о родинке на подбородке у врача, просвечивавшей из-под тонального крема, как солнце из-за луны во время затмения; о том, как Сайлас сказал: «Она может?..» – и смутном осознании, что «она» – это я. Что она должна мочь?
Я не рассказала им о боли – не ожидаемой и острой, какой ее себе представляешь, а зудящей, бесформенной и необоримой, как будто сильно ошпарила язык и кажется, что во рту на месте, откуда он растет, образовалась дыра.
Я не рассказала им, до чего унизительно очнуться в присутствии команды врачей, которые разглядывают и в подробностях, с энтузиазмом обсуждают форму твоей вульвы.
И я не рассказала им о том дне – я не любила о нем вспоминать, – когда ко мне в палату пришли Герт и какой-то ее коллега из комиссии по репликации, который все подтягивал манжеты, словно не хотел, чтобы кто-то увидел его запястья. Они устроились в креслах возле моей койки, и Герт рассказала, что я теперь одновременно та и не та женщина, которой привыкла себя считать. Та женщина умерла, объяснила Герт. Погибла, в конце концов отважился вставить ее коллега из комиссии. «Была убита» – не сказал никто. А меня вырастили из образца ее клеток. На самом деле я копия той женщины, первой, подлинной Луизы. Но мне ни в коем случае не следует воспринимать себя как копию, быстро поправились Герт с коллегой. Когда они произносили эти слова, их глаза бегали по моему лицу туда-сюда, как лампа сканера в копировальной машине.
Вот так я и родилась. Тусовщики задали мне вопрос и о смерти. Вернее, задала его шмыгающая носом женщина, которая задержалась, когда остальные уже разошлись. Все то время, пока я повествовала о моем рождении, она отмахивалась от овощной нарезки и разглядывала свое отражение в окне позади меня.
– О смерти? – переспросила я. – О нет. Этого я не помню.
И постучала себя по виску – в точности как Герт, когда рассказывала мне о том же. Тогда, в больнице, я заметила, что у Герт на зубах отпечаталась помада. Вернее, только на одном зубе. От этого мне стало легче – от мысли, что она не безупречна.
– Свежие воспоминания теряются в процессе, – объяснила я этой женщине, как мне тогда – Герт. – Ну и, знаете ли, шок.
– О, я знаю. – Женщина прижала руку к сердцу. – Точнее, сама я такого не переживала. Но я читала об этом, о шоке. Звучит ужасно.
– Э-э. Да.
– То есть вы хотите сказать, что вообще ничего не помните? Ни малейшей детали?
– Ни единой.
– Плохо.
В этот момент меня бросило в жар – и от вина, и не от вина.
– Плохо, что я не помню, как меня убивали? – уточнила я, но моя собеседница, кажется, перемены в тоне не заметила.
– Я к чему – неужто вам не интересно? Мне бы было.
– Интересно? Нет. Мне рассказали, что произошло.
– Правда? – Женщина с интересом подалась ко мне, вино в ее бокале скользнуло к золотистой кайме вдоль края, словно тоже желало послушать.
Не знаю. Я стараюсь быть доброй и милой, милой и доброй. Но иногда на меня находит.
– Он рассказал следователям, что отследил маршрут моих пробежек, – поведала ей я. – Что несколько дней ходил за мной по пятам, делая пометки в своем маленьком блокнотике, заведенном специально для этой цели.
– Как страшно! – ужаснулась женщина.
– Сказал, что ждал меня, спрятавшись за деревьями, что запомнил, как скрипят мои кроссовки, и, как только я пробежала мимо, выскочил, схватил меня за хвост и намотал его себе на руку.
– Какой ужас! – ахнула собеседница.
– Сказал, что вышло идеально – идеально для него, конечно, – потому что у меня при этом запрокинулась голова и обнажилось горло, так что перерезать его было легко.
– Какая жуть! – охнула женщина.
– Он сказал, что все произошло очень быстро.
– И безболезненно, – прошептала она.
– Безболезненно? – Я взглянула на нее. – Почему это безболезненно?
– Нет, я имела в…
– Перерезанное горло – это болезненно. Он рассек мне кожу, мышцы, трахею. И мне пришлось дышать собственной кровью. Можете представить, каково это – вдыхать собственную кровь?
Ее рука взлетела к горлу.
– Ну а что было дальше, вы и так знаете, – не унималась я. – Вы же читали газеты, смотрели новости. И знаете, что он бросил меня умирать. Но я не умерла. Не сразу. Видимо, я убежала или, может, уползла в кусты. Через три дня меня нашли в водосточной канаве. Следователи считают, что я пыталась добраться до дороги, чтобы поймать машину. Но не успела. И умерла. Но… ничего этого я не помню, – заключила я. – Что плохо, как вы сами сказали.
Лицо у женщины побелело. Это я согнала с ее лица все краски. Поначалу мне было приятно, что я задела ее за живое, потом стало противно, а затем все равно. Я протиснулась мимо нее и покинула кухню. Пока я шла сквозь веселящуюся толпу и коридор в спальню Тревиса – совершенно пустую, в этом я не сомневалась, – у меня было чувство, словно я наблюдаю за собой сзади, смотрю на свою темную макушку.
Я уставилась на гору чужой верхней одежды на кровати. Из рукавов не торчали кисти, из воротников – головы, груди не вздымались и не опадали. Бестелесные тела. Я легла на кровать и зарылась в эти самые куртки и пальто. Принялась наслаивать сверху шерсть, хлопок и нейлон и в конце концов погребла себя под тонной пустой ткани, под рукавами, плечами и спинками, в которых не было людей.
Я немного так полежала. Несколько минут. Через некоторое время из соседней комнаты донеслось нестройное пение – пели «С днем рождения тебя». Видимо, кто-то вынес торт. Я даже запах воска уловила, когда задули свечи. Все-таки не зря тот тип из парочки спросил меня про день рождения. Теперь у меня таких два – номер один и номер два. Но тусовщикам я подпевать не стала. Нет, петь мне совершенно не хотелось.
Дверь открылась, и кто-то вошел в комнату.
– Лу? – произнес Сайлас. Молчание. Я подождала, пока он заметит мои ноги. – Что ты делаешь?
– Ничего. Я пальто.
Матрас прогнулся. С моего лица одно за другим сняли рукава и плечи, и надо мной возник Сайлас. И посмотрел на меня – лоб сморщен, губы сжаты в тонкую линию. Он ничего не сказал про пальто, не сказал, что надо было остаться дома, не сказал, что предупреждал меня. Как я уже говорила, он замечательный мужчина, с этим согласны все. Я с этим тоже согласна.
Сайлас погладил меня по щеке.
– Ты как?
– Я? Прекрасно. У меня шелковая подкладка и латунные пуговицы. Я двубортное пальто. У меня в кармане пачка жвачки. Я готова к зиме.
Сайлас состроил печальную гримасу.
– Рановато для вечеринок?
– Немножко, – признала я.
– Прости, что бросил тебя. Я думал, у тебя все хорошо.
– Было хорошо, – сказала я. – А потом стало плохо.
– И ты превратилась в пальто.
– С латунными пуговицами.
– Что бы ты сделала, если бы кто-то зашел сюда за своим пальто?
– Не знаю. Ушла бы с ним?
Сайлас покачал головой, но у него на губах возникла тень улыбки.
– Может быть, – медленно произнесла я, – я уйду с тобой.
Вот она. Улыбка.
– Может быть? – спросил он.
– Не может. Точно уйду с тобой.
Сайлас взял меня за руки и поднял, поставил на ноги. Пальто соскользнули на кровать.
– Пойдем домой, – сказал он.
День рождения
Первый день рождения, который я помню, – то ли третий, то ли четвертый по счету, лишь смутное воспоминание из раннего детства. Кто-то – скорее всего, Папуля – решил, что я люблю лебедей, и купил мне торт в форме оного. Мы с отцами в то время жили в микрогородке, и в пруду рядом с общественным центром обитала пара лебедей.
По правде говоря, те лебеди мне не нравились, вообще ни капельки. Более того, я их побаивалась. Они вытягивали шеи и шипели, как коты, а еще засоряли прудик, выпуская в воду струи зеленого помета. Как-то раз я подошла к ним слишком близко, и одна из птиц погналась за мной. С тех пор, едва завидев лебедей, я показывала на них пальчиком и вопила. Видимо, так и родилась идея того торта: мой страх перепутали с восторгом.
Торт, пусть и в форме моего личного кошмара, был произведением кондитерского искусства: с завитками из белого шоколада и кокосовыми хлопьями вместо перьев. Сладости мне перепадали редко, потому что мой второй отец, Дин, медбрат по профессии, считал, что детей приучают ассоциировать сахар с любовью. У Дина были квадратные очки, квадратный подбородок, квадратные плечи и дар уклоняться от всякого вздора – тот словно обтекал его по периметру. Наверное, поэтому Папуля, жуткий сладкоежка, напрочь лишенный практичности, и заказал этот торт. Дин, вероятно, был прав насчет сахара и всего прочего. Но после смерти Папули я с тоской думала обо всех тех десертах, которые ему не довелось съесть.
Тот лебединый торт мы, кстати, съели. И Папуле достался здоровенный кусок. До сих пор вижу его перед тарелкой с пышным белым треугольником бисквита. Вижу довольную улыбку.
А я? Мне не повезло. Я заразилась простудой, которой по очереди болели все дети в городке, и полголовы у меня было забито слизью. Казалось, будто мне под кожу лица вставили горячую маску, от которой все зудело. В тот день простуда стала настоящей трагедией. Каков был шанс, сокрушалась я, разболеться именно сегодня? В единственный день имени меня? Хуже того, из-за простуды я не почувствовала сладость торта. Кто-то выдал мне свечку – облизнуть, это я помню. Крупицы сахарной глазури и воск были совершенно неразличимы на вкус.
2
Wine charms – проволочные колечки с маленькими кулонами разного цвета или формы, которые цепляют на ножки винных бокалов, чтобы не спутать свой с чужим.