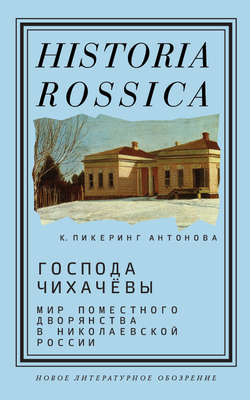Читать книгу Господа Чихачёвы - Кэтрин Пикеринг Антонова - Страница 4
Введение
ОглавлениеВ российской провинции в середине XIX века одна женщина по имени Наталья Ивановна Чихачёва посвящала большую часть своего времени управлению несколькими поместьями, где трудилось несколько сотен крепостных крестьян. Она вникала в мельчайшие детали своего обширного хозяйства, а в это время ее муж Андрей Иванович уделял все свое внимание воспитанию двоих детей. Подобное распределение обязанностей поражает современного читателя, ибо кажется странным для России той эпохи, но Чихачёвы – как и их соседи и друзья – не видели здесь ничего необычного. На самом деле многие их современники распределяли семейные обязанности сходным образом.
Жизнь семьи Чихачёвых, на первый взгляд, противоречит принципам идеологии домашней жизни, в частности представлению, будто женщины должны сидеть дома, ухаживая за детьми, пока мужчины трудятся вне родного дома. Рассмотрение понятия «domesticity» (единого мнения о русском аналоге термина, относящегося к «сфере домашней жизни», в историографии пока нет) отсылает к хорошо известной дискуссии о теории «разделенных сфер» и о том, каким должно быть поведение идеальной женщины. Предполагалось, что идеальная женщина скромна и приятна в общении, ее энергия направлена на то, чтобы быть «ангелом дома», благоустраивать семейное гнездо и лелеять своих детей. Эта риторика начала возникать в западноевропейской художественной и дидактической литературе в первой половине XIX века – по мере того, как индустриализация все решительнее вела мужчин среднего класса от управления семейным делом (которое в доиндустриальные времена зачастую осуществлялось из дома и с помощью хозяйки дома) к работе в конторах, на промышленных предприятиях и в правительственных учреждениях. Дискуссия о «сфере домашней жизни» (domesticity) являлась – и даже сегодня является, хотя и в меньшей степени – весьма влиятельной. Но она была и остается всего лишь дискуссией, и в меньшей степени реальностью.
Несмотря на рост численности среднего класса на Западе и его влияния на общество, все больше принадлежавших к нему мужчин начинали работать вне дома; эти изменения не происходили в одночасье; жизнь многих людей была организована иначе и не соответствовала общей тенденции. Что немаловажно, поведение и убеждения людей оказывались гораздо сложнее, чем предполагали справочники. Это явление способствовало созданию гендерной нормы, которой реальные мужчины и женщины могли следовать, сопротивляться или не придавать значения[7]. Например, многие принадлежавшие к среднему классу отцы посвящали себя детям, а многие женщины работали вне дома или занимались еще какой-либо деятельностью, противоречившей идеальному образу «ангела дома» (хотя им подчас приходилось платить за это, если такие занятия воспринимались обществом как нарушение норм, описывающих правила домашней жизни)[8].
Литературовед Диана Грин писала о повсеместности домашней идеологии в российской прессе 1830–1840‐х годов, демонстрируя, что европейские представления о домашней жизни были знакомы провинциальным читателям из дворян, таким как Чихачёвы. Вопреки некоторым исследователям, в своей книге я утверждаю, что идеи о домашней жизни не так уж легко принимались российским обществом, развивавшимся в экономических и политических условиях, очень отличавшихся от западноевропейских, где эти идеи зародились (хотя некоторые жители российской провинции читали о них)[9]. Особенно отличались от этого идеала представления провинциальных помещичьих семей о материнстве, и эта альтернативная модель материнства ключевым образом повлияла на повседневный опыт брака и родительства, а также понимание роли мужчины. Такая вариация гендерных норм в российских условиях значительно усложнила процесс усвоения западноевропейских представлений о домашней жизни в провинциальных дворянских семьях.
Для понимания гендерных отношений внутри помещичьих семейств XIX века крайне важной является книга Мишель Ламарш Маррезе о собственности российских дворянок[10]. Глубокое исследование юридических документов и мемуаров позволило Маррезе установить, что, в отличие от многих стран Западной Европы, где вступающие в брак женщины юридически лишались прав на собственность, замужние женщины в России не только по закону обладали этими правами, но и активно ими пользовались, зачастую распоряжаясь своими владениями независимо от мужа, а иногда – даже управляя собственностью мужа наряду со своей собственной. Эти женщины представляли себя и свои интересы в суде и, случалось, успешно вели тяжбы с целью защитить свою собственность от мужей-расточителей. Кроме того, проведенное Маррезе исследование мемуаров показало, что в XVIII и начале XIX века многие россияне писали о владевших собственностью женщинах как о совершенно обычном явлении, об их праве на собственность как о чем-то неоспоримом, а о них самих – как о прекрасных управительницах (любопытно, однако, что в художественных произведениях эти женщины часто описывались в гораздо менее лестных выражениях). Маррезе утверждает, что такое положение дел оказалось возможным из‐за того, что русские помещики рассматривали управление имением как логичное продолжение занятий домашним хозяйством.
Учитывая многочисленность замужних российских женщин, управлявших своей собственностью отдельно от собственности мужей или распоряжавшихся всем семейным имуществом, то задача исследования семьи Чихачёвых – показать, как это обстоятельство могло повлиять на брак, на различия в представлениях мужчины и женщины на супружеские и родительские обязанности и как образованная российская публика воспринимала западноевропейские идеи о жене и матери как «ангеле дома» и об отце, чьей «естественной» ролью было участие в общественной жизни, если их жизнь зачастую отличалась от таких представлений.
Восприятие читателями таких понятий, как сфера домашней жизни (domesticity), заведомо имеет расплывчатый характер. За отсутствием иных доказательств предполагается, что повсеместное присутствие определенных идей в популярной литературе означает, что читатели их восприняли, а как и в какой степени – остается неясным. Соответственно, историки, ранее исследовавшие распространение западноевропейской идеологии домашней жизни в России, пришли к выводу, что преобладание этих идей не только в периодической печати, но также в популярной художественной литературе и записях частных лиц означает, что значительное число россиян их приняли. Основной вопрос, которым задавались историки, звучал так: почему они сделали это, несмотря на значительные институциональные и культурные различия, существовавшие в середине XIX века между имперской Россией и Западной Европой, и почему эти идеи так быстро распространились?[11]
Мое исследование архивов Чихачёвых наводит на мысль, что эти вопросы преждевременны. Чихачёвы были знакомы с большей частью литературы, как художественной, так и дидактической, пропагандировавшей идеал домашней жизни, и записки самого Андрея содержат некоторые традиционные для описания домашней жизни выражения[12]. Но сфера деятельности Натальи Чихачёвой была гораздо шире той, которую отражала популярная литература для женщин, или той, что была доступна большинству женщин Западной Европы; совсем иными были и ее повседневные занятия. Она, бесспорно, вела финансовые дела и, конечно же, не занималась нравственным воспитанием детей. Несмотря даже на то что в своих дневниках Андрей подражал идеализированным описаниям домашней жизни, в «Земледельческой газете» он писал, что жене отводится важная роль – управление финансами и имениями. Дневники самой Натальи свидетельствуют о ее реальной роли, которую поддерживал Андрей, и о том, что именно с этой ролью она себя прежде всего и отождествляла, ею гордилась. Таким образом, автор этой книги присоединяется к кругу тех западных исследователей, которые изучают, как повседневная реальность отличалась от идеологии домашней жизни. Само по себе это не будет значительной научной находкой – в конце концов, вряд ли можно удивить кого-то, сказав, что люди вовсе не обязаны воспринимать напечатанное в газетах и журналах как прямое руководство к действию. Более важными здесь являются некоторые последствия, скрывающиеся за реалиями жизни семьи Чихачёвых.
Чихачёвы не отличались от других провинциальных среднепоместных дворян, если не считать того, что они очень много писали и значительная часть их письменного наследия сохранилась: их доход был средним для провинциальных землевладельцев, жили они примерно так же, как и их соседи и родственники. Но, конечно же, ни одна семья не может быть в точности похожа на остальные (несмотря на слова Л. Н. Толстого о похожести счастливых семей). Эта книга написана в жанре микроистории, и ее задача – как можно глубже понять одну семью, чтобы та могла стать образцом, сопоставление с которым позволило бы лучше понять другие, не столь подробно задокументированные случаи[13]. В не так давно опубликованном замечательном обзоре литературы о российском дворянстве Саймон Диксон призывал к созданию работ, которые могли бы «связать личность и обстоятельства, с большей аккуратностью находя место… конкретных дневников и переписки… в социальном и культурном контексте жизни их авторов»[14]. Именно в этом и заключается задача данной книги. Сопоставление материалов из архивов Чихачёва с другими, только сейчас входящими в научный оборот документальными источниками, и создание исчерпывающего портрета дворянства XIX века могло бы стать предметом совсем иного исследования.
То, что избранный Чихачёвыми способ распределения гендерных ролей в браке вполне возможен и воспринимался без замечаний или критики, имело бы большое значение, даже с учетом его нетипичности для помещиков среднего достатка (хотя есть основания полагать, что для этого сословия он был по меньшей мере вполне обычным явлением). Но хотя история Чихачёвых и является весьма своеобразной, она, безусловно, важна и может оказаться очень полезной для исследователей, занимающихся гендерной историей и историей семьи, проблемой крепостного права, изучением жизни поместного дворянства и восприятия различных идей: от представлений о домашней жизни до романтизма и национализма.
Своеобразие политической и экономической реальности России XIX века является одной из основных причин, по которым в российских семьях отступали от предложенной западной дидактической литературой модели брака. Важно отметить, что наиболее могущественный класс собственников в России того времени был представлен не средним классом предпринимателей: его составляли дворяне-землевладельцы, чье самосознание было тесно связано с этосом государственной службы и институтом крепостного права. Все российские дворяне – от высшей аристократии и до среднепоместного дворянства (подобного Чихачёвым), и бедные дворяне, еле сводившие концы с концами, – обладали значительными правовыми привилегиями: свободой от большинства налогов и телесных наказаний и даже свободой от обязательства государственной службы (она была дарована Жалованной грамотой дворянству Петра III в 1762 году и подтверждена Екатериной II в 1785 году)[15]. Но, несмотря на то что дворяне больше не были обязаны служить, предполагалось, что все же они будут это делать. Если земельные владения не приносили помещику достаточного дохода для поддержания желаемого положения, то служба становилась необходимостью. К XIX веку многие землевладельцы служили несколько лет, а затем выходили в отставку и поселялись в своих усадьбах. Государственная служба требовала, чтобы дворяне подолгу жили вдали от своих имений и семьи, и в таких случаях управление поместьями автоматически ложилось на плечи их жен (другими возможными вариантами решения этой проблемы были наем высокооплачиваемого профессионального управляющего, наделение одного из родственников полномочиями поверенного или возложение этой ответственности на крепостного старосту)[16]. В случае Чихачёвых муж постоянно пребывал дома с момента заключения брака, и в то время как его жена управляла их имениями, считал себя прежде всего слугой царя.
Еще одной привилегией потомственных дворян было исключительное право собственности на земли с проживавшими на них крепостными[17]. Благосостояние и комфорт среднепоместных дворян, как живших в своих усадьбах, так и служивших далеко от дома, главным образом зависели от доходов, приносимых трудом крепостных крестьян. В свою очередь, помещики были обязаны обеспечить основные материальные потребности. Управление крепостными было сложной, трудоемкой, рискованной задачей, от выполнения которой зависело очень многое; это было одной из основных задач любой помещичьей семьи.
Общественно значимая деятельность, которой могли заниматься российские дворяне, практически полностью сводилась к государственной службе, управлению земельными владениями и – для наиболее образованных – участию в культурной жизни страны. Большинству дворян в основном были недоступны иные занятия, открытые для мужчин других сословий. Например, практически невозможно было в этот период открыто участвовать в политической жизни страны, поскольку до 1906 года в России отсутствовал главный представительный орган управления, а ограниченные в правах органы местного самоуправления (земства) появились лишь в 1863 году. На влиятельные бюрократические посты назначали, как правило, лишь представителей элитных аристократических семейств. Хотя дворяне активно занимались некоторыми видами предпринимательства, в правление Николая I (1825–1855) коммерческое и промышленное развитие намеренно сдерживалось из страха перед социальной нестабильностью. Хотя дворяне имели право организовывать на своих землях фабрики и вступать в купеческие гильдии, в целом для инвестиций и инноваций российской экономике недоставало значительного капитала, а административные и правовые реалии препятствовали развитию рынка ценных бумаг и затрудняли предпринимательскую деятельность[18]. Хотя в России и существовал «джентльменский капитализм», в первой половине века инвестиции в землю и вклады в государственные банки выглядели более привлекательно[19].
Вышедший в отставку после нескольких лет государственной службы и не имеющий связей или капитала для участия в политической или коммерческой деятельности, Андрей Чихачёв полагал, что ему предназначено быть духовно-нравственным воспитателем: эта роль представлялась ему «публичной» в том смысле, что выводила его (мысленно и символически) за пределы его имений. Однако кому-то все же было нужно заниматься жизненно важным делом повседневного управления усадьбой. Это стало задачей Натальи. С точки зрения Андрея, роль хозяйки была «частной» (обязанности исполнялись «в доме»); таким образом, в его представлении «домом» были многочисленные имения с несколькими деревнями крепостных (такая точка зрения была характерна для провинциальных помещиков в XVIII–XIX веках)[20].
Андрей писал о деревенских жителях как о членах своей семьи, что было весьма распространено в середине XIX века; однако его записи позволяют увидеть подлинную жизнь: для Чихачёвых деревня и в самом деле была частью семьи в почти всех возможных аспектах. Наталья растила своих детей, заботясь в первую очередь об их материальном благополучии, но также понимала она и свои обязанности в отношении крепостных. А поскольку Андрей являлся нравственным наставником своих детей, то он считал, что играет ту же роль в жизни принадлежавших ему крепостных. По крайней мере, с точки зрения владельцев, во главе деревенской «семьи» стояли они, то есть родители, затем шли их дети и другие зависимые лица, причем последняя категория состояла из множества разрядов: от привилегированных нянюшек до наемных учителей, представителей духовенства, домашней прислуги и занятых на полевых работах крестьян. Каждый в различной (подчас весьма различной) степени зависел от всех остальных.
Чихачёвы, их соседи и друзья относились к прослойке так называемых среднепоместных дворян, в то время как существующая на данный момент историческая литература о крепостном праве и русском дворянстве, и в особенности появляющиеся время от времени детальные микроисторические исследования отдельных имений, основана почти исключительно на документах богатейших аристократических семейств, в особенности Гагариных и Шереметевых, у которых имелись большие конторы с управляющими и письмоводителями. Их указания, отчеты и переписка хранятся в легкодоступных архивах Москвы и Петербурга[21]. Однако, даже если взять в расчет всех помещиков, считавшихся богатыми, то есть владевших более чем 500 крепостных, их наберется не более 3,4 % от всех «душевладельцев». Их жизнь и хозяйство сильно отличались от мира Чихачёвых. Согласно 8-й ревизии, к 1836 году среднепоместные дворяне (то есть имевшие от 101 до 500 душ) составляли около 13 % помещиков и владели примерно третьей частью всех крепостных крестьян, в то время как более 80 % владельцев крепостных относились к мелкопоместным (или даже беспоместным) дворянам[22]. Большинство таких помещиков не имели возможности нанять управляющего, заводить подробные архивы или (если они только не находились на службе) проживать вдали от своих имений. Таким образом, мы не можем напрямую сопоставить историю семьи и хозяйства Чихачёвых, их родных и знакомых, с тем, что описывается в существующей на данный момент научной литературе о крепостном строе и дворянстве: в этих работах речь идет о совсем других людях и других отношениях. Данная книга рассматривает схожие вопросы развития крепостнического хозяйства и в особенности поместного дворянства, но в отличие от предшествующих работ делает это с точки зрения до сих пор практически неизученной (и как будто бы вовсе никогда не существовавшей) прослойки консервативного среднепоместного дворянства, населявшего российскую провинцию.
С точки зрения общеевропейской модели развития элит в XIX веке не приходится удивляться консервативности мировоззрения привилегированного, но не особенно богатого землевладельческого класса: их благосостояние было основано на поддержании status quo. Кроме того, судя по той же модели, на протяжении всего XIX столетия влияние привилегированных классов и групп среднего достатка должно было постоянно увеличиваться. Однако в России консервативно настроенное среднепоместное дворянство никогда не оказывало существенного давления на правительство или общественное мнение, и, когда мы читаем историческую литературу, создается впечатление, что оно практически сошло со сцены через некоторое время после освобождения крепостных в 1861 году, постепенно слившись с другими группами населения. Многие из них вошли в число людей свободных профессий, которых в конце XIX века становилось все больше; другие обеднели и, несмотря на свой более высокий с правовой точки зрения статус, жили приблизительно так же, как горожане или даже крестьяне[23]. Главной заслугой провинциального дворянства перед русской культурой стало то, что его жизнь послужила материалом для комических зарисовок Николая Гоголя, Антона Чехова и других писателей[24].
Однако историки все чаще задумываются о том, что кажущееся отсутствие средне- и мелкопоместного дворянства в исследованиях, посвященных Российской империи, требует объяснения. Почему эта часть дворянства не превратилась во влиятельную консервативную опору трона, почему не стала противовесом для крайних позиций – радикального социализма интеллигенции и безоглядного материализма и гедонизма аристократической элиты – или не попыталась смягчить их?[25]
Эта книга существенно обогащает фактографию и расширяет наши представления о российском дворянстве, рассматривая повседневную жизнь, семейные отношения, ценности и идеи одной конкретной семьи дворян среднего достатка, а также жизнь их крепостной деревни, в которой Чихачёвы черпали свои представления об обществе и народе. Андрей Чихачёв опубликовал десятки статей о ценностях и добродетелях сельской жизни, которые, как он полагал, должны стать основой здорового и упорядоченного национального характера. Эти идеи основаны на представлениях Андрея о деревне как о семье, а семья в его представлении состояла из матери-управительницы и отца-наставника. Андрей ценил порядок и обязанности, верил, что они даны свыше, а потому требуют серьезного отношения.
Общественный порядок, по его мнению, был подобен пирамиде: вершиной ее были хозяева имения, исполняющие роли отца и матери в отношении деревни, выступающей в качестве семьи, а основанием пирамиды был народ, который представлялся как семейство, составленное из совокупности деревень. Поэтому, когда в 1861 году освобождение крепостных изменило порядок жизни в деревне, крах потерпели и представления Андрея о государственности. Если идеи о порядке и природе, разделявшиеся теми, кто не испытывал желания ставить под вопрос status quo, могут дать представление о «консервативном хребте» России, то этот консерватизм был подорван самим же правительством, освободившим крепостных на таких условиях, которые все чаще приводили сыновей провинциальных среднепоместных дворян к потере имений и подталкивали их к занятию наемным трудом. «Важность хозяйки в доме» (слова Андрея) состояла в том, что, управляя имением, жена и мать была вершиной перевернутой пирамиды, служившей основой упорядоченного мировоззрения провинциального дворянства. С освобождением крепостных крестьян и существенным изменением традиционной роли матери потерпело крах и это мировоззрение.
7
Термин «гендер» отсылает к поведению, определяемому культурными представлениями о различии полов. Гендер – понятие историческое: представления о том, как следует вести себя мужчинам и женщинам, меняются в зависимости от времени и места. См.: Scott J. W. Gender: A Useful Category of Historical Analysis // AHR. 1986. Vol. 91. № 5 (Dec.). P. 1053–1075. В этом исследовании показано, как и с какими явными и неявными последствиями конструировались гендерные роли в пределах одной конкретной семьи. К сожалению, даже такие обширные собрания документов, как архив Чихачёвых, приподнимают завесу не над всеми тайнами, и читатель, которого интересует в первую очередь женский опыт, будет разочарован наличием в этих документах обширных лакун там, где можно было бы надеяться отыскать какие-то намеки на то, что думала (а не делала) Наталья, или на то, каким было ее (а не ее мужа) мировоззрение.
8
Исследование представлений о домашней жизни в Западной Европе и Соединенных Штатах определило пределы применимости этого дискурса к породившему его обществу. Во времена королевы Виктории англичанки и американки среднего класса множеством способов восставали против него: трудясь на административных и секретарских должностях, учительствуя, ведя свое независимое или относительно независимое дело, участвуя в масштабных благотворительных и филантропических проектах и т. п. См.: Branca P. Image and Reality: The Myth the Idle Victorian Woman // Clio’s Consciousness Raised: New Perspectives on the History of Women / Ed. M. Hartman, L. Banner. N. Y.: Octagon, 1976. Р. 179–191; Peterson M. J. No Angels in the House: The Victorian Myth and the Paget Women // AHR. 1984. Vol. 89. P. 677–708; No More Separate Spheres! A Next Wave American Studies Reader / Eds C. N. Davidson, J. Hatcher. Durham: Duke University Press, 2002, и др. исследования. Равным образом в ходе исследования концепций маскулинности XIX столетия было показано, что для многих мужчин (особенно в роли отцов) домашний быт составлял смысл жизни и основу личного самоопределения: Frank S. M. Life with Father: Parenthood and Masculinity in the Nineteenth-Century American North. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998; Tosh J. A Man’s Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England. New Haven: Yale University Press, 1999.
9
Greene D. Mid-Nineteenth Century Domestic Ideology in Russia // Women and Russian Culture / Ed. R. Marsh. N. Y.: Berghahn, 1998; Tovrov J. The Russian Noble Family: Structure and Change. N. Y.: Garland, 1987; Cavender M. Nests of the Gentry: Family, Estate, and Local Loyalties in Provincial Russia. Newark: University of Delware Press, 2007; Glagoleva O. Dream and Reality of Russian Provincial Young Ladies, 1700–1850 // The Carl Beck Papers. 2000. № 1405. P. 1–87; Русская провинциальная старина: Очерки культуры и быта Тульской губернии XVIII – первой половины XIX в. Тула: Ритм, 1993.
10
Marrese M. L. A Woman’s Kingdom: Noblewomen and the Control of Property in Russia, 1700–1861. Ithaca; N. Y.: Cornell University Press, 2002 (см. рус. пер.: Маррезе М. Л. Бабье царство: Дворянки и владение имуществом в России (1700–1861). М., 2009).
11
См.: Greene. Domestic Ideology; Tovrov. Russian Noble Family; Cavender. Nests of the Gentry; Glagoleva. Dream and Reality.
12
Из посвященного тверским помещикам средней руки исследования Кавендер видно, что они использовали обороты, похожие на те, которые употреблял Андрей Чихачёв, но из‐за отсутствия женских дневников, которые можно было бы сопоставить с мужскими, невозможно ничего узнать об иных сторонах жизни этих людей (а случай Чихачёвых дает такую возможность).
13
См. опубликованные недавно письма крестьян, живших в Сарапульском уезде в конце XIX века: Йокояма О. Письма русских крестьян: контексты и переводы. В 2 т. М., 2014.
14
Dixon S. Practice and Performance in the History of the Russian Nobility // Kritika. 2010. Vol. 11. № 4 (Fall). P. 763–770. К написанию этой статьи Диксона подтолкнула важная работа Мишель Маррезе, переосмысливающая знаменитое сочинение Юрия Лотмана о культуре русского дворянства: Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Труды по знаковым системам. Тарту, 1977. № 8. С. 65–89. См.: Marrese M. «The Poetics of Everyday Behavior» Revisited: Lotman, Gender, and the Evolution of Russian Noble Identity // Kritika. 2010. Vol. 11. № 4 (Fall). P. 701–739.
15
ПСЗ I. № 11444; ПСЗ. № 16187.
16
Маррезе. Бабье царство.
17
См., например: ПСЗ. № 9267 (1746); Wirtschafter E. K. Legal Identity and the Possession of Serfs in Imperial Russia // JMH. 1998. Vol. 70. № 3 (September). P. 561–587.
18
Pintner W. Russian Economic Policy under Nicholas I. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1967. P. 9–29; Owen T. C. The Corporation under Russian Law, 1800–1917. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
19
Когда в 1857 году правительство снизило процентную ставку по банковским депозитам, инвесторы поспешили изъять свои средства и вложить их в акционерные общества. Так началась первая российская «биржевая лихорадка». См.: Owen. Corporation. P. 30–54; Hoch S. The Banking Crisis, Peasant Reform, and Economic Development in Russia, 1857–1861 // AHR. 1991. Vol. 96. № 3 (June). P. 785–820.
20
Маррезе. Бабье царство.
21
См. гл. 3, примеч. 2 на с. 100. Об отсутствии исследований мелко- и среднепоместных имений см.: Dennison T. The Institutional Framework of Russian Serfdom. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. С. 220. В качестве примера среднепоместного дворянина Деннисон может привести только вымышленного Обломова, который нисколько не походил на реального Чихачёва и его знакомых. Литература о дворянской усадьбе XIX века также охватывает лишь хорошо сохранившиеся усадьбы аристократии. См.: Марасинова Е. Н., Каждан Т. П. Культура русской усадьбы // Очерки русской культуры XIX века. В 6 т. Т. 1. Общественно-культурная среда. М., 1999.
22
Тройницкий А. Г. Крепостное население в России по 10‐й народной переписи. СПб., 1861. С. 67; Шепукова Н. М. Об изменении размеров душевладения помещиков Европейской России в первой четверти XVIII – первой четверти XIX века // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы за 1963 г. Вильнюс, 1964. С. 388–419, 393. См. также: Blum J. Lord and Peasant in Russia: From the Ninth to the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press, 1971.
23
Процесс постепенного обеднения дворян продолжался несколько веков. Esper T. The Odnodvortsy and the Russian Nobility // Slavonic and East European Review. 1967. Vol. 45. № 104 (Jan.). P. 124–134. Согласно докладу благотворительного Московского тюремного комитета за 1851 год, из 2227 нищих, арестованных в городе за этот год, тридцать семь мужчин и восемнадцать женщин принадлежали к дворянскому сословию. См.: Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 123. Оп. 2. Д. 606. Л. 12.
24
Государственному деятелю Сергею Витте провинциальное дворянство в период после освобождения крестьян представлялось бесполезным из‐за безынициативности и отсутствия амбиций: Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. М., 2000. Об образе провинции в произведениях Гоголя и его огромном влиянии на представления о подлинной провинциальной жизни см.: Lounsbery A. «No, this is not the provinces!»: Provincialism, Authenticity, and Russianness in Gogol’s Day // RR. 2005. Vol. 64 (April). Р. 259–280.
25
Об отсутствии в России среднего класса, подобного западному, см.: Gleason A. The Terms of Russian Social History // Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia / Ed. E. W. Clowes, S. D. Kassow, J. L. West. Princeton: Princeton University Press, 1991. Р. 15–27; Russia’s Missing Middle Class: The Professions in Russian History / Ed. H. D. Balzer. Armonk, N. Y.: M. E. Sharpe, 1996; Raeff M. Imperial Russia, 1682–1825: The Coming of Age of Modern Russia. N. Y.: Knopf, 1971. Р. 122; Wirtschafter E. K. Social Identity in Imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1997. Недавно вышедшие исследования, расширяющие наши представления о группах населения, принадлежавших к среднему классу, включают: Marrese. Woman’s Kingdom; Cavender. Nests of the Gentry; Glagoleva. Dream and Reality; Smith A. K. Recipes for Russia: Food and Nationhood under the Tsars. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2008; Kelly C. Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin. Oxford: Oxford University Press, 2001; Evtukhov C. A. O. Karelin and Provincial Bourgeois Photography // Picturing Russia: Explorations in Visual Culture. Eds V. Kivelson, J. Neuberger. New Haven: Yale University Press, 2008. P. 113–117.