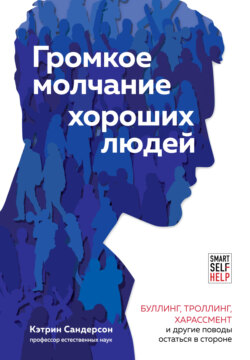Читать книгу Громкое молчание хороших людей. Буллинг, троллинг, харассмент и другие поводы остаться в стороне - Кэтрин Сандерсон - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Молчание хороших людей
Глава 1
Мифы о монстрах
Опасность
ОглавлениеКак выпускник Принстонского университета, я работала там на полставки, жила в общежитии и помогала учащимся. Моя работа включала в себя обеды со студентами, организацию мероприятия в общежитии, а также помощь в решении личных и учебных вопросов. Однако у этого была и обратная сторона: я должна была быть в группе поддержки Голых Олимпийских Игр.
ГОИ появились в начале 70-х годов и являлись устоявшейся неофициальной традицией колледжа вплоть до конца 90-х. В итоге традицию запретил Попечительский Совет. Второкурсники (и парни, и девушки) бегали вокруг кампуса в полночь, во время первого снегопада, который обычно бывал в январе. Но бегали они, надев только ботинки, шапки и перчатки. Как вы можете себе представить, участники забега изрядно напивались перед соревнованиями, чтобы не замерзнуть и не чувствовать себя неловко. Моя основная задача заключалась в том, что я стояла на заднем дворе в светоотражающем жилете и держала в руках чемоданчик первой помощи. Каждый студент мог видеть меня издалека и обратиться в случае необходимости. Например, если он вдруг поскользнется на льду.
Я стояла там и размышляла. Я искренне надеялась, что успешно защищу диссертацию и уеду из Принстона до новых Голых Олимпийский Игр. Но меня не переставал мучить один вопрос: «Зачем они делают это? Ведь студенты этого колледжа одни из самых успешных и умных в стране».
Бег голыми ночью в снегопад не кажется отличной идеей. Но эта история иллюстрирует нам фундаментальное открытие в психологии: находясь в группе, люди совершают поступки, которые никогда не сделают поодиночке. И хоть сами по себе ГОИ были безобидны, тот же принцип лежит в основе плохих поступков. Примеров такого поведения предостаточно:
• В феврале 2010 Дилан Гиффорд Йонт стоял на карнизе четвертого этажа офисного здания в Сан-Франциско, внизу собралась огромная толпа. Многие люди насмехались над ним и кричали «Да прыгай уже», «Просто сделай это». После 45 минут давления, он прыгнул и разбился насмерть.
• В канун празднования 2016 года в Кельне, Германия, около 1200 женщин подверглись сексуальным домогательствам со стороны мужчин.
• В феврале 2018 фанаты праздновали победу команды «Philadelphia Eagles» в Суперкубке. Они перевернули машины, выдернули фонарные столбы из земли, разбили витрины магазинов с общим ущербом в 273 000 долларов.
Что значит быть в группе и совершать поступки, которые люди никогда не сделают в одиночку? Логичным объяснением является то, что люди в группе верят, что не несут ответственность за свои действия, так как о них никто не знает. Частота и тяжесть агрессивного поведения намного выше, когда человек в маске, капюшоне или действует в темноте, даже когда он не в группе. Ученый Филип Зимбардо провел исследования при участии студентов одного колледжа. Студенты должны были ударить своих сокурсников электрошокером. И опыт показал, что удар током был продолжительнее и болезненнее, когда студенты надевали капюшоны, которые скрывали их лица, чем когда они не применяли маскировку[3].
Тот же феномен наблюдали и вне лаборатории колледжа. Подобные исследования проводились ученым Эндрю Силком в университете города Лестера в Северной Ирландии. Они показали, что люди, которые носят маскировку – маски, капюшоны или другие вещи, закрывающие лицо, – более склонны к актам вандализма, причинению вреда людям или нанесение серьезных физических увечий[4]. Это помогает объяснить популярность кибербуллинга или другого агрессивного поведения в Интернете, где люди могут писать анонимно.
Группа людей позволяет снизить уровень ответственности за совершение плохих поступков. Именно поэтому возник термин «деиндивидуализация» – потеря ощущения индивидуальности[5]. Когда люди теряют связь со своими стандартами морали и забывают, кто они на самом деле, что часто происходит в «стае», ограничения исчезают. Чем больше толпа, тем хуже поведение. Эндрю Ритчи и Барри Рубэк из Университета штата Пенсильвания задокументировали поведение, известное как эффект обезумевшей толпы (самосуд)[6].
Изучая статьи Конституции Атланты о самосуде в Джорджии с 1882–1926, они насчитали 515 жертв в 411 событиях. Ученые зафиксировали размер толпы, расу и пол жертв, масштабы насилия в каждом конкретном случае. И хоть все случаи линчевания привели к смерти, они определили те, где жертва была сожжена, повешена или избита, как проявление максимального насилия. Результаты свидетельствуют о том, что количество линчевателей в толпе постоянно предсказывало уровень насилия. Параметры группы способствуют плохому поведению, но понять, почему они это делают, до сих пор трудно. Люди могут быть бессознательны в выборе своих действий, поэтому четко не могут объяснить ученым, что движет ими. Они также могут сожалеть о своем поведении, чтобы выглядеть или чувствовать себя лучше.
Последние открытия в нейронауке предлагают нам важные инструменты, которые помогают изучить это поведение. Используя техники нейровизуализации, исследования могут показать активность в разных частях мозга в момент совершения конкретных действий. Это значит, что мы не можем больше полагаться на то, что люди говорят о своей мотивации. Мы можем изучить, как то, что человек является частью группы, меняет характер мозговой активности[7].
Первое исследование, посвященное изучению того, являются ли нейронные реакции более слабыми при параметрах группы, было проведено учеными в Массачусетском технологическом институте. На это их подтолкнул опыт одного из исследователей, Мины Сикары, когда она была еще в аспирантуре. Одним вечером Сикара и ее муж решили пойти на стадион Янки, чтобы посмотреть бейсбольную игру между вечными соперниками, «Red Sox» и «Yankees». Ее муж, в шапке «Red Sox», стал объектом безжалостных насмешек фанатов «Yankees». В попытке разрядить обстановку, Сикара одела эту шапку на себя, решив, что фанаты «Yankees» не станут оскорблять женщину. Оказалось, она была не права. «Никогда в жизни я не слышала таких оскорблений в свой адрес», – сказала Сикара[8]. Она вернулась с игры, полная решимости разобраться в этом явлении. Почему нормальные люди, которые являлись частью коллектива, вели себя так низко?
Сикара и ее коллеги задались двумя вопросами: думают ли люди о себе меньше, когда находятся в группе, чем когда действуют поодиночке? И задумываются ли люди в составе группы, что их поведение более агрессивно в сравнении с людьми из другой?[9] Они предположили, что соревнование внутри группы заставляет людей меньше беспокоиться о себе, и они теряют способность анализировать свое поведение. В первой части исследования ученые использовали оборудование для функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), чтобы измерить характер мозговой активности участников, когда они играют в игру сами по себе или в составе команды. В течение игры участники продемонстрировали данные, которые объясняют положительные и отрицательные черты их нравственного поведения или других людей. Они характеризовались фразами вроде «Я стащил еду из общего холодильника» или «Он всегда извиняется после того, как случайно толкнет кого-то». Исследования были сфокусированы на определенной области мозга, которая называется «медиальная префронтальная кора мозга» (mPFC). Она проявляет большую активность (проще говоря, «загорается»), когда человек думает о себе (чертах своего характера, физических способностях или умственных состояниях), чем когда думает о других[10].
Сикара и ее коллеги обнаружили, что, когда люди играли поодиночке, их mPFC был гораздо более активен. Когда они читали информацию о себе, то уровень также был выше, чем когда информация касалась других. Но когда люди непосредственно играли в команде, примерно половина участников показали гораздо меньшую разницу в активации той части мозга, которая была активнее, когда они читали о себе, чем когда читали о других. Эти выводы показывают, что некоторые люди думают о себе меньше, когда являются частью группы, чем когда мы говорим об отдельном человеке. Но ключевой вопрос для ученых был в том, каковы последствия уменьшения самоанализа. Ученые придумали еще один эксперимент, где участникам показывали 6 фотографий каждого члена их команды и команды соперников. Их просили выбрать фото каждого участника, которое должно быть напечатано в финальном отчете эксперимента. Эти фото оценивали по степени привлекательности участника: от самых невзрачных до самых лестных.
Участники, которые показали заниженное мнение о себе, являясь частью команды, как правило, предпочитали выбирать менее привлекательные фотографии участников противоположной команды, чем их собственной. Это отчетливо показал низкий уровень активности mPFC. Ученые пришли к заключению, что люди, которые думают о себе меньше, когда являются частью команды, более склонны проявлять насилие к другим людям. Возможно, это поведение имеет более выраженный характер, когда люди находятся в группах, которые непосредственно соревнуются друг с другом. Это и заметила Сикара, когда забрала у мужа кепку команды «Red Sox» на стадионе. «Хотя люди в большинстве отдают предпочтение равенству, справедливости и нравственным запретам в противовес насилию и вред», – как говорит Ребекка Сакс, одна из ученых этого эксперимента, – приоритеты людей меняются, когда они персонализируют себя как «мы» или «они»[11].
Одни из самых ранних и знаменитых исследований проводились ученым Стэнли Милгрэмом в Йельском Университете. Они демонстрировали, что «хорошие люди» тоже могут участвовать в опасных действиях.
Он проводил исследования, чтобы понять психологические процессы на примере нацистского холокоста, когда миллионы невинных жертв были убиты людьми, которые утверждали, что просто выполняли приказы. «Повиновение, как определяющий фактор поведения, имеет особое значение для нашего времени, – пишет Милгрэм. – Были построены газовые камеры, строго охранялись лагеря смерти, выполнялась ежедневная норма по количеству трупов. Эта бесчеловечная политика, возможно, зародилась в сознании одного человека, но она могла осуществляться в массовом масштабе только в том случае, если очень большое количество людей выполняли приказы»[12].
В серии исследований Милгрэм позвал мужчин в свою лабораторию в Йеле, чтобы они приняли участие в эксперименте по изучению памяти и обучаемости (его первоначальное исследование было проведено с 40 мужчинами; более поздние вариации включали женщин). По прибытии, каждого участника встречал человек, которого называли «экспериментатор». Позже участника представляли другому, который на самом деле был сообщником ученых. «Экспериментатор» объяснял, что это исследование призвано изучить важный научный вопрос о влиянии наказания на скорость обучения.
Участникам было сказано, что один человек будет выполнять роль «учителя», а другой – «ученика». Однако Милгрэм подстроил все так, что подопытный был всегда учителем, а соучастник – учеником. Ученику сначала давали серию парных слов, а позже показывали одно из них и просили найти пару из 4 вариантов в списке. Учителю, который мог общаться с учеником, но при этом не мог видеть его, приказывали использовать электрошок, если ученик давал неправильный ответ.
Предполагалось, что экспериментатор должен был определить, помог ли электрошок ученику или помешал ему (в действительности, никаких ударов током не было.) Учителя попросили начать, давая ученику по началу самый слабый уровень удара током (15 вольт), и увеличивать его уровень каждый раз, когда ученик совершал ошибку.
На каждом уровне подачи тока ученик реагировал стандартным образом. Достигнув уровня в 75 вольт, он начал кричать от боли и на 150 вольт попросил остановить эксперимент. Он также начинал жаловаться на то, что его беспокоит сердце. Если учитель колебался или обращался к экспериментатору в замешательстве, спрашивая, может ли он остановиться, он получал один из 4 вариантов ответов, которые заставляли его продолжать: «Пожалуйста, продолжайте», «Эксперимент требует, чтобы вы продолжили», «Крайне важно, чтобы вы не останавливались», или «У вас нет никакого другого выбора, кроме как продолжить». Экспериментатор использовал эти фразы до тех пор, пока учитель не отказывался продолжать или достигал максимального уровня в 450 вольт, который считается очень опасным.
К большому удивлению Милгрэма, большинство участников этого опыта (65 %) были готовы дать человеку, которого считали невинным участником, максимальный уровень электрических разрядов. Многие люди были встревожены чрезвычайно высоким уровнем повиновения, включая и самих психиатров, с которыми консультировался Милгрэм до начала эксперимента. Эти специалисты предсказывали, что только 1 % участников дойдет до самого конца. Исследование Милгрэма проводилось более 50 лет назад, но похожие эксперименты недавно были проведены и в Польше, и в США. Они показали очень схожие результаты[13].
Готовность причинять вред другим, следуя инструкциям авторитетного лица, показали исследования, которые точнее имитируют жизненные ситуации. Ученые просили участников задать разные тестовые вопросы предполагаемому кандидату на трудоустройство, который на самом деле был соучастником эксперимента[14]. Кандидата все время играл один человек – хорошо одетый мужчина около 30 лет. Ученые объяснили участникам, что они заинтересованы в том, чтобы проверить, как кандидаты будут вести себя под давлением. Поэтому исследователи хотели, чтобы участники изводили кандидатов, делая утверждения, которые оскорбляли их с каждым разом все сильнее и сильнее. «Если вы продолжите в таком духе, то вы провалитесь» или «Это работа слишком сложная для вас» – вот некоторые из них. Пока длилось «собеседование», кандидат настойчиво просил их прекратить, затем отказывался мириться с издевательствами и демонстрировал признаки сопротивления. В конечном счете, уже в отчаянии, прекращал отвечать на вопросы. В условиях, когда не было авторитетного лица, которое заставляло их продолжать, никто из участников не прошел все 15 заданий. Но когда экспериментатор настаивал, то 92 % прошли через все задания и вопросы из списка.
Чем объясняется эта тенденция подчиняться приказам «командира», даже когда это причиняет вред невинному человеку? Основополагающий фактор заключается в стремлении авторитетной личности взять на себя полную ответственность за любые негативные последствия. Это позволяет тому, кто подчиняется приказам, освободиться от чувства, что он совершает что-то плохое[15].
Тенденция искать прощения постоянно прослеживается в реальных ситуациях: от американских солдат, которые жестоко обращались с заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, до руководителей предприятий, которые занимались корпоративным мошенничеством[16]. Эксперименты демонстрируют, что люди, которые чувствуют себя менее ответственными за совершение вредных действий, с большей готовностью их совершают.
В заимствованном у Милгрэма эксперименте, участников проинформировали, что они несут ответственность за благополучие «ученика». Люди, которые чувствовали ответственность за свои действия, останавливали эксперимент раньше[17]. Они показали, что могут сильнее противостоять четким инструкциям делать это. Подробный анализ заявлений участников в последнем отчете эксперимента показал, что те, кто говорил, что несет ответственность за свои действия, более склонны противостоять приказам и прекращали использовать электрошок[18].
Эти открытия говорят нам о том, что чувство меньшей ответственности усиливает тенденцию к участию в неподобающих действиях, но они не говорят нам, почему так происходит. Винят ли люди авторитетных лиц в действии по инструкции, чтобы избежать последствий своих злодеяний? Мы видим это на примере Нюрнбергского процесса, когда обвиняемые нацисты объясняли свои действия, как «мы просто следовали приказу». Или то, что мы следуем приказам, действительно меняет наше поведение на неврологическом уровне?
Патрик Хаггард, врач-невропатолог Университетского колледжа Лондона, придумал эксперимент, чтобы изучить этот вопрос[19]. Ученые набрали студентов для эксперимента и объяснили им, что этот опыт направлен на изучение взаимодействия людей друг с другом, когда им говорят, что делать, и как они проходят это испытание. Участников разбили на пары и попросили ударить партнера электрошоком – «больно, но терпимо». В одном случае, участникам говорили, что у них был выбор ударить их партнера или нет, и если они это делали, они могли получить небольшое вознаграждение. А в другом случае, экспериментатор участникам приказал наносить удары током.
Ученые отслеживали активность головного мозга участников с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Это позволяло им определить то, что ученые называют «Потенциал, связанный с событием», или ПСС, – очень маленькое напряжение, которое генерируются в мозге в ответ на различные сенсорные, двигательные или когнитивные события: изображение лица или неожиданность, как при получении сюрприза. Люди, которые свободно выбирают участвовать в действии, обычно показывают большие амплитуды ППС – большие мозговые волны[20]. Ученые были заинтересованы в том, чтобы понять, будут ли люди, которые ударяли других током без приказа, демонстрировать большую амплитуду ППС, чем те, кто следовал приказам.
Сначала они подтвердили, что те, кто ударял током по собственной воле, чувствовали большую ответственность (87 %) чем те, кому приказывали так поступить (35 %). Когда ученые ознакомились с данными ППС, они обнаружили, что люди, которые добровольно ударяли током, в действительности показывали большую амплитуду ППС, чем те, которые работали под приказом. Что это нам говорит? Кажется, что люди, которых принуждали сделать что-то, что могло навредить другому, – те, кто «просто выполнял приказ», – ощущали свои действия не так активно, чем те, кто участвовал добровольно.
Более низкий уровень мозговой реакции свидетельствует о том, что если вы делаете то, что приказали, на неврологическом уровне это кажется менее значимым, чем если бы вы сами решили что-нибудь сделать. Это позволяет людям чувствовать себя менее ответственными за свои действия и таким образом с большей вероятностью участвовать в чем-то опасном и неправильном. Это также предполагает, что защита – «простое выполнение приказа» – может быть не просто стратегией, чтобы оправдать свое поведение. Когда человек причиняет вред кому-то согласно четким инструкциям авторитетного лица, их поведение в головном мозге представлено совсем по-другому.
Это абсолютно естественное поведение человека: искать виноватого, когда вы понимаете, что сделали что-то плохое. В конце концов, если это не ваша вина, вы можете убедить себя или, возможно, даже других, что в глубине души вы действительно хороший человек.
Мы только что увидели, что согласно некоторым данным нейронауки, люди, которые просто выполняют приказы, не оценивают свои действия так активно, как те, кто действует по своей воле. Психологи также обнаружили, что люди, которые начинают отождествлять себя с теми, кто отдает приказы, могут сознательно выбрать плохое поведение. Мы отчетливо видим это в случае харизматичных религиозных или политических лидеров.
Ученые Сент-Э́ндрюсского и Эксетерского Университетов провели исследования, чтобы оценить, как идентификация с человеком, отдающим приказы, повлияет на действия людей[21]. Они набрали людей, чтобы те ознакомились с учением Милгрэма и аналогичных экспериментов. Они должны были оценить, насколько участники тех исследований отождествляли себя с «экспериментатором» (человеком, который отдавал приказы) или с «учеником» (который получал удары). Они параллельно собрали группу экспертов (академиков психологии, которые уже были знакомы с учением Милгрэма) и новичков (студентов, у которых был только вводный курс по психологии, и они не знали ничего об этом опыте). Это было сделано специально на тот случай, если они вдруг разойдутся во мнениях (в итоге результаты были одинаковыми у обеих групп). Они просили людей в двух группах прочитать о первоначальных испытаниях и затем около 15 других вариантов, которые Милгрэм изучал на протяжении многих лет. Эти варианты усовершенствовали исследования важным образом.
В первом случае экспериментатор отдавал приказы ударять током по телефону, а не напрямую человеку. Во втором случае эксперимент проводился не в престижном Йельском Университете, а в обычном офисном здании.
Позже ученые определили, соотносятся ли эти оценки идентификации участников в различных вариантах с готовностью подчиняться приказам или же сопротивляться им. Влияет ли отождествление на повиновение? Одним словом, да.
Изменения, которые подтолкнули участников к тому, чтобы отождествлять себя с экспериментатором и рассматривать свои действия как ценный вклад в развитие научных знаний, привели их к тому, что они стали следовать приказам применять ток намного дольше. В одном из этих вариантов, ученик никогда не жаловался вслух, он только стучал кулаком по стене в знак протеста. Во втором случае экспериментатор вмешивался, чтобы отдать приказ и ускорить процесс.
Вариации, которые побуждали людей отождествлять себя с учеником, заставили участников сопротивляться гораздо раньше и более решительно. В одном из таких вариантов два других предполагаемых участника (по факту, соучастники) отказались продолжать применять ток. В другом случае два экспериментатора спорили о том, должен ли продолжать участник удары током. Эти открытия свидетельствуют о том, что люди могут вести себя плохо, когда они следуют приказам. И не только потому, что они чувствуют себя свободными от ответственности, но и потому, что готовы поверить в благую цель своих действий.
Это альтернативное объяснение позволяет получить представление о некоторых факторах, которые привели к разрушительной действенности политики нацистов. Люди не только смиренно выполняли приказы, но и в целом ряде случаев придерживались более широкого социального видения и миссии фашизма в целом. Они отождествляли себя с опасностью, о которой говорил Гитлер, разделяли его сильный патриотизм и ностальгию по простому прошлому, принимали его ненависть к чужакам и поддерживали его видение расово чистого общества.
Вопрос, почему некоторые люди ведут себя плохо, а другие нет, – это вообще не про хороших и плохих. Ситуативные факторы и вопросы самоидентификации гораздо важнее, чем мы могли себе представить[22].
3
P. G. Zimbardo, “The human choice: Individuation, reason, and order vs. deindividuation, impulse, and chaos,” in Nebraska Symposium on Motivation, ed. W. J. Arnold and D. Levine, 237–307 (Lincoln: University of Nebraska Press, 1969).
4
A. Silke, “Deindividuation, anonymity, and violence: Findings from Northern Ireland,” Journal of Social Psy chology 143 (2003): 493–499.
5
E. Diener, R. Lusk, D. DeFour, and R. Flax, “Deindividuation: Effects of group size, density, number of observers, and group member similarity on self-consciousness and disinhibited behavior,” Journal of Personality and Social Psychology 39 (1980): 449–459.
6
A. J. Ritchey and R. B. Ruback, “Predicting lynching atrocity: The situational norms of lynchings in Georgia,” Personality and Social Psychology Bulletin 44, no. 5 (2018): 619–637.
7
Некоторых исследователей нейронауки подвергли критике за определенную статистическую погрешность, независимую ошибку при тестировании своих гипотез. Эти ошибки могут быть связаны с тем, что исследователи использовали сначала один статистический тест, чтобы выбрать, какие данные анализировать, а затем второй (независимый) для анализа данных. Некоторые из этих проблем подробно изложены в издании Американской психологической ассоциации, “P-values under question,” Psychological Science Agenda, March 2016, https://www. apa. org/science/about/psa/2016/03/p-values; A. Abbot, “Brain imaging studies under fire,” Nature News, January 13, 2009, https://www. nature. com/news/2009/090113/full/457245a. html.
8
Технологический Институт Массачусетса, “When good people do bad things,” ScienceDaily, June 12, 2014, https://www. sciencedaily. com/releases/2014/06/140612104950. htm.
9
M. Cikara, A. C. Jenkins, N. Dufour, and R. Saxe, “Reduced self-referential neural response during intergroup competition predicts competitor harm,” NeuroImage 96 (2014): 36–43.
10
A. C. Jenkins and J. P. Mitchell, “Medial prefrontal cortex subserves diverse forms of self-reflection,” Social Neuroscience 6, no. 3 (2011): 211–218; W. M. Kelley, C. N. Macrae, C. L. Wyland, S. Caglar, S. Inati, and T. F. Heatherton, “Finding the self? An event-related fMRI study,” Journal of Cognitive Neuroscience 14 (2002): 785–794; C. N. Macrae, J. M. Moran, T. F. Heatherton, J. F. Banfield, and W. M. Kelley, “Medial prefrontal activity predicts memory for self,” Cerebral Cortex 14, no. 6 (2004): 647–654.
11
A. Trafton, “Group mentality,” MIT Technology Review website, posted August 5, 2014, https://www. technologyreview. com/s/529791/group – mentality/.
12
S. Milgram, “Behavioral study of obedience,” Journal of Abnormal and Social Psychology 67, no. 4 (1963): 371–378.
13
J. M. Burger, “Replicating Milgram: Would people still obey today?” American Psychologist 64 (2009): 1—11; D. Doliński, T. Grzyb, M. Folwarczny, P. Grzybała, K. Krzyszycha, K. Martynowska, and J. Trojanowski, “Would you deliver an electric shock in 2015? Obedience in the experimental paradigm developed by Stanley Milgram in the 50 years following the original studies,” Social Psychological and Personality Science 8, no. 8 (2017): 927–933.
14
W. H. Meeus and Q. A. Raaijmakers, “Administrative obedience: Carrying out orders to use psychological— administrative violence,” European Journal of Social Psychology 16 (1986): 311–324.
15
T. Blass, “Attribution of responsibility and trust in the Milgram obedience experiment,” Journal of Applied Social Psychology 26 (1996): 1529–1535.
16
A. Bandura, “Moral disengagement in the perpetration of inhumanities,” Personality and Social Psychology Review 3, no. 3 (1999): 193–209.
17
H. A. Tilker, “Socially responsible behavior as a function of observer responsibility and victim feedback,” Journal of Personality and Social Psychology 14, no. 2 (1970): 95—100.
18
J. M. Burger, Z. M. Girgis, and C. C. Manning, “In their own words: Explaining obedience to authority through an examination of participants’ comments,” Social Psychological and Personality Science 2 (2011): 460–466. Two-thirds of those whose comments during the study suggested that they felt personally responsible for harming the learner stopped before giving the maximum shock, while only 12 percent of those who kept giving shocks up to the highest level ever expressed any feelings of personal responsibility.
19
E. A. Caspar, J. F. Christensen, A. Cleeremans, and P. Haggard, “Coercion changes the sense of agency in the human brain,” Current Biology 26, no. 5 (2016): 585–592.
20
E. Filevich, S. Kühn, and P. Haggard, “There is no free won’t: antecedent brain activity predicts decisions to inhibit,” PloS One 8, no. 2 (2013): e53053.
21
S. D. Reicher, S. A. Haslam, and J. R. Smith, “Working toward the experimenter: reconceptualizing obedience within the Milgram paradigm as identification-based followership,” Perspectives on Psychological Science 7, no. 4 (2012): 315–324.
22
L. Ross and R. E. Nisbett, The Person and the Situation: Perspectives of Social Psychology (London: Pinter and Martin, 2011).