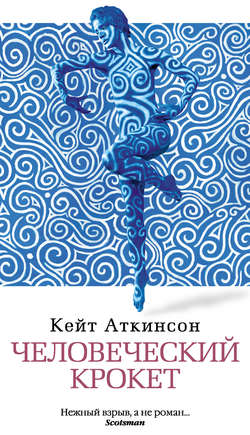Читать книгу Человеческий крокет - Кейт Аткинсон - Страница 5
Ныне
Да что такое?
ОглавлениеЛето заполоняет древесные улицы, вновь наряжает их в зеленое.
– А вот забавно было бы, – мечтает Чарльз, – если б лето не пришло? И был бы мир вечной зимы?
* * *
Пробуждаюсь от малоприятного сна: я шла вверх по холму, точно Джилл без Джека, дабы набрать воды из колодца на вершине. Как известно, походы к колодцам чреваты инопланетными похищениями, и потому во сне я была очень довольна, что добралась до вершины и никуда не пропала.
Спустила ведро в колодец, услышала, как плещет вода, потащила ведро наверх. На дне что-то лежит – у меня улов. Что-то бледное, безжизненное, и я ахаю в ужасе – я поймала голову.
Веки у нее закрыты, лицо смутно напоминает посмертную маску Китса, а потом глаза вдруг распахнулись и голова заговорила, омертвелые губы медленно зашевелились – и я узнала этот римский нос, темные кудри, длинные ресницы; я выловила голову Малькольма Любета. Скорее голова статуи, чем настоящая отрубленная, – скол чист и ровен, ни сосуды, ни порванные сухожилия не извивались щупальцами в ведре.
Голова испустила ужасный вздох, вперилась в меня мертвым взором и взмолилась:
– Помоги мне.
– Помочь? – спросила я. – Как тебе помочь?
Но веревка выскользнула из пальцев, ведро с грохотом упало в колодец. Я заглянула. Бледное лицо мерцало из-под воды, глаза снова закрылись, слова «помоги мне» отдавались эхом, точно круги на воде, а потом угасли.
Что значит сон про Малькольма Любета? И почему только голова? Потому что он в школе был главным старостой? (А сны настолько примитивны?) Потому что накануне я читала «Изабеллу, или Горшок с базиликом»?[21] В «Ардене» даже герань не приживается, не говоря уж о голове. Вообразите, как о ней надо заботиться: тепло, свет, беседа, причесывать, приглаживать, – идеальное хобби для Дебби. Базилику в пагубной обстановке «Ардена» придется совсем туго.
Да, понятно, я бурлящий котел подростковых гормонов, Малькольм Любет – венец моей страсти, но декапитация?
– У Фрейда просто праздник случился бы, – анализирует Юнис, – головы, колодцы – подавленные сексуальные желания и зависть к пенису…
Не верится, что можно завидовать пенису. Не то чтобы я много их повидала; собственно говоря, если не считать статуй и прискорбного мелькания подвесок мистера Риса, я знакома только с анатомией Чарльза, да и ее давно уже не наблюдала во плоти.
– Я в переносном смысле, – поясняет Юнис. (А все остальные что, в прямом?)
Кармен, единственная из нас, кто более или менее изучал вопрос, докладывает, что точнее всего будет сравнение с ощипанной индюшкой и ее потрохами, но отношение Кармен к сексу полнится такой скукой, что в сравнении с ним даже наблюдение за поездами покажется натурально рискованным.
– Ну, тоже способ время потратить, – равнодушно говорит она. (Что купишь, потратив время? «Меньше времени», – грустит миссис Бакстер.)
– Коконо? – спрашивает Дебби (она всегда так здоровается), когда я наконец выползаю на кухню в надежде на тарелку сахарных хлопьев. Дебби, точно задумчивая мясничиха, созерцает мясо на кухонном столе – сомкнутые ряды свиных отбивных, анемичные сосиски, крупные стейки, отпиленные от конечностей больших теплокровных млекопитающих, – целый стол мертвой плоти цвета душистого горошка. – У нас сегодня барбекю, – сообщает она.
– Барбекю?
Вот так нас и навещают катастрофы. Как правило, домашние забавы Дебби обречены на провал, нередко – на ритуальные унижения и светскую неловкость. «Коктейльчики», «закусоны» и «общие котлы», завершившиеся крахом, мы наблюдали во множестве. Однако Дебби презирает опасность и в восторге предвкушает, как вновь введет моду на стряпню под солнышком на древесных улицах, где по меньшей мере тысячу лет никто не обугливал мяса на открытом огне.
– Для соседей, – говорит Дебби, неисправимый оптимист, разглядывая поднос бледных бескровных сосисок. – Суну их в булки, залью кетчупом, – прибавляет она. – Ты как думаешь?
Да пускай хоть обратно в хрюшек их превратит, мне-то что, но я бормочу нечто ободрительное, потому что глаза у нее чуток бешеные, будто ключик в спине перетянул пружину, и Дебби слишком быстро бегает.
Она вытирает стейки тряпочкой нежно, словно отрубленные окровавленные щечки младенцев, и говорит:
– По-моему, хорошо получится. Все-таки кое-что. – (Так много о чем можно сказать.)
Она снова поворачивается к сосискам, глядит на них неподвижно, переводит взгляд на меня и подозрительно спрашивает:
– Ты видела, как они шевелятся?
– Кто?
– Сосиски.
– Шевелятся?
– Да. – Она уже сомневается. – По-моему, они шевелятся.
– Шевелятся?
– Не важно, – поспешно говорит она.
Неудивительно, что Гордон за нее тревожится.
Сам не раз мне говорил: «Я немножко беспокоюсь за Дебс, она какая-то слегка… ну, понимаешь?»
По-моему, он хочет сказать – помешанная.
От развития беседы о подвижных сосисках меня спасает вопль из коридора – Винни требует внимания.
Винни направляется к подиатру. Из дому она выходит редко, так что каждый выход – событие определенной важности. Она подолгу предвкушает этот проблеск внешнего мира, а вернувшись, еще дольше сетует на оного мира состояние.
– Я стала собственной тенью, – провозглашает она, всматриваясь в туманную патину и крапинки ржавчины на зеркале в прихожей, которое Дебби давно отчаялась оттереть.
Винни всегда была тенью, а теперь, значит, она тень тени. Кости ее превратились в сплошную гладкую и желтую слоновую кость, кожа – в шагрень. Шагрень изукрашена венами имперского пур пура. На тыле ладоней лишайные заросли бородавок. Дыхание полнится стонами, как волынка.
Из древнего мавзолея, заменяющего ей дамскую сумку, она извлекает пудреницу, яростно натирает щеки какой-то мукой, пристально разглядывает результаты трудов и отмечает:
– Ноги опухают, не могу, – как будто опухает, наоборот, лицо.
Она принарядилась для окружающей среды – коричневое габардиновое пальто и серая фетровая шляпа странной формы, словно выдохшееся тесто, которое долго взбивали. На макушке у шляпы торчит нелепое фазанье перо – лихость его как-то не вяжется с обликом женщины, обретающейся ниже. Винни втыкает в шляпу жемчужную булавку, хотя с моих позиций – я наблюдаю из-под вешалки – кажется, что булавка вошла прямо в череп.
– Кончай рожи корчить, – советует Винни, заметив меня в зеркале. – Испугаешься – так и останешься на всю жизнь.
Я свешиваю голову набок и выдаю гримасу, которая и Чарльзу сделала бы честь.
– Ты похожа на горбуна из Нотр-Дама, – говорит Винни, – только каланча. – И оседает на жесткий стульчик у телефона. – Ноги опухают, не могу, – с чувством прибавляет она.
– Ты уже говорила.
– И снова скажу. – Винни со скрипом наклоняется и гладит ботинок – утешает. Новые черные ботинки на шнуровке – ведьмовские, их с шиком преподнес ей мистер Рис «в знак своего почтения». – Надо бы что поудобнее надеть, – говорит она. – Принеси коричневые башмаки, они у меня под кроватью. Ну, чего стоишь?
Осторожно, здесь водятся драконы. В комнате у Винни живут разные запахи – школьной столовой, мелких музеев, старых хладных склепов. И не догадаешься, что снаружи тепло и вообще июнь. У Винни свой микроклимат. Все покрыто тончайшей пленкой никотина. Я с хрустом топчу крошки от печенья и сигаретный пепел на протертом ковре. Старая латунная кровать, где когда-то почивала моя бабушка (Шарлотта Ферфакс, со временем переименованная во Вдову), завешена одеждой Винни – расползающимся бельем и толстыми штопаными чулками, а также почти всеми ее платьями и юбками, хотя в комнате имеется бездонный шкаф, куда поместится целая страна.
Я опасливо приподнимаю краешек поблекшего атласного покрывала – одни небеса в курсе, что притаилось у Винни под кроватью. От ветерка взлетает облако пыльного пуха – сброшенная кожа кошмаров Винни. В Судный день, когда воскресят мертвых, пыль, коей под кроватью у Винни легион, подымется и воплотится толпою. Груды мертвой кожи, но никаких башмаков, лишь аккуратно, почему-то в пятой балетной позиции, стоят поношенные шлепанцы.
Я неохотно шарю в развалинах и руинах обстановки. Распахиваю тяжелые дверцы гардероба, следя, как бы вся конструкция не грохнулась и не раздавила меня всмятку. Гардероб Винни – а прежде Вдовы – любопытное сооружение. «Коллекция», – представляется он стилизованным шрифтом, сложившимся где-то до Первой мировой. «Коллекция дамы», собственно говоря, потому что когда-то существовала парная «Коллекция джентльмена», принадлежавшая моему давно позабытому дедушке – «моему покойному отцу», как называет его Винни, тоном подчеркивая скорее бесчувственность его, чем безжизненность.
Гардероб Винни своей половой принадлежности не стесняется: на полках ярлыки «Дамское белье», «Платки», «Перчатки», «Мелочи», вешалки обозначены «Меха», «Вечерние наряды», «Повседневные наряды».
На кровати полно одежды (а на полу и того больше), но и в гардеробе нарядов целый лес – я никогда не видала, чтоб Винни это носила. Прежде я лишь мельком заглядывала в камфарное нут ро ее гардероба и сейчас совершенно заворожена, щупаю древние креповые платья, вялые и омертвелые, глажу затхлые шерстяные костюмы и жакетки – улики существования Винни, которая следила за модой пристальнее той, что нынче ползает по дому в пыльных ситцевых халатах и меховых тапках на молнии. Неужто Винни когда-то была молода? Как-то не верится.
Длинная шуба неизвестного животного происхождения подставляет мне бок, палантин настойчиво трется о кончики пальцев. Палантин сконструирован из двух давно усопших лисиц, при жизни не представленных, а ныне слившихся навеки, точно сиамские близнецы. Из недр гардероба выглядывают их треугольные мордочки, черные глаза-бусины глядят на меня с надеждой, острые носики втягивают спертый воздух. (Чем они тут заняты? Грезят о девственных лесах?) Я спасаю их, заворачиваюсь в палантин, и лисы благодарно ложатся мне на плечи, укрывают от сквозняков, что вихрятся по комнате погодными фронтами.
На дне гардероба теснятся горы коробок – обув ные коробки, точно кошачьи гробики, от пыли посеревшие, на торцах черно-белые контуры туфель, у которых есть имена («Кларибель», «Далси», «Соня»), и шляпные коробки, кожаные и картонные. В обувных всевозможные туфли – пара кремовых сандалий с запасом прочности на английское лето, пара черных лакированных босоножек, которым не терпится станцевать чарльстон. Но искомых коричневых башмаков нет.
Судя по жалобным скрипам у подножия лестницы, Винни уже теряет терпение. И тут я замечаю беглую туфлю, что прячется на самом дне гардероба, одинокую, но Винни таких не носила, да и Вдова тоже. Высокий каблук, коричневая замшевая туфля с непонятным обрывком свалявшегося меха, похожего на ошметок дохлой кошки. Внутри пятна плесени, а в гнездышке мертвого меха поблескивает страз. Замша темна и жестка, шпилька сворочена на сторону, точно выбитый зуб.
Запах грусти, приплывший за мною в комнату Винни, ошеломляет, окутывает влажным плащом, и меня ведет от горя.
Вопли Винни все громче – ей что, босиком в больницу идти? Что я там делаю? Я что, в гардероб провалилась?
Я хватаю туфлю, закрываю дверцы и, обернувшись, замечаю коричневые башмаки Винни – стоят себе посреди кавардака на туалетном столике, безмолвно вывалив языки. Винни, напротив, достигла крайней степени оглушительности и, если прибавит громкости, наверняка лопнет.
Чарльз обнюхивает нутро туфли, как ищейка, прижимает коричневую замшу к щеке, закрывает глаза, словно ясновидящий.
– Ее, – решительно говорит он. – Точно тебе говорю.
От Винни, как всегда, толку чуть.
– Впервые вижу, – холодно говорит она, но, когда я предъявила туфлю, Винни отпрянула как от раскаленной кочерги. – И не смей копаться в моих вещах, – предупредила она и отбыла.
В костях, в крови своей мы знаем, что туфля прилетела из иного времени, иного пространства, хочет нам что-то сказать. И что же? Если найти вторую, отыщем ли мы подлинную невесту («Впору, впору!»), приведем ли назад, где бы ни была она сейчас?
– Чарльз, ну откуда нам знать, – может, она уже умерла?
У него такое лицо, будто он сейчас забьет меня этой туфлей.
– Ты что, никогда о ней не думаешь? – негодует он.
Однако дня не проходит, чтоб я о ней не думала. Я ношу в себе Элайзу, точно чашу пустоты. Нечем наполнить – разве что вопросами без ответа. Какой у нее был любимый цвет? Она любила сладкое? Хорошо танцевала? Боялась смерти? Унаследовала ли я от нее какую-нибудь болезнь? Прострочу ли прямой шов, сыграю ли удачно в бридж благодаря ей?
У меня нет модели женственности, кроме Винни и Дебби, а они так себе образцы для подра жания. Есть вещи, о которых я не имею представ ления, – как ухаживать за кожей, как написать благодарственное письмо, – потому что Элайзы нет и некому меня научить. И вещи поважнее – как быть женой, как быть матерью. Как быть женщиной. Приходится бесконечно сочинять Элай зу (волосы воронова крыла, молочная кожа, кроваво-красные губы), а лучше бы не приходилось.
– Да почти нет, – непринужденно вру я Чарльзу. – Сто лет уже прошло. Надо жить, двигаться дальше. – (Но куда?)
Может, она возвращается по частям – дуновенье духов, пудреница, туфля. Может, скоро появятся ногти и волосы, потом целые руки, и наконец мы из фрагментов соберем нашу головоломочную мать.
– Это чья туфля? – спрашивает Чарльз Гордо на – тот не в себе, пытается пробудить к жизни угли в барбекю.
Гордон оборачивается, видит туфлю и окрашивается в неожиданный цвет сырого теста.
– Ты где это взял? – глухо спрашивает он, но тут нас локтем отпихивает Дебби:
– Ну, Гордон, гости вот-вот придут, угли должны раскалиться. Что такое? У папули всегда получалось. А это что? – Она кивает на туфлю. – Выброси, Чарльз, это негигиенично.
В поисках чего пожрать выходит мистер Рис, обнаруживает только сырое мясо и вновь исчезает в доме. В сад бочком пробираются мистер и миссис Бакстер. Мистер Бакстер редко появляется на соседских сборищах. Даже когда нет солнца, он отбрасывает длинную тень.
Мистер Бакстер наново подстригся по-армейски, волосы сердито топорщатся на черепе. А у миссис Бакстер мягкие кудри цвета маленьких робких зверьков. У миссис Бакстер ни одного жесткого угла. Одевается она нейтрально – устричный цвет, бежевый, бисквитный или овсяный – и временами почти сливается с красивой чинцевой гостиной, где занавески пристойно подвязаны, а в тиковой горке полный порядок. Не то что Винни, облаченная в похоронные оттенки, будто вечно в трауре по кому-то. По своей жизни, считает Дебби, которая предпочитает пастель.
При нежданном явлении мистера Бакстера Чарльз говорит:
– Ага, ну я в кино пошел, – и не успевает Дебби ответить: «Вот уж нетушки», – его уже нет. Бедный Чарльз, никто не ходит с ним в кино.
– Ему бы собаку завести, – советует Кармен (у Макдейдов целая собачья стая на любые нужды), – собака пойдет куда угодно.
Но Чарльз хочет, чтобы кто-то сидел с ним на заднем ряду в кинотеатре, приходил на свидания в кафе, пил с ним капучино, жевал поджаренные булочки, и, хотя собака, вероятно, с радостью возьмет на себя эти обязанности, Чарльз, по-моему, хочет девушку, а не собаку.
– Хм, – супится Кармен, – это будет потруднее.
Почему девушки не хотят гулять с Чарльзом – потому что он такой чудной на вид? Потому что верит в странное и одержим ненормальным? Да. Если коротко.
Миссис Бакстер, которой этикет барбекю в новинку, принесла большой пищевой контейнер и вручает его Дебби.
– Я тут сделала малка салата, – с надеждой улыбается она, – думала, вам пригодится.
– Возможно, даже в пищу, – саркастически усмехается мистер Бакстер, и его жена конфузится.
Подтягиваются другие соседи, а так и не раскалившиеся угли все больше нервируют Дебби. Соседи, как положено, восторгаются ее набором для барбекю – «новомодная штуковина», – однако сырое мясо особого восторга не вызывает.
Приходят мистер и миссис Примул с Юнис и ее неприятным братом Ричардом. Мистер Примул и Дебби углубляются в жаркую беседу о следующей постановке «Литских актеров» – «Сон в летнюю ночь», представление планируется («Потому что нам заняться больше нечем», – смеется мистер Примул) в канун Иванова дня на поле под ле ди Дуб. Почему в канун Иванова дня? Почему не ночью?
– Что в лоб, что по лбу, – отмахивается Дебби.
Дебби наконец получила роль с репликами – она играет Елену и постоянно жалуется, сколько слов ей досталось выучить, не говоря уж о том, до чего эти слова нелепы.
– Я считаю, он (то есть Шекспир) мог бы и подсократить. Одного слова бы хватило, а он пишет двадцать. Бред какой-то. Слова, слова, слова[22].
Я в споры не вступаю, не разъясняю ей, что Шекспир выше всяческих оценок. («Для девочки твоего возраста, – говорит учительница английского мисс Холлам, – весьма необычна подобная страсть к Барду».) К «Барду»! Все равно что называть Элайзу «наша мамка» – низводить до уровня простых смертных.
– Вот уж кто инопланетянин, – говорю я Чарльзу, – так это Шекспир.
Вообразите, каково с ним встретиться! Впрочем, что ему сказать-то? Что с ним делать? Не по магазинам же таскать. (Может, и неплохая идея.)
– Заняться сексом, – рекомендует Кармен, отчасти неприличным манером погрузив язык в шоколадный шербет.
– Сексом? – изумляюсь я.
– Ну а что? – пожимает плечами она. – Раз уж ты заморочилась во времени путешествовать.
Оголодавшее собрание обращается к капуст ному салату миссис Бакстер и стоически его жует. Гордон приносит тарелку отбивных, снаружи почерневших, а внутри ярко-розовых а-ля Эльза Скиапарелли[23]. Гости вежливо гложут по краешку, а мистер Бакстер вспоминает срочные дела вдали отсюда.
– Это что, конина? – громко осведомляется Винни.
– Ты же, наверное, Любетов не звала? – с надеждой спрашиваю я Дебби.
– Кого?
– Любетов. С Лавровой набережной. Твой гинеколог.
Дебби содрогается в ужасе:
– С какой радости мне его звать? Будет тут жевать стейк, зная, что у меня внутри.
Да, неуютно. Но стейк он жевал бы в одиночестве – остальные воздерживаются.
На мистера Любета обрушивается столько «женских проблем» (особенно таких женщин, как Дебби и Винни), не захочешь, а его пожалеешь, но, вообще-то, он малоприятный: «рыба холоднокровная», по оценке Дебби, «чудна́я рыбина» – по выражению Винни; весьма необычное единогласие между заклятыми врагами хотя бы касательно биологической принадлежности.
Дебби по случаю барбекю приготовила десерт – причудливое запеченное сооружение, Riz Imperial aux Pêches.
– Холодный рисовый пудинг? – нерешительно переводит мистер Примул. – С консервированными персиками?
Снова появляется мистер Рис, как раз когда Ричард Примул давится хохотом (издает ужасный «хап-хап») и говорит:
– Мистер Тапиока! Мистер Манка!
Я сообщаю ему, что шуточка давно приелась, но Ричарду плевать, что девчонки говорят. Мистер Рис, если приглядеться, уже и впрямь смахивает на пудинг, непропеченный, жирный и с вареньем, – лицо бледное, глаза как смородины. Вот из Ричарда вышел бы очень невкусный пудинг. Ричард очкастый, прыщавый, ровесник Чарльза, первокурсник на строительном в Глиблендском техникуме. У Ричарда и Чарльза много общего – оба изъедены акне и после бритья покрываются красной сыпью. От обоих несет сырными корками, но, возможно, это со всеми мальчиками так (кроме, разумеется, Малькольма Любета), оба – необщительные ботаники, что отталкивает как девушек, так и сверстников мужеского пола. Вопреки сродству, друг друга они презирают.
Впрочем, есть и различия. Чарльз, к примеру, человек (что бы он сам ни думал), а вот Ричард, вполне вероятно, не вполне. Не исключено, что он результат неудавшегося эксперимента пришельцев, – может, какой-нибудь марсианский Франкенштейн вычислял, каким полагается быть человеку, и из лишних деталей собрал Ричарда.
С виду он полная противоположность Чарльзу – худой, долговязый как плеть, тело дурно сшитым костюмом болтается на широких плечах-вешалках. Не подбородок, а кувалда, и в профиль лицо – как впалая новорожденная луна.
Ричард все пытается украдкой меня пощупать – тайком выставляет руку или ногу и старается потрогать где достанет.
– Убери руки! – рычу я и ухожу.
– А это что? – осторожно спрашивает миссис Бакстер, предъявляя мне ломоть обугленного мяса.
– Пудель? – с надеждой гадаю я.
– Я, деточка, пожалуй, домой, – поспешно говорит она. – Надо к Одри.
В Одри по-прежнему обитает «какой-то вирус, летний грипп, – говорит миссис Бакстер, – видимо». Всякий раз, когда она поминает «грипп», я представляю, как в бедной Одри разрастается грибница громадного белого или, скажем, ярко-красного мухомора.
– Да что с Одри такое? – спрашивает Юнис – щелк-щелкающий мозг не способен разгадать эту загадку, и Юнис раздражена.
Я безутешно брожу по саду, а за мной по пятам бродит запах грусти – апрельский парфюм не выпарила июньская жара, он висит в воздухе легким маревом. Призракам ведь полагается скрипеть и бормотать, нет? Что это? Кто это? Меня ощупывают незримые глаза, – может, это материализация моего подросткового темперамента, таинственный полтергейст. Лучше бы за мной ходил Малькольм Любет. Лучше бы я отправилась в Картехогский лес[24], подоткнула бы юбки, заплатила бы своим девством и бродила по диким берегам страсти.
– Я тебя видела утром. – Сбоку появляется Юнис, лицо измазано кетчупом. – Довольно ужасное барбекю, – бодро говорит она. – Даже мне бы лучше удалось.
– Где?
– Что где?
– Где ты меня видела утром?
– В «Вулвортсе», у конфетного автомата. Я тебе помахала, а ты не заметила.
Но меня не было ни в каком «Вулвортсе» ни у какого конфетного автомата, я лежала в постели, смотрела сон про голову Малькольма Любета.
– Ну, может, твой двойник, – пожимает плечами Юнис. – Доппельгангер.
Я, но из параллельной вселенной? Вообразите только – в каком-нибудь углу земли столкнуться с самим собой. Вот уж нарасспрашиваешься.
– У тебя тоже такое странное чувство, Юнис?
– Странное чувство?
– Ага. Как будто что-то не так…
Но тут барбекю вспыхивает ясным пламенем, небеса разверзаются, дабы ликвидировать пожар, и светское мероприятие тонет в саже и воде.
Иду к Одри сообщить, что она ничего не пропустила. Миссис Бакстер за кухонным столом вяжет какую-то тонкую паутинку с узором из ракушек и…
– …галезий?
– Это сердечки.
– Какая красота, – говорю я, щупая снежные складки.
– Платок для первого внука моей сестры, – говорит миссис Бакстер. – Ну, помнишь – Рона из Южной Африки. – Как ни заходит речь о младенцах, миссис Бакстер печалится, наверное, потому, что сама нескольких потеряла.
– Не переживайте, – утешаю я, – вы потом, наверное, тоже станете бабушкой.
И Одри, которая у плиты весьма не по сезону варит горячий шоколад для болезных, нечаянно переворачивает кастрюльку с молоком, и та с грохотом падает на пол.
Возвращаюсь из «Холма фей» – Чарльз тоже вернулся и сидит в шезлонге среди развалин барбекю. Найденная туфля вновь ускользнула в небытие. В ходе допроса с пристрастием Винни – чей девиз в области переработки мусора гласит: «Если не шевелится – сожги» (а порой и если шевелится) – признается, что поджарила туфлю вместе с мясом.
Я выволакиваю шезлонг, и мы с Чарльзом вместе сидим в сумеречном саду. Грачи припозднились, машут драными крыльями, мчатся к леди Дуб наперегонки с ночью, кар-кар-кар. Может, боятся перевоплотиться, если вовремя не вернутся на дерево, не успеют, прежде чем солнце нырнет за горизонт, что черно прорисован за дубом. Наверное, боятся стать людьми.
Каково это – кар-каркать сумеречным грачом, прорываясь сквозь сабельный строй ночи? Черной птицею кружить в вышине над дымоходами и голубой кровлей древесных улиц? Последний отстающий грач приветственно взмахивает крылом у нас над головой. Как мы смотримся сверху, с высоты птичьего полета? Вероятно, очень мелкими.
– Оборотни, – мечтает Чарльз. – Интересно бы ло бы, а?
– Оборотни?
– В зверя превращаться, в птицу.
– А ты бы в кого хотел?
Чарльз, еще расстроенный утратой туфли, равнодушно жмет плечами:
– В собаку, наверное. – И торопливо поясняет: – В нормальную собаку, – заметив Гиги, что неизящно раскорячилась посреди газона. – Может, люди умеют превращаться в своих двойников, – говорит он после паузы, – и так получаются доппельгангеры?
– Ой, перестань, у меня башка от тебя трещит, – раздраженно отвечаю я. Иногда идеи у него до того запутанные, что думать нет сил.
– Вот ты как думаешь, пришельцы уже здесь? – не отступает он.
– Здесь? – (На древесных улицах? Да он с ума сошел!)
– На Земле. Среди нас.
Мы бы, наверное, заметили? Хотя кто его знает.
– А на вид они какие? Зеленые человечки?
– Нет, такие же, как мы.
Если ты везде чужой, это не значит, что ты взаправду представитель чужой цивилизации, втолковываю я Чарльзу, но он отворачивается – я его разочаровала.
Совсем стемнело, луна бледна и далека, белой монеткой подброшена в небо цвета растворимых чернил. Всей толпой высыпали звезды, шлют неразборчивые свои шифровки. Звездный свет, небесный свет. В сад выходит Дебби, спрашивает, чего это мы торчим в темноте, и Чарльз отвечает:
– Под звездами загораем.
Чем скорее он словит попутку на родную планету, тем лучше, честное слово.
Долго-долго лежу в постели, не могу заснуть, хотя устала до смерти. Если Чарльз прав, вышло бы весьма занимательно. Вдруг мы и в самом деле появились не здесь, а далеко-далеко и сами не знаем? Может, на нашей родной планете дела обстоят получше – там же параллельная вселенная. Параллельная планета.
Я жду, когда косым дождем по стеклу зашуршит гравий. Первая звезда – ответ, моя греза – ей завет, пусть звезда не скажет «нет» – Малькольм Любет взбирается по девичьему винограду, что постепенно удушает «Арден», залезает в окно моей спальни, и наши тела растворяются друг в друге. («Растворяются?» – недоумевает Кармен. Она у нас скорее за зверя о двух спинах.)
Кошки зарезали сон[25], стены сотрясаются от рыка их моторов – пррт-пррт-пррт, храпят себе до самозабвения. Прочие обитатели «Ардена» во сне так не шумят. Я слышу беспокойные сны Чарльза – космонавты в серебристых скафандрах бредут в пустоте космоса, а клепаные жестяные ракеты приземляются в пыльные лунные кратеры, как в фантазиях Мельеса[26]. У Винни сны потише – скрипят, как несмазанные петли, а Гордон вообще не грезит, зато младенческие сны Дебби эхом отдаются в пустоте дома – пушистые розовые зефирины снов о плюшевых кроликах и уточках, ползунках и пухлых телах ангелочков.
– Где Чарльз? – осведомляется Гордон на лестнице. – По-моему, он исчез. – Произнесено ожив ленно, что не вполне сообразуется с серьезностью заявления.
– Где Чарльз? – кричит мне Дебби из столовой – она пылесосит шторы, присобачив к «гуверу» патрубок (и смахивая на муравьеда).
На дворе девять вечера, нормальные люди развалились перед телевизорами. В том числе Винни – умостившись в кресле, она во всю глотку оскорбляет Хью Грина[27].
– Там кто-то за дверью, – сообщает она, когда я сажусь рядом.
Наклоняется, негодующе тычет кочергой в огонь. Наверное, воображает, как втыкает кочергу мистеру Рису в голову. Мистер Рис пошел блудить, и Винни, которой взбрело, будто у нее с мистером Рисом некое «взаимопонимание», до крайности раздосадована. Упомянутое взаимопонимание, говоря точнее, недопонимание проистекает из случайного комплимента, отпущенного мистером Рисом, – дескать, из Винни «вышла бы кому-нибудь прекрасная жена». Вполне вероятно, он имел в виду невесту чудовища Франкенштейна, но уж явно не себя.
– Там кто-то за дверью, – раздраженно повторяет невеста Франкенштейна.
– Я никого не слышала.
– Это не значит, что там никого нет.
Я неохотно отправляюсь в исследовательскую экспедицию. Из-за двери и впрямь доносятся странные шорохи, и, когда я открываю дверь, оптимистичный скулеж привлекает мое внимание к крупной псине, сфинксом возлежащей на пороге. Поймав мой взгляд, псина подскакивает и исполняет традиционный собачий номер – башка обворожительно склонена набок, лапа приветственно протянута.
Крупная уродливая псина, шерсть – как песок на запущенном пляже. Родословная неясна – местами терьер, древними намеками волкодав, но больше всего похож на вымахавшего Бродягу из «Леди и Бродяги»[28]. Ни ошейника, ни бирки. Квинтэссенция всего собачьего. Пес как он есть.
Он раскачивает тяжеленной лапищей, желая во что бы то ни стало представиться, и я наклоняюсь, пожимаю лапу и заглядываю в шоколадные глаза. Что-то в них такое читается… и эти лапы неуклюжие… и крупные уши… и дурацкая прическа…
– Чарльз? – для пробы шепчу я, а пес вздергивает вислое ухо и радостно стучит хвостом.
Будь я сестрой получше, я бы, вероятно, села плести рубаху из крапивы, потом набросила бы на него, сняла заклятие, чтоб он вновь стал человеком. А так я даю ему кошачьего корма. Благодарность его огромна до абсурда.
– Глянь, – говорю я Гордону, когда тот спускается в кухню.
– Ты не видела Дебс? – спрашивает он, почесывая в затылке, – вылитый Стэн Лорел[29].
– Нет, но ты глянь – собачка, бедная потеряшка, бездомная, голодная, одинокая собачка. Можно мы ее оставим?
И Гордон, у которого такой вид, будто он заигрался в «Кто я?» из «Домашних забав», невнятно бурчит:
– Мм, если хочешь.
Разумеется, я понимаю, что Пес на самом деле никакой не заколдованный Чарльз, и к тому же Чарльз возвращается оттуда, куда уходил, и они с Гордоном пьют солодовое молоко. Одновременно обнаружив, как этот оккупант дожирает в кухне остатки ужина, ни Винни, ни Дебби с Гордоном не разговаривают. Псина, как выясняется, ест все, даже стряпню Дебби.
С прибытием солнечных дней и Пса блошиная популяция «Ардена» готовится к завоеванию планеты, не говоря уж о том, что грозит стереть с ее лица Дебби.
– Прямо кишмя кишат, – смеется миссис Бакстер, когда одна блоха прыгает с Пса на ее красивую белую скатерть.
– Много суеты из ничего, – говорит Винни, умело поймав блоху и с крошечным взрывным «чпок!» ногтями раздавив гагатовое тельце-бусину (я воображаю, что это голова Ричарда Примула).
Микроскопическая жизнь в «Ардене» положительно бурлит – блохи, пыль, крошечные дрозофилы. А мир незримый, разумеется, перенаселеннее зримого.
– Витамины! – говорит Винни. – Да кому они нужны?
– Всем? – бормочу я.
– Молекулы! – говорит Чарльз. – Да кто про них понимает?
– Ученые? – подсказываю я. (Они незримы, но это не значит, что не важны.)
Винни такая тощая и, вероятно, холоднокровная, что кусать ее – любой блохе дороже. А вот Дебби, пухлая, теплокровная и тонкокожая, – блошиный пир пиров, праздник, который всегда с тобой.
Дебби винит Кошек (тут кроется мюзикл), вечный предмет раздоров между непримиримыми хозяйками «Ардена».
(Пара слов о Кошках: До прибытия Винни кошек в «Ардене» не было. У Винни имелся свой домишко, убогая лачуга ленточной застройки на Ивовом проспекте, но, когда наши родители так безрассудно исчезли, Винни пришлось продать дом и переехать к нам. Не простила нас по сей день. С собой она привезла Первую Кошку – праматерь арденской династии Каргу, воинственную кровожадную самку серого окраса, во множестве расплодившую прочих толстых участников каминных посиделок.)
Не только Дебби недолюбливает Кошек. Мистер Рис изредка тоже не прочь тишком брыкнуть ногою в направлении кошачьих, – вероятно, ему не сообщили, что у Винни в ушах радары, а глаза на стебельках.
Улавливая, что от жильца благосклонности не дождешься, Элеманзер, младшенькая, самая свирепая дочурка Карги, из кожи вон лезет, чтоб ему насолить, – спит у него на подушках, устраивает засады на лестнице и бросается ему под ноги, а однажды нарочно беременеет и рожает свой помет у мистера Риса в ящике с носками.
Многие дни потом мы развлекаемся, воображая, как мистер Рис под тусклым рассветным солнцем лезет в ящик за серо-голубыми носками в ромбик и в ужасе орет, обнаружив, что носки ожили и извиваются у себя в гнездышке, мохнатые и влажные. А один очень, очень крупный серо-серебристый полосатый носок в припадке материнского гнева впивается зубами ему в руку.
С наступлением лета один мяучащий носочек – красивый котенок по имени Уксусный Том теряется, и Винни одержима подозрениями, что дело не обошлось без мистера Риса.
Мы с Дебби согласны в одном (и более ни в чем): от мистера Риса нас тошнит. Нас тошнит от того, как он жует, приоткрыв рот, и как он скрежещет зубами, дожевав. Нас тошнит от того, как фальшиво он насвистывает сквозь эти зубы, когда они не жуют и не скрежещут. Особенно тошнит нас от того, как ночами эти самые зубы ухмыляются нам из стакана на полке в ванной.
Меня корежит оттого, что приходится делить с ним ванную, – не только из-за зубов, но из-за всепроникающих его запахов: пены для бритья, помады для волос и отчетливой вони мужских экскрементов (впрочем, не будем углубляться). Пару раз я видела, как поутру он выходит из ванной и под распахнутым халатом у него болталось что-то вялое, похожее на бледный гриб в норе.
– Ой, – говорит мистер Рис, похабно ухмыляясь.
– «Смерть коммивояжера»[30]. – Это я угрюмо делюсь фантазиями с Чарльзом.
– Мужчины, – с чувством бубнит Винни. (Винни и сама выходила замуж, впрочем ненадолго.) Судя по всему, есть несколько категорий мужчин – встречаются отцы-слабаки, братья-уроды, злобные негодяи, героические дровосеки и, разумеется, прекрасные принцы, но до идеала все они отчего-то недотягивают.
– Да что такое? – нетерпеливо спрашивает Юнис.
Мы бредем из школы, как водится, без Одри. Не знаю, странное такое чувство – знакомое, однако неведомое, шипучее, кипучее, будто в кровоток уронили алказельцер.
– Кровоток, – бубню я.
Мы срезаем путь, чтобы выиграть время (но где мы станем хранить свой приз без изъяна? На берегах средь дикого тимьяна?), стоим на мосту над каналом, и Юнис тревожно заглядывает через парапет в мутные воды, полные шерстяных отходов.
– Может, тебе нехорошо на мостах, – с жаром говорит она – скорее Фрейд, чем Брюнель[31]. – Когда боишься переходить по мосту, это называется…
Только не это, опять началось: Юнис исчезла, мост тоже исчез, но, по счастью, превратился в другой мост – рядок досок, не более того. Проулок впереди – он же переулок Зеленого Человека – никуда не делся, однако фонарный столб в устье переулка исчез, как и склады по сторонам, а вместо них теперь пара весьма небрежно сколоченных деревянных домов. Я нерешительно продвигаюсь по переулку и выхожу на Глиблендский рынок.
Здесь по-прежнему рынок, в этом-то сомнений нет: рыночный крест на месте, посреди площади, и паб «Стародавнее светило» на той стороне, правда название нигде не написано, только деревянная доска с солнцем – не нынешним, крикливым и желтым, а тусклым солнцем потускневшего золота. И «Стародавним светилом» паб, я подозреваю, не называется, он теперь просто паб «Солнце» – мы, видимо, очутились во временах, когда он был новехоньким, потому что это не паб, а какой-то сарай. Мы, собственно, вернулись в стародавний Глиблендс, если меня глаза не обманывают.
По брусчатке раскатывают деревянные телеги, торговки рыбой в бумазейке шестнадцатого века расхваливают свой товар. Парочка денди в бархате воздвиглись на углу, и, приблизившись к ним, я чую немытую прогорклую вонь. Сейчас взглянут на меня и заорут? Они меня вообще видят? Слышат?
В прошлый раз, когда я угодила в разрыв пространственно-временного континуума (нечасто нам выпадает случай строить подобные фразы, и спасибо за это небесам), человеку в поле замечательно удалось со мной пообщаться, но эта парочка смотрит сквозь меня – я остаюсь невидимкой, сколько ни кричу и ни прыгаю. Разумеется, если нарушены законы физики, с чего бы подобным инцидентам быть одинаковыми? В любой момент воцарится хаос. Не исключено, что уже.
Я толкаю дверь «Солнца», оно же «Стародавнее светило», – можно и поглядеть, как там раньше было внутри. В конце концов, здесь наше с Кармен несовершеннолетнее убежище (грамматические времена совсем запутались), немало сумрачных часов таились мы в Кабинете, хотя нам полагалось быть на естествознании. Лучше бы я учила физику, а не сменяла ее на немецкий язык. В 1960-м дверь блестящая и ярко-красная, а в этом не понять каком году Господа нашего она двойная и деревянная, как в конюшне. Войти и сказать: «Я из будущего»?
Может, это моя личная иллюзия Луны? У меня неверные точки отсчета, я ошибочно трактую воспринимаемые явления?
Внутри всего пара человек, как будто статисты из «Частной жизни Елизаветы и Эссекса»[32], но гораздо неопрятнее, чем обычно в Голливуде. Все мрачно пялятся в оловянные кружки, будто про Возрождение слыхом не слыхивали.
В тени, в углу высокой дубовой кабинки, закрыв глаза, сидит человек – довольно молодой, двадцать с хвостом, и смутно знакомый, будто мы встречались в настоящем – там, где в моем недавнем прошлом было настоящее, а теперь, если я туда вернусь, станет будущее. Батюшки, батюшки мои.
Человек открывает глаза и смотрит на меня. Не сквозь меня, как прочие, а на меня, и улыбается кривовато и цинично, будто узнает, и салютует кружкой, и мне отчаянно хочется подойти поговорить с ним, потому что он, по-моему, знает меня – не повседневную внешнюю меня, а внутреннюю Изобел. Настоящую. Мое подлинное «я». Но едва я к нему шагаю, все исчезает, как в прошлый раз.
В «Стародавнем светиле» пусто – паб еще не открылся. Я, очевидно, в настоящем – тут подставки для кружек, полотенца и ведерки для льда в форме ананасов. Выхожу из Кабинета, брожу по Залу и Бару и нахожу открытую дверь на задах кухни. Миную проход, заставленный мусорными ящиками, открываю дверь, снова оказываюсь на рыночной площади, вижу, как озадаченная Юнис выходит из переулка Зеленого Человека, и окликаю ее через площадь.
– Ты куда подевалась? – сердится она, одолев мостовую. И вдруг прибавляет: – Гефирофобия.
– Чего?
– Гефирофобия – боязнь мостов.
– А, ну да, – невнятно отвечаю я.
– Дромофобия – боязнь переходить улицу? По тамофобия – страх рек? Может, – беспечно говорит Юнис, – к тебе вернулся глубоко укорененный ужас твоего прошлого.
Что она несет?
– Что ты несешь?
– Фобии бывают разные. Боязнь огня, например, – пирофобия, или клещей – акарофобия, или моря – талассофобия.
Юнисофобия, вот что со мной такое. Я перебегаю дорогу и прыгаю в автобус, не взглянув на номер, а Юнис лавирует меж машин – пускай, все равно не догонит. Лично я неизвестно почему открыла дыру в ткани времени и теперь запросто ныряю в разрывы и закоулки, точно дверь в дом открываю.
Может, есть и другие люди, которые западают в прошлое и выпадают обратно, но как-то забывают об этом упомянуть в повседневных беседах (вы бы тоже не упомянули)? Но будем честны: что вероятнее – разрыв пространственно-временного континуума или некое помешательство?
Какова она, ткань времени? Черный шелк? Жесткий твид, гладкая саржа? Или хрупкие кружева, как вязанье миссис Бакстер?
* * *
Как доверять реальности, если мир чувственных явлений морочит мне голову на каждом шагу? Вот, например, столовая. Однажды вхожу, а она совсем другая, будто ее этак незаметно и необъяснимо переделали. Словно играли в «Что такое?» из «Домашних забав»: человек выходит из комнаты, остальные передвигают кресло или картину меняют, а он (вероятнее всего, похоже, она) возвращается и угадывает, что изменилось. Вот и в столовой так же, только еще отчетливее, будто это и не наша столовая вовсе. Будто столовая – комната в Зазеркалье, копия, столовая прикидывается столовой… нет-нет-нет, отсюда и до полного помешательства рукой подать.
За мной входит Дебби. На ней самодельный костюм эпохи Тюдоров, и на миг мне становится не по себе.
– Ты почему так одета? – Я стараюсь выкинуть из головы экспедицию в прошлое «Стародавнего светила», а костюм – неприятное напоминание.
Она оглядывает свое платье, будто впервые видит, потом вперяет глазки в меня.
– А. У нас прогон, – вдруг выдает она – видимо, перевела наконец мой вопрос. – Сон когда-то там.
Я б ей сказала, что она слишком деликатно пахнет, не аутентично, но мне не до того.
– Иззи?
– Мм?
– Тут чего-то не хватает, тебе не кажется?
– Не хватает?
– Или что-то не так. Как будто…
– Как будто комната та же, но не та?
Она глядит на меня в изумлении:
– Именно! У тебя тоже так бывает?
– Нет.
Возможно, существует Бог (вот это был бы сюрприз), и на древесных улицах Он устроил себе игровое поле. Скорее всего, боги – во множественном числе.
– В общем, я пошла, – говорит Дебби, подбирая юбки.
– С ума? – уточняю я.
– Что?
– Ничего.
Избегу ли я арденского помешательства?
* * *
Канун Иванова дня. Зенит года, неясно, куда девать столько дневного света. В саду Эдема каждый день был Ивановым. Нам бы через костры прыгать, что ли, или колдовать. Но нет, мы с миссис Бакстер пьем чай на газоне, как завещал градостроитель. Одри чахнет у себя в комнате. Пес растянулся в траве, грезит о кроликах. Под рододендроном дрыхнет черепаховая кошка миссис Бакстер. В центре газона – фейское кольцо, трава примята, будто ночью там приземлился миниатюрный космический кораблик.
Миссис Бакстер сготовила большой стеклянный кувшин домашнего лимонада и кусок за куском режет розовый бисквит, на вид – как банная губка.
Миссис Бакстер умеет исполнять удивительное количество вариаций на тему бисквита «Виктория», и у каждой свои рюшечки: шоколадные бисквиты помечены шоколадной стружкой, лимонные – мармеладными лимонными дольками, а кофейные – половинками грецких орехов, похожими на мышиные мозги. Винни в жизни своей не пекла и, уж конечно, не посвящена в таинства украшения выпечки.
Миссис Бакстер свои плюшки тоже, разумеется, ест и порой, съев несколько штук подряд, смеется, прикрыв ладонью рот:
– Батюшки мои, да я скоро сама в плюшку превращусь!
Каким бисквитом станет миссис Бакстер? Ванильным с кремом, мягким и рассыпчатым.
– Неудивительно, дьявол тебя дери, что ты такая жирная, – говорит ей мистер Бакстер. Сам он в склонности к плюшкам не замечен. («Он у нас плюшки не любит», – грустит миссис Бакстер.)
Она всегда дает мне лишний кусок в салфетке – отнести Чарльзу. Если кто видит, как я несусь домой из «Холма фей», наверняка думает, что там круглосуточно празднуют чей-то день рождения.
Сегодня по случаю солнца миссис Бакстер отказалась от обычной своей бежевой гаммы и надела яркий красно-белый сарафан, полосатый, как леденец, как навес над лавкой, как шезлонг. У него тонкие красные бретельки-шнурки, и тело миссис Бакстер весьма на виду – полные руки, локти в ямочках, роскошная ложбинка в декольте, где умостились розовые бисквитные крошки. От работы в саду кожа у нее стала как ириска и вся покрыта веснушками размером с конский каштан. Наверное, обожжешься, если к ней прикоснуться, и я давлю в себе желание нырнуть в бездонную расщелину ее материнской груди и потеряться там навсегда.
Миссис Бакстер блаженно вздыхает:
– Самое оно сыграть в «Человеческий крокет», – однако не уточняет, о чем речь – о газоне, о погоде или о настроении. – Само собой, – прибавляет она, – сейчас народу маловато.
На газоне вдруг возникает мистер Бакстер, его грозная тень зловещими солнечными часами ложится на поднос, и чашка миссис Бакстер содрогается на блюдце. Мистер Бакстер смотрит вдаль, за шпалеру с альбертинами, на зеленое взгорье, что зовется Боскрамским лесом.
– Чайку, миленький? – спрашивает миссис Бакстер, предъявляя мужу чашку с блюдцем, чтоб до него дошло, о чем речь.
Мистер Бакстер переводит взгляд на нее, видит ее летнюю шляпу – красную соломенную азиатскую шляпу, – морщится:
– С рисовых полей явилась?
И миссис Бакстер так торопится налить мистеру Бакстеру чайку, что опрокидывает кувшин с молоком (на редкость неуклюжая у них семейка).
– Вот растяпа, – говорит она и сияет широкой улыбкой, в которой ни грана счастья.
– Заняться нечем? – Он смотрит на птичью кормушку и воздевает бровь. Вопрос, однако, не к птицам.
Мистер Бакстер не любит, когда люди лодырничают. Он самоучка («Так я избежал шахты», – мрачно объясняет он) и злится на тех, кому «всё поднесли на блюдечке». Может, потому и плюшки не ест.
– Ты что тут делаешь? – рявкает он на меня.
– Время убиваю, до спектакля еще долго, – бубню я, набив рот бисквитом. («Ох батюшки мои, не надо так говорить», – шепчет миссис Бакстер.)
Мистер Бакстер внезапно хлопается на тра ву рядом с шезлонгом, где валяюсь я, выставляет худые волосатые лодыжки над серыми носками. В Аркадии ему не по себе – он предпочитает сидеть на жестких стульях и глядеть, как уходят в бесконечность колонны письменных столов.
– На розах завелась тля, – говорит он миссис Бакстер таким тоном, будто намекает на моральную распущенность, а не на нашествие вредителей. – Спрыснула бы.
Миссис Бакстер ненавидит спрыскивать. Никогда не давит пауков, не прихлопывает ос, не чпокает блох, и даже мухам дозволено вволю жужжать в «Холме фей», если они не попадаются на глаза мистеру Бакстеру. У миссис Бакстер уговор с ползучками и летучками: она не убивает их, они не убивают ее.
С порывом теплого ветра до меня долетает запах мистера Бакстера – крем для бритья, табак «Олд Холборн», – и я стараюсь не вдыхать.
– Я одним глазком разглядела тайком, – с надеждой начинает миссис Бакстер, – кое-что на «Т», – а мистер Бакстер орет:
– Господи, Мойра, дай мне минуту покоя, будь добра?
И мы так и не узнаём, что же это такое на «Т». Может, Тезей, и как раз сейчас он шагает по полю под ослепительным загородным солнцем, дабы возвестить, что час нашей свадьбы близок[33].
– Ой, они начинают! – взволнованно вскрикивает миссис Бакстер. – Пойду Одри позову.
Зрелище – петля[34], но в данном случае петля на горле зрителя, и я опущу умозрительную завесу над «Сном в летнюю ночь» в исполнении «Литских актеров». Комично там, где место лирике, уныло там, где задуман комизм, волшебства ни капли. Мистер Примул играл Мотка и не изобразил бы персонажа механичнее и грубее, если б репетировал до Страшного суда, а девушка, прикинувшаяся Титанией, Дженис Ричардсон с почтамта на Ясеневой, – толстуха с голосом как у сверчка. (Хотя кто его знает, может, все эльфы таковы.)
Дебби возвращается домой посеревшая, и поначалу я решаю, что это из-за ее чудовищной игры – могла бы сразу отдать роль суфлеру, – но за кружкой солодового молока она шепчет мне:
– Лес.
– Лес?
– Лес, лес, – повторяет она, словно Эдгар По тщится сочинить стихотворение. – В пьесе, – шипит она, – во сне когда-то там.
– Так? – Я само терпение.
– Моя эта, как ее.
– Персонаж?
– Ну да, мой персонаж, она же теряется в лесу? – (Тысячу деревьев героически сыграла леди Дуб.)
– Так.
Дебби озирается, странно кривясь, – облечь мысль в слова ей, похоже, нелегко.
– Что такое?
Она отвечает тихо-тихо – я еле слышу.
– Я была в лесу по-настоящему, я, дьявол его дери, заблудилась в огромном лесу. Часами бродила, – прибавляет она и плачет.
По-моему, она перегрелась на солнце. Рассказать ей о проулках, закоулках и переулках времени? Пожалуй, не стоит.
– Может, тебе к психиатру сходить? – мягко предлагаю я, и она в ужасе улепетывает из кухни.
Ну вот. Мы обе помешались, как чаевничающие Безумные Шляпники.
Поздно уже, канун Иванова дня почти уступил Иванову дню. В доме даже мышки заснули. Я в кухне наливаю воду из-под крана; в «Ардене» вода из-под крана всегда солоновата, будто в баке что-то неторопливо гниет.
От кухни такое впечатление, словно кто-то отсюда только что вышел. Я стою на заднем крыльце, пью воду. Коже горячо от жара, впитанного в саду миссис Бакстер. От земли поднимается тепло, горькой зеленью пахнет крапива. Тоненькая кожурка желтой луны серпом прорезала небо, и на нижнем роге алмазною серьгою у чернокожей ночи на щеке[35] повисла звезда.
Мне не хватает мамы. Боль по имени Элайза всплывает из ниоткуда, стискивает сердце, и я опять сирота. Вот как она действует: я перехожу дорогу, жду автобус, стою в магазине и вдруг не пойми отчего мне так отчаянно хочется к маме, что слезы душат. Где она? Почему не приходит?
Часы на литской церкви отбивают ведьмовской час. Кар. На леди Дуб шуршат листья и перья.
Под ногами незримо роются кроты, извиваются черви. В океане тьмы порскает летучая мышь. В далекой дали воет собака и что-то шевелится – черный силуэт шагает через поле. У него нет головы, честное-пречестное. Но потом я вглядываюсь, а силуэт уже исчез.