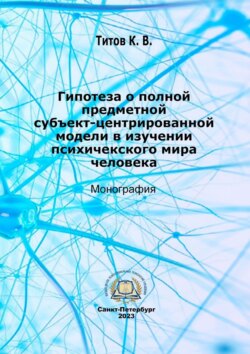Читать книгу Гипотеза о полной субъект-центрированной модели в изучении психического мира человека - Кирилл Титов - Страница 5
Граница субъективного как граница психического, представления
ОглавлениеФактически для этого придется создать некую категорийно-обобщённую классификацию субъективного опыта, не претендующую на исчерпывающую полноту и детализацию, но основанную на критически важных свойствах «бытия» внутренних объектов, насколько это существование обеспечивает им невидимый субъекту активный интерьер психической механики. За счет этого будет возможно отделить внутренние для сознания объекты от породивших их процессов и управляющих ими процессов, то есть «материю» субъективного от «сил» и производимых силами системных явлений и событий субъективного мира.
Прежде всего мы должны провести границу субъективного, объединив субъективные явления в один тип по критическому признаку апперцептабельности, то есть способности быть непосредственно воспринятыми субъектом, использовав термин «апперцепция» не вполне в определенном Лейбницом значении, но прежде всего как «чувственно выраженное осведомление субъекта».
Слово «субъект» используется здесь для обозначения субъекта ощущения и переживания, «того, от кого исходит внимание», «того кто переживает себя и свой внутренний мир», «Я»: как аналог слова «сознание» без акцента на высших функциях сознавания и самосознавания и аналог понятия «субъективная реальность» с включенным в него «внутренним наблюдателем».
Поскольку всё, что принципиально не апперцептабельно, то принципиально внесубъективно и осознается лишь в апперцептабельных проявлениях и моделях, то апперцептабельное служит внешней границей субъективного. В качестве иллюстрации приведем атом, который существует в сознании только как модель из апперцептабельного, но сам внесубъективен, или лекарство, которое не ощутимо само, но влияет на самочувствие.
Использование апперцепции, а не перцепции, в качестве границы субъективного вызвано тем, что о перцепции субъект способен знать и судить только на основе апперцепции. Соответственно, перцепция и восприятие per se сознанию вне него, разумеется, неизвестны. Для сознания перцепция и апперцепция неразличимы и неразделимы, и проводимые между ними границы – например, Г. Фехнер проводит границу, называя перцепцией процесс, при котором внешние стимулы приводят к возникновению восприятий, а апперцепцией осмысление их с жизненным опытом, тогда как К. Левин считает перцепцию процессом, который протекает автоматически без участия сознания, а апперцепцию процессом, к котором активно участвует сознание – скорее концептуальны, нежели чем сущностны, поскольку ставят классификацию в зависимость от внешнего к ее предмету процессинга сознания. При этом упускается как тот факт, что восприятие при создании образа неизбежно использует предыдущие результаты работы сознания, так и тот, что без апперцепции сознанием результат перцепции остается никому не известным, что для субъективного феномена равно не существованию.
Аналогичным образом мы не можем субъективно отделить восприятие от представления, без представления восприятие сознанию не известно, (Г. Фехнер, Элементы психофизики, М., Издательство АН СССР, 1949), и современные исследователи), поскольку именно представление создает на выходе процесса восприятия то, что может быть воспринято субъектом, то есть апперцептабельное.
По своему родовому признаку все апперцептабельное относится к категории ощущений, то есть к тому, что может быть доступно субъекту как чувственное, вне зависимости от того, присутствует оно в простой или сложносоставной форме.
Введение такой категории вступает в кажущийся конфликт с принятым делением субъективных элементов на ощущения, восприятия, представления, чувства и так далее, попадающими теперь в одну категорию. Потенциально это может вызвать дополнительную путаницу, в особенности из-за того, что термин «ощущения», привычно закреплен в литературе одновременно и за процессом, и за результатом деятельности именно органов чувств.
Однако ее введение снимает значительные противоречивости, вызванные систематикой явлений внутреннего опыта «по возникновению» или «по применению», фактически провозглашающей подчас однородные явления разного происхождения непреодолимо отличающимися друг от друга, и создающие тем логическое противоречие, как если бы вес гири, взятой из ящика и вес гири, снятой с полки, считались бы физикой весами качественно разной природы, как это происходит, например, с т.н. первичными и вторичными образами или обобщением первично данного в восприятии феномена «движение», размещаемым в отдельную категорию материи абстрактного мышления.
Например, субъективное ощущение кислого вкуса вызывает слюноотделение вне зависимости от того, был кислый вкус вызван кислым на языке, воспоминанием о кислом, или воображением, усиливающим кислый вкус, или работой ассоциативного механизма, в том числе активированного посредством второй сигнальной системы, что свидетельствует о качественном единстве чувственного содержания «кислого вкуса». Соответственно, как внутренний феномен масса воспринимаемого не «состоит из ощущений, восприятий, представления, воображения и ассоциаций», а прежде всего является апперцептабельным=ощущением различной силы, качеств и сложности. Это ощущение сформировано автоматом представления как результат различной интенсивности специфического действия механизмов сенсорного процесса, его восприятия, конструирования или автоматического ассоциативного вспоминания, которые конкурируют за механизм представления сознанию этого субъективного феномена в чувственной форме, что во многом соответствует концепциям Дж. Гибсона и У. Найссера (У. Найссер, Познание и реальность, М., 1981; Дж. Гибсон, Экологический подход к зрительному восприятию, М., 1988).
При этом апперцептабельная поверхность механизма представлений выступает внешней границей субъекта. То же, что не отражено в представлении, не может являться объектом внимания и, соответственно, осознания.
Сами породившие апперцептабельное процессы работы соответствующих механизмов неапперцептабельны впрямую. Так мы, произвольно по нашему впечатлению, лишь можем потрогать кислое языком, чтобы анализатор неизвестным (неизвестным чувственно, хотя известным концептуально) субъекту способом поместил в область представлений кислый вкус, или приложить волевое усилие, чтобы память неизвестным субъекту способом извлекла вкус, или приложить иное волевое усилие, чтобы неизвестным субъекту способом усилить имеющийся в представлении вкус, или иное волевое усилие по представлению обладающего кислым вкусом объекта, чтобы цвет и запах представления ассоциативно повлекли за собой вкус. Однако «как „делается“ квалия „кислый вкус“», мы не знаем.
С точки зрения субъекта эти механизмы можно считать конструктивно отличающимися друг от друга функциональными автоматами, выполняющими свою функцию в зависимости от входящих данных и своего устройства, и подверженными сознательной регуляции только в определенных автоматом и его особенностями границах: сознание может прилагать усилия к запоминанию и вспоминанию, восприятию и конструктивному представлению, однако результат срабатывания автоматов психики всегда будет сознанию «дан как результат».
При всем различии механизмов, результат представления в примере с кислым вкусом тем не менее имеет одну и ту же природу и показательно задействует непроизвольный механизм слюноотделения как реакцию на себя. И, в то же время, ощущение является не просто субъективным феноменом, но реальным сигналом одной структуры мозга, отображенным в другой, за счет чего доступным сознанию в субъективной форме.