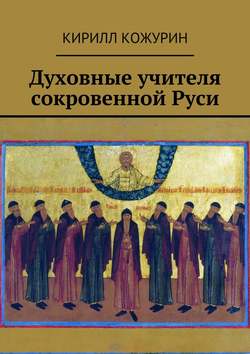Читать книгу Духовные учителя сокровенной Руси - Кирилл Яковлевич Кожурин, Кирилл Кожурин - Страница 2
Глава 1. Первые мученики за старую веру
Вступление
ОглавлениеПо грехом нашим на нашу страну
Попустил Господь такову беду.
Облак темный всюду осени.
Небо и воздух мраком потемни.
Старообрядческий духовный стих «Плач пустынных жителей»
Без малого семьсот лет – от святого великого князя Владимира до царя Алексея Михайловича – пребывала неизменной православная вера на Руси. Храмами и монастырями, словно драгоценными каменьями, вся Русь была изукрашена. Святыми угодниками Божиими и чудотворцами, бесчисленными, словно звезды небесные, была прославлена. Недаром называлась «Святою» Русь, недаром называлась «Третьим Римом», последним христианским государством в мире.
Христианскую православную веру русские приняли от греков, когда Церковь Христова была еще едина. Свято и нерушимо хранили наши предки свою веру, хранили церковное предание. Но враг рода человеческого не дремал. Соблазненные лукавым, пошли на поводу у князя мира сего, стали вводить у себя различные новшества западные христиане, и в 1054 г. отпали от Церкви Христовой. Так пал первый Рим.
Затем отпавшие католики стали прельщать греков, и те, теснимые внешним врагом, турками-османами, пошли на политический компромисс, предав свою веру, – заключили Флорентийскую унию с римским папой в 1439 г. После стали раскаиваться, но было уже поздно. Не помог им папа, и в воздаяние за отступничество греков в 1453 г. пал и второй Рим – Константинополь.
Остался последний оплот православной веры в мире: Третий Рим – Москва. К тому времени Московская Русь была уже сильным, независимым государством. Она по праву сделалась наследницей Византии – наследницей не в политическом плане, но прежде всего в духовном. Процветало христианское благочестие в русском народе, и дивились иноземные гости, с благоговением взирая на недостижимые высоты духа.
Но темным силам было не угодно такое процветание благочестия и святости. «Выпросил у Бога светлую Россию сатана, да очервленит ю (ее – К. К.) кровию мученическою», – писал протопоп Аввакум. Еще в 1596 г. в унию с католиками отпала часть православных жителей Малороссии и весь ее православный епископат, а в «Книге о вере единой истинной православной», изданной в 1648 г., высказывалось опасение, как бы по приближении 1666 г. и русским не пострадать от такового же зла. Опасение это пророческим образом сбылось…
В 1653 году начались церковные реформы патриарха Никона, которые раскололи русское общество на два лагеря. Новая Русь, покорно принявшая никоновские новшества, вскоре должна была испытать на себе очередную волну экспериментирования и оплевания своей веры – духовный сын и продолжатель дела Никона Петр I уже выкраивал для нее камзол по голландской выкройке и точил топор, чтобы обрубить ненавистную ему русскую бороду. Среди болот, на балтийских ветрах, вычерченная по линейке и циркулю, вырастала новая столица, которая должна была уничтожить всякое воспоминание о прежней. Старая же Русь, вольнолюбивая и непокорная, снималась с места, чтобы отправиться в свое многовековое странствие, гарями взметнуться в небо, таинственным Китежем уйти в глубины озер. В пустыни и горы, в вертепы и пропасти земные уходила сокровенная Русь.
Напомним основные вехи истории раскола Русской Церкви. В 1645 г. в Москве образовался кружок ревнителей церковного благочестия – так называемых боголюбцев. В этот кружок входили молодой царь Алексей Михайлович, царский духовник протопоп Стефан Внифантьев (Вонифатьев), протопоп Иоанн Неронов и некоторые другие. Целью кружка было благоустройство Русской Церкви и государства после Смутного времени начала века. Боголюбцы понимали необходимость определенных церковных реформ, призывали к соблюдению христианской морали, много внимания уделяли проповеди, устраивали центры христианского просвещения, стремились поднять авторитет Церкви в глазах народа.
Настоящим вдохновителем кружка был отец Иоанн Неронов, выходец из района знаменитых заволжских старцев. Иоанн (в крещении Гавриил) родился в 1591 г. в семье священника отца Мирона (в просторечии Нерона), и детство его пришлось на Смутное время. Отчий дом был разграблен и сожжен, и тогда молодой Иоанн в сопровождении некоего отрока Евфимия ушел в Вологду, где начал свою проповедническую деятельность. Уже в те 1610-е годы Неронов исповедовал идею «оцерковления» человека и стал обличать вологодского архиерея, пригласившего во время святок в свой дом ряженых и скоморохов. За что и был «бит немилостиво».
Из Вологды Иоанн перебрался в Устюг. Там он приобщился к книжному чтению, которое поначалу давалось ему нелегко. «Учашеся зело медленно, яко един букварь учаше лето и месяцев шесть». Затем он оказался в Никольском, пригородном селе Юрьевца Повольского, и женился здесь на дочери местного священника. Живя в Никольском и будучи церковным чтецом, Неронов неоднократно наблюдал «развращенное житие» здешнего духовенства. Обличаемые им попы написали на него ложный донос самому патриарху Филарету, так что молодому чтецу пришлось тайно, ночью бежать в Троице-Сергиев монастырь, где Неронов нашел покровителя в лице просвещенного архимандрита монастыря Дионисия Зобниновского, много заботившегося о его просвещении. Когда обнаружилось, что донос на Неронова является откровенной клеветой, то по просьбе Дионисия патриарх рукоположил Иоанна сначала в дьяконы, а через год – в иереи.
Молодой боголюбец, поставленный в священники, возвращается в село Никольское, но здесь его ожидают лишь новые распри с местным духовенством. Тогда он уезжает в нижегородскую деревню Лысково, учиться у пользовавшегося в то время широкой известностью священника Анании, который «зело искусен бе в Божественном писании», а затем переселяется в Нижний Новгород. Здесь, облюбовав ветхую, много лет пустовавшую церковь Воскресения Христова, Иоанн Неронов становится при ней священником. На новом месте он продолжает свою горячую проповедь благочестия среди клира и мирян. Именно Неронову принадлежит заслуга возрождения личной проповеди, которой уже несколько столетий не знало русское православие. При нем всегда была книга Маргарит – собрание проповедей святого Иоанна Златоуста, по которой отец Иоанн Неронов учил русских людей, «на стогнах града и на торжищах… возвещая всем путь спасения». «Егда прочитавше народу святые книги, тогда бываху от очию его слезы, яко струя, и едва в хлипании своем проглаголываше слово Божественного писания, сказоваше же всякую речь с толкованием, дабы разумно было всем христианом».
Всей своей жизнью Неронов, невзирая на «дух времени», пытался следовать христианским заповедям. Он открывал школы, богадельни, смело вмешивался в дела светских властей как в провинции, так впоследствии и в столице. даже попадал В 1632 г. он даже попал на два года в ссылку в Никольский Корельский монастырь за неодобрительные слова о царском походе на поляков. После своего освобождения Неронов возвращается в Нижний Новгород, а затем поселяется в Москве, где по ходатайству царского духовника Стефана Внифантьева становится в 1645 г. протопопом Казанского собора на Красной площади. Это был его «звездный час». Послушать Неронова приходила вся Москва во главе с самим царем и царицей. Стены Казанского собора не могли вместить всех желающих послушать его проповеди, так что порой приходилось писать текст проповедей на специальных досках, размещавшихся на стенах собора.
В 1646 г. к кружку боголюбцев присоединяется Никон (в миру Никита Минов), тогда еще безвестный игумен северной Кожеозерской пустыни. Никон сумел уловить сокровенные мысли, занимавшие царя Алексея Михайловича и его ближайшее окружение, и вскоре сделал головокружительную карьеру. Представленный молодому царю, он произвел на него столь благоприятное впечатление, что тут же получил сан архимандрита московского Новоспасского монастыря – родового монастыря Романовых. В 1649 г. Никон уже был рукоположен в митрополиты Новгородские – на место еще живого митрополита Авфония.
Добившись архиерейской власти, Никон принялся за введение новшеств в доверенной ему Новгородской земле. Он единолично вершил суд и расправу на Софийском дворе, а вскоре по царскому повелению начал рассматривать и уголовные дела, причем жестоко расправлялся с новгородцами, пробовавшими жаловаться на него царю. Вместо древнего унисонного (одноголосного) пения Никон завел в Новгороде партесное – по западному образцу. Впоследствии Никон перенес это пение и в Москву, выписав польских певцов, певших «согласием органным», а для своего хора взял композиции знаменитого в свое время директора капеллы рорантистов в Кракове – Мартина Мильчевского. Характерно, что предпочтение, отданное послами князя Владимира православию («выбор веры»), летописцы связывали с эстетическим впечатлением от «ангелоподобного» древневизантийского пения. Никоновскую «псевдоморфозу» православия также предваряет увлечение пением, только уже пением западным, католическим. «И законы и уставы у них латинские, руками машут и главами кивают и ногами топочут, как де обыкли у латинников по органом», – скажет впоследствии протопоп Аввакум.
В 1651—1652 гг. среди боголюбцев начались разногласия по поводу выбора пути церковной реформы. Епископ Павел Коломенский, протопоп Аввакум и протопоп Иоанн Неронов ревностно выступали за реформирование Церкви по русскому образцу, на основе постановлений знаменитого Стоглавого собора 1551 г., а митрополит Никон и царь Алексей Михайлович склонялись к реформированию по современному им греческому образцу, ошибочно принимая его за эталон древнего церковного предания.
В 1652 г. внезапно умирает патриарх Иосиф, и на его место выбирают Никона. При поддержке царя Алексея Михайловича новый патриарх активно принимается за реформирование Русской Церкви.
Преподобному Елеазару, чудотворцу Анзерскому (ум. 13 января 1656 г.), под началом которого Никон делал свои первые шаги по стезе монашества, было видение: во время совершения Божественной литургии предстоит вновь поставленный патриарх, а вокруг шеи его «змия черна и зело велика оплетшеся». Провидение старца сбылось: обольщенный лукавым Никон начал творить свое черное дело, которое изнутри поразило Православную Церковь и ввергло русское общество в пучину раскола.
В чем же заключалась суть никоновской «реформации» (а на самом деле – алексеевской, поскольку главным инициатором был царь Алексей Михайлович и его ближайшее окружение)? Формальным поводом послужило исправление якобы неисправных богослужебных книг. Реформаторы утверждали, что со времени принятия христианства при князе Владимире в богослужебные книги по вине переписчиков вкралось такое множество ошибок, что необходима серьезная правка. Эта мысль явилась из сличения оригиналов и переводов. Но что в данном случае принималось за оригинал? Новые богослужебные греческие книги, напечатанные в иезуитских типографиях Венеции и Парижа (греки тогда находились под игом турок-османов и собственных типографий не имели)! Помимо того, что за семь веков, прошедших со времени Крещения Руси, греки, заразившись латинским духом, сами существенно изменили чинопоследования некоторых служб, к этим изменениям добавлялись еще сознательные еретические искажения, внесенные хозяевами типографий – иезуитами.
Тем самым, никоновская «справа» стала не исправлением богослужебных книг, а их искажением, порчей. К сожалению, до сих пор весьма распространенным является мнение о том, что реформа XVII в. проводилась с целью исправления ошибок и описок, якобы вкравшихся в богослужебные тексты с течением времени по вине «невежественных» переписчиков. Однако мнение это весьма далеко от истины. Послушаем заключение эксперта: «Объективное сравнение текстов богослужебных книг предреформенных, иосифовской печати, и послереформенных не оставляет сомнений в ложности утверждения о недоброкачественности предреформенных богослужебных книг – описок в этих книгах, пожалуй, меньше, чем опечаток в современных нам книгах. Более того, сравнение текстов позволяет сделать как раз противоположные выводы: послереформенные тексты значительно уступают по доброкачественности предреформенным, поскольку в результате так называемой правки в текстах появилось огромное количество погрешностей разного рода и даже ошибок (грамматических, лексических, исторических, догматических и пр.)»1.
Когда сравниваешь старые и новые тексты, то невольно соглашаешься с протопопом Аввакумом. Он в таких словах передавал наказ патриарха Никона по «исправлению» книг «справщику», выученику иезуитов Арсению Греку: «Правь, Арсен, хоть как, лишь бы не по-старому». И там, где в богослужебных книгах ранее было написано «отроки» – стало «дети», где было написано «дети» – стало «отроки»; где была «церковь» – стал «храм», где «храм» – там «церковь»… Появились и такие откровенные нелепости, как «сияние шума», «уразуметь очесы (т.е. очами – К. К.)», «видеть перстом», «крестообразные Моисеевы руки», не говоря уже о вставленной в чин крещения молитве «духу лукавому». Удивительный перевод! Но удивление исчезает, когда начинаешь сличать переводы с подлинниками. Оказывается, все венецианские и парижские издания греческих богослужебных книг, по которым и проводилась никоновская «справа», в текстуальном отношении весьма сильно разнятся между собой. При этом разница между изданиями может состоять не только в нескольких строках, но иногда в странице, двух и больше…
Со временем стало ясно, что Никон хочет не просто исправления каких-то погрешностей переписчиков, а изменения всех старых русских церковных чинов и обрядов в соответствии с новыми греческими. «Трагедия расколотворческой реформы в том и состояла, что была предпринята попытка „править прямое по кривому“, провозгласив содержавшие погрешности формы религиозного культа позднейшего времени древнейшими, единственно верными и единственно возможными, а всякое отклонение от них – злом и ересью, подлежащей насильственному уничтожению»2.
И действительно, изменений было множество. Достаточно перечислить лишь некоторые, наиболее важные с точки зрения православного вероучения:
1. Двоеперстие, древняя, унаследованная от апостольских времен, форма перстосложения при крестном знамении, было названо «арменскою ересью» и заменено на троеперстие. В качестве священнического перстосложения для благословения была введена так называемая малакса, или именословное перстосложение. В толковании двоеперстного крестного знамения два протянутых перста означают две природы Христа (Божественную и человеческую), а три (пятый, четвертый и первый), сложенных у ладони, – Святую Троицу. Введя троеперстие (означающее только Троицу), Никон не только пренебрегал догматом о Богочеловечестве Христа, но и вводил «богострастную» ересь (то есть, по сути, утверждал, что на кресте страдала не только человеческая природа Христа, а вся Святая Троица). Это новшество, введенное в Русской Церкви Никоном, было очень серьезным догматическим искажением, поскольку крестное знамение во все времена являлось для православных христиан видимым Символом веры. Истинность и древность двоеперстного сложения подтверждается многими свидетельствами. К ним относятся и древние изображения, дошедшие до нашего времени (например, фреска III века из Усыпальницы Святой Прискиллы в Риме, мозаика IV века с изображением Чудесного лова из церкви Святого Аполлинария в Риме, писанное изображение Благовещения из церкви Святой Марии в Риме, датируемое V веком); и многочисленные русские и греческие иконы Спасителя, Божией Матери и святых угодников, чудесно явленные и древлеписанные (все они подробно перечисляются в фундаментальном старообрядческом богословском труде «Поморские ответы»); и древний чин принятия от ереси ияковитов, который, по свидетельству Константинопольского собора 1029 года, Греческая Церковь содержала еще в XI веке: «Иже не крестит двема перстома, яко Христос, да будет проклят»; и древние книги – Иосифа, архимандрита Спасского Нового монастыря, келейный Псалтырь Кирила Новоезерского, в греческом оригинале книги Никона Черногорца и прочие: «Аще кто не знаменуется двема персты, якоже Христос, да будет проклят»3; и обычай Русской Церкви, принятый при Крещении Руси от греков и не прерывавшийся вплоть до времен патриарха Никона. Этот обычай был соборно подтвержден в Русской Церкви на Стоглавом соборе в 1551 году: «Аще кто двема персты не благословляет, якоже Христос, или не воображает двема персты крестнаго знамения; да будет проклят, якоже Святии Отцы рекоша». Кроме сказанного выше, свидетельством того, что двуперстное крестное знамение является преданием древней Вселенской Церкви (а не только Русской поместной), служит и текст греческой Кормчей, где написано следующее: «Древние христиане иначе слагали персты для изображения на себе креста, чем нынешние, то есть изображали его двумя перстами – средним и указательным, как говорит Петр Дамаскин. Вся рука, говорит Петр, означает единую ипостась Христа, а два перста – два естества Его». Что касается троеперстия, то ни в каких древних памятниках до сих пор не найдено ни одного свидетельства в его пользу.
2. Были отменены принятые в дораскольной Церкви земные поклоны, являющиеся несомненным церковным преданием, установленным Самим Христом, о чем есть свидетельство в Евангелии (Христос молился в Гефсиманском саду, «пад на лице Свое», то есть делал земные поклоны) и в святоотеческих творениях. Отмена земных поклонов была воспринята как возрождение древней ереси непоклонников, поскольку земные поклоны вообще и, в частности, совершаемые в Великий пост являются видимым знаком почитания Бога и Его святых, а также видимым знаком глубокого покаяния. В предисловии к Псалтырю 1646 года издания говорилось: «Проклято бо есть сие, и с еретики отвержено таковое злочестие, еже не творити поклонов до земли, в молитвах наших к Богу, в церкви во уреченныя дни. Тако же о сем, и не не указахом от устава святых отец, зане во мнозех вкоренися таковое нечестие и ересь, еже коленное непрекланяние, во Святыи Великии пост, и не может убо слышати всяк благочестивый, иже соборныя церкви апостольския сын. Таковаго нечестия и ереси, ни же буди в нас таковое зло в православных, яко же глаголют святии отцы»4.
3. Трисоставный восьмиконечный крест, который издревле на Руси был главным символом православия, заменен двусоставным четырехконечным, ассоциировавшимся в сознании православных людей с католическим учением и называвшимся «латинским (или ляцким) крыжом». После начала реформы восьмиконечный крест изгонялся из церкви. О ненависти к нему реформаторов говорит тот факт, что один из видных деятелей новой церкви – митрополит Димитрий Ростовский – называл его в своих сочинениях «брынским», или «раскольническим». Только с конца XIX века восьмиконечный крест начал постепенно возвращаться в новообрядческие церкви.
4. Молитвенный возглас – ангельская песнь «аллилуйя» – стал четвериться у никониан, поскольку они поют трижды «аллилуйя» и четвертое, равнозначное, «Слава Тебе, Боже». Тем самым нарушается священная троичность. При этом древняя «сугубая (то есть двойная) аллилуйя» была объявлена реформаторами «богомерзкою македониевой ересью».
5. В исповедании православной веры – Символе веры, молитве, перечисляющей основные догматы христианства, из слов «в Духа Святаго Господа истиннаго и животворящаго» изъято слово «истиннаго» и тем поставлена под сомнение истинность Третьего Лица Святой Троицы. Перевод слова «το Κύριον», стоящего в греческом оригинале Символа веры может быть двояким: и «Господа», и «истиннаго». Старый перевод Символа включал в себя оба варианта, подчеркивая равночестность Святаго Духа с другими лицами Святой Троицы. И это нисколько не противоречит православному учению. Неоправданное же изъятие слова «истиннаго» разрушало симметрию, жертвуя смыслом ради буквального калькирования греческого текста. И это у многих вызвало справедливое возмущение. Из сочетания «рожденна, а не сотворенна» выброшен союз «а» – тот самый «аз», за который многие готовы были идти на костер. Исключение «а» могло мыслиться как выражение сомнения в нетварной природе Христа. Вместо прежнего утверждения «Его же царствию несть (то есть нет) конца», введено «не будет конца», то есть бесконечность Царствия Божия оказывается отнесенной к будущему и тем самым ограниченной во времени. Изменения в Символе веры, освященном многовековой историей, воспринимались особенно болезненно. И так было не только в России с ее пресловутым «обрядоверием», «буквализмом» и «богословским невежеством». Здесь можно вспомнить классический пример из византийского богословия – историю с одной только измененной «йотой», внесенной арианами в термин «единосущный» (греческое «омоусиос») и превратившей его в «подобосущный» (греческое «омиусиос»). Это искажало учение святого Афанасия Александрийского, закрепленное авторитетом Первого Никейского Собора, о соотношении сущности Отца и Сына. Именно поэтому Вселенские Соборы запретили под страхом анафемы любые, даже самые незначительные перемены в Символе Веры.
6. В никоновских книгах было изменено само написание имени Христа: вместо прежнего Исус, встречающегося до сих пор и у других славянских народов, было введено Иисус, причем единственно правильной была объявлена исключительно вторая форма, что возводилось новообрядческими богословами в догмат. Так, по кощунственному толкованию митрополита Димитрия Ростовского, дореформенное написание имени «Исус» в переводе якобы означает «равноухий», «чудовищное и ничего не значащее»5.
7. Была изменена форма Исусовой молитвы, имеющей согласно православному учению особую мистическую силу. Вместо слов «Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго» реформаторы постановили читать «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешнаго». Исусова молитва в ее дониконовском варианте считалась молитвой вселенской (универсальной) и вечной как основанная на евангельских текстах, как первое апостольское исповедание, на котором Исус Христос создал Свою Церковь6. Она постепенно вошла во всеобщее употребление и даже в Устав церковный. Указания на нее есть у святых Ефрема и Исаака Сирина, святого Исихия, святых Варсонофия и Иоанна, святого Иоанна Лествичника. Святитель Иоанн Златоуст говорит о ней так: «Умоляю вас, братие, никогда не нарушайте и не презирайте молитвы сей». Однако реформаторы выбросили эту молитву из всех богослужебных книг и под угрозой анафем воспретили ее произносить «в церковном пении и в общих собраниях». Ее стали называть потом «раскольнической».
8. Во время крестных ходов, таинств крещения и венчания новообрядцы стали ходить против солнца, в то время как, согласно церковному преданию, это полагалось делать по солнцу (посолонь) – вслед за Солнцем-Христом. Здесь нужно отметить, что подобный ритуал хождения против солнца практиковался у разных народов в ряде вредоносных магических культов.
9. При крещении младенцев новообрядцы стали допускать и даже оправдывать обливание и окропление водой, вопреки апостольским постановлениям о необходимости крещения в три погружения (50-е правило Святых Апостол). В связи с этим был изменен чиноприем католиков и протестантов. Если по древним церковным канонам, подтвержденным Собором 1620 года, бывшем при патриархе Филарете, католиков и протестантов требовалось крестить с полным троекратным погружением, то теперь они принимались в господствующую церковь только через миропомазание.
10. Литургию новообрядцы стали служить на пяти просфорах, утверждая, что иначе «не может быти сущее тело и кровь Христовы» (по старым Служебникам полагалось служить на семи просфорах).
11. В церквях Никон приказал ломать «амбоны» и строить «рундуки», то есть была изменена форма амвона (предалтарного возвышения), каждая часть которого имела определенный символический смысл. В дониконовской традиции четыре амвонных столба означали четыре Евангелия, если был один столб – он означал камень, отваленный ангелом от пещеры с телом Христа. Никоновские пять столбов стали символизировать папу и пять патриархов, что содержит в себе явную латинскую ересь.
12. Белый клобук русских иерархов – символ чистоты и святости русского духовенства, выделявший их среди вселенских патриархов, – был заменен Никоном на «рогатую колпашную камилавку» греков. В глазах русских благочестивых людей «клобуцы рогатые» были скомпрометированы тем, что не раз обличались в ряде полемических сочинений против латинян (например, в рассказе о Петре Гугнивом, входившем в состав Палеи, Кириловой книги и макарьевских Четь Миней). Вообще при Никоне произошла перемена всей одежды русского духовенства по новогреческому образцу (в свою очередь, подвергшемуся сильному влиянию со стороны турецкой моды – широкие рукава ряс наподобие восточных халатов и камилавки наподобие турецких фесок). По свидетельству Павла Алеппского, вслед за Никоном пожелали переменить свои одеяния многие архиереи и монахи. «Многие из них приходили к нашему учителю (патриарху Антиохийскому Макарию. – К. К.) и просили его подарить им камилавку и клобук… Кому удалось приобрести их и на кого возложил их патриарх Никон или наш, у тех лица открылись и сияли. По этому случаю они наперерыв друг перед другом стали заказывать для себя камилавки из черного сукна по той самой форме, которая была у нас и у греческих монахов, а клобуки делали из черного шелка. Они плевали перед нами на свои старые клобуки, сбрасывая их с головы и говорили: „Если бы это греческое одеяние не было божественного происхождения, не надел бы его первым наш патриарх“»7. По поводу этого безумного оплевания своей родной старины и низкопоклонства перед иностранными обычаями и порядками протопоп Аввакум писал: «Ох, ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев!» и призывал царя Алексея Михайловича: «Воздохни-тко по-старому, как при Стефане, бывало, добренько, и рцы по русскому языку: „Господи, помилуй мя грешнаго!“ А кирелеисон-от8 отставь; так елленя говорят; плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чево же нам хощется лучше тово? Разве языка ангельска? Да нет, ныне не дадут, до общаго воскресения»9.
13. Была изменена древняя форма архиерейских посохов. По этому поводу протопоп Аввакум с негодованием писал: «Да он де же, зломудренный Никон, завел в нашей Росии со единомысленники своими самое худое и небогоугодное дело – вместо жезла святителя Петра чюдотворца доспел внов святительския жезлы с проклятыми змиями погубльшими прадеда нашего Адама и весь мир, юже сам Господь проклял от всех скотов и от всех зверей земных. И ныне они тую проклятую змию освящают и почитают паче всех скотов и зверей и вносят ея во святилище Божие, во олтарь и в царския двери, яко некое освящение и всю церковную службу с теми жезлами и с проклятыми змиями соделанными действуют и везде, яко некое драгоценное сокровище, пред лицем своим на оказание всему миру тех змей носити повелевают, ими же образуют потребление православныя веры»10.
14. Вместо древнего пения было введено новое – сначала польско-малороссийское, а затем итальянское. Новые иконы стали писать не по древним образцам, а по западным, отчего они стали более похожими на светские картины, чем на иконы. Все это способствовало культивированию в верующих нездоровой чувственности и экзальтации, ранее не свойственной православию. Постепенно древнее иконописание было сплошь вытеснено салонной религиозной живописью, раболепно и неискусно подражавшей западным образцам и носившей громкое наименование «икон итальянского стиля» или «в итальянском вкусе», о которой старообрядческий богослов Андрей Денисов так отзывался в «Поморских ответах»: «Нынешние же живописцы, тое (то есть апостольское. – К. К.) священное предание изменивше, пишут иконы не от древних подобий святых чюдотворных икон греческих и российских, но от своеразсудительнаго смышления: вид плоти одебелевают (утолщают), и в прочих начертаниих не подобно древним святым иконам имеюще, но подобно латинским и прочим, иже в Библиях напечатаны и на полотнах малиованы. Сия живописательная новоиздания раждают нам сомнения…»11 Еще более резко характеризует подобного рода религиозную живопись протопоп Аввакум: «По попущению Божию умножися в нашей русской земли иконнаго писма неподобнаго изуграфы… Пишут Спасов образ Еммануила; лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу: понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя… А Богородицу чревату в Благовещение, яко же и фрязи поганыя. А Христа на кресте раздутова: толстехунек миленькой стоит, и ноги-те у него, что стулчики»12.
15. Были допущены браки с иноверцами и лицами, состоящими в запрещенных Церковью степенях родства.
16. В новообрядческой церкви был отменен древний обычай избрания духовных лиц приходом. Его заменили постановлением по назначению сверху.
17. Наконец, впоследствии новообрядцы уничтожили древнее каноническое церковное устройство и признали светскую власть главой церкви – по образцу протестантских церквей.
Были и другие новшества, которые со временем все более умножались. Так, если в «Поморских ответах» (начало XVIII в.) перечисляется 58 статей, по которым реформированная новообрядческая церковь отличалась от древлеправославной, то к концу XVIII столетия в старообрядческом трактате «Щит веры» перечисляется уже 131 вид изменений! Новшества росли, словно снежный ком. При этом многие древние чинопоследования церковных таинств были существенно сокращены и изменены (чин крещения, покаяния, венчания, хиротоний), а некоторые древние чины и вовсе упразднены (чин омовения трапезы, омовения святых мощей, причащения богоявленской водой, пострижения инокини, братотворения, чин «хотящему затворитися», чины пещного действа, начала индикта). Одновременно вводились новые, неизвестные православию чинопоследования, заимствованные из Требника митрополита Киевского Петра Могилы, образцом для которого, в свою очередь, послужили католические требники.
Но самое главное – это изменение в духе Церкви. После Никона новообрядческая церковь утратила дух соборности, подпала под власть государства и вынуждена была прогибаться при каждой новой смене правительства, изменяя при этом и приспосабливая к новым веяниям свое учение – вплоть до наших дней. Наподобие католической церкви, новообрядческая церковь разделяется на «церковь учащую» и «церковь учимую». Согласно позднейшему богословию новообрядческой церкви, истинная церковь – это иерархия, епископы и священники, а народ – ничто в церкви, и его дело – беспрекословно подчиняться решениям иерархии, даже если они противоречат духу Христовой веры. Ни о какой выборности священства и епископата, как было в древней Церкви, и речи быть не могло. Все это способствовало появлению в русском народе лжепослушания и лжесмирения. Далее появились и еще более отвратительные явления в жизни церкви: совершение таинств за деньги, нарушение тайны исповеди (что прямо предписывалось «главой церкви» – императором Петром I), совершение таинств над людьми неверующими, приходящими креститься и венчаться «по традиции» или «на всякий случай», коммерциализация и секуляризация церкви…
Чем же руководствовались Никон и стоявший за его спиной царь, предпринимая столь неслыханные по своему масштабу реформы? Что толкало их к такому решительному разрыву со всей прежней богослужебной традицией, освященной авторитетом многочисленных русских святых? Соображения, которыми руководствовались реформаторы, были исключительно политическими и к духовной жизни никакого отношения не имели. Перед прельщенными взорами царя и патриарха заманчиво блистал цареградский венец. И тот и другой грезили об освобождении Константинополя от турок и о византийском престоле. Льстивые восточные патриархи распускали перед ними павлиньи веера, рисуя картины земного торжества православия, обещая им восстание порабощенных греков в ответ на объявление Россией войны турецкому султану. Русский царь должен был занять престол Константина Великого, а московский патриарх Никон – стать вселенским патриархом. Но для достижения территориального единства православных народов требовалась лишь одна незначительная «мелочь»: сначала надо было прийти к единству обрядовому, поскольку русские обряды того времени сильно отличались от греческих.
«Царь Алексей Михайлович, воспитавшийся в грекофильских воззрениях, был искренним, убежденным грекофилом. Вместе со своим уважаемым духовником, – благовещенским протопопом Стефаном Вонифатьевичем, он пришел к мысли о необходимости полного единения во всем русской церкви с тогдашнею греческою и уже ранее патриаршества Никона… предпринял ряд мер для осуществления этой мысли, которой он остался верен до конца своей жизни. Сам Никон как реформатор – грекофил был, в значительной степени, созданием царя Алексея Михайловича и, сделавшись благодаря ему патриархом, должен был осуществлять в свое патриаршество мысль государя о полном единении русской церкви с тогдашнею греческою, причем царь оказывал ему в этом деле постоянную, необходимую поддержку. Без энергичной и постоянной поддержки государя одному Никону, только своею патриаршею властию, провести свои церковные грекофильские реформы было бы решительно невозможно»13.
Другой причиной являлось то, что после воссоединения Украины с Россией (1654) возникла необходимость в создании единой нормы богослужения и богослужебного языка (южнорусский, киевский извод славянского языка значительно отличался от московского извода). Грекофильская ориентация царя и патриарха привела Русскую Церковь к принятию не московской нормы богослужения (наиболее близкой к ранневизантийской), а южнорусской, в большей степени соответствовавшей греческим текстам и традициям XVII в. Здесь следует сказать, что на Украине реформа, аналогичная никоновской, была проведена на 50 лет ранее вышеназванным митрополитом Петром Могилой и привела к тому, что киевское богословие и богослужение оказались сильно заражены католическим влиянием.
Поразительно, но сценарий никоновских реформ мы находим еще в 1605 году! В тайной инструкции самозванцу Лжедмитрию I о том, как ввести унию с католиками в России, то есть, по сути, подчинить русских власти римского папы, иезуиты писали:
«д) Самому государю заговаривать об унии редко и осторожно, чтоб не от него началось дело, а пусть сами русские первые предложат о некоторых неважных предметах веры (курсив мой – К. К.), требующих преобразования, и тем проложат путь к унии;
е) издать закон, чтобы в Церкви Русской все подведено было под правила соборов отцов греческих, и поручить исполнение закона людям благонадежным, приверженцам унии: возникнут споры, дойдут до государя, он назначит собор, а там можно будет приступить и к унии;
з) намекнуть черному духовенству о льготах, белому о наградах, народу о свободе, всем – о рабстве греков;
и) учредить семинарии, для чего призвать из-за границы людей ученых, хотя светских»14.
Что ж, политика иезуитов в царствование Алексея Михайловича увенчалась успехом. И этим было убито сразу два зайца. С одной стороны, втянувшись в «греческий проект», Россия отвлекла на себя внимание турок, чьи владения подходили почти к самой Вене (находящейся как раз в центре Европы, на полпути между Константинополем и Па-де-Кале), и тем самым в очередной раз невольно спасла жизнь европейской цивилизации. А с другой стороны, европейцы значительно ослабили своего давнего конкурента: Россия была расчленена – если пока не физически, то духовно уж точно. Русская Церковь раскололась, причем та ее часть, которая приняла реформы и пользовалась поддержкой правительства, на столетия заразилась духом латинства, а впоследствии – и протестантизма, усвоив многие западные обычаи и догматы.
Но, к счастью, была и другая часть Русской Церкви, получившая у историков название «старообрядцев». Что и говорить, название неточное – оно сводит все различия между сторонниками и противниками никоновских реформ исключительно к обрядовым, «внешним», как бы второстепенным. Но, во-первых, само слово «обряд» в данном значении пóзднее, оно введено уже в петровскую эпоху, прочно вошло в обиход господствующей церкви из протестантского богословия, а ранее на Руси не употреблялось. Это слово – не церковное. Древность знает понятия «таинство», «чин» или «последование», но не знает слова «обряд». Во-вторых, для православного сознания вообще не характерно разделение на «внешнее» и «внутреннее» и их противопоставление. Главный христианский догмат о Боговоплощении как раз и говорит о непостижимом («нераздельном и неслиянном») соединении во Христе двух природ – Божественной и человеческой. А потому не человеческого это ума дело: выделять в таинствах внешнее, якобы не важное, несущественное, и внутреннее – существенное. Изменение формы всегда ведет к изменению содержания. Эта истина давно доказана философами. Следовательно, более правильным было бы самоназвание, которое взяли себе последователи древлего благочестия: «староверы».
Основная сложность при анализе староверия состоит в том, что любая попытка дать определение тому духовному движению, которое противостояло реформаторам, будет неизбежно нести на себе следы той или иной идеологической позиции. Так, например, вплоть до начала XX в. во всей литературе, издаваемой синодальной церковью, церковные и светские ученые для обозначения старообрядчества использовали термин «раскол», а старообрядцев иначе как «раскольниками» и не называли. О старообрядцах говорили как об «отделившихся», «отколовшихся» от Русской Православной Церкви, подразумевая под словом «церковь» исключительно ту часть русского общества, которая приняла навязанные сверху реформы. Подобные же определения, как правило, повторяются и во всех современных религиоведческих исследованиях и справочных изданиях.
Однако данные определения противоречат важнейшим положениям старообрядческой религиозной доктрины, согласно которой старообрядчество никогда не отделялось от Православной Церкви и, как ее часть, возникло в I в. н. э. вместе с основанием христианства. Противоречат они и простой логике. Известный старообрядческий деятель В. Г. Сенатов справедливо писал: «Не при Никоне патриархе оно (старообрядчество. – К. К.) возникло и окрепло, а раньше его, так что изначальный момент старообрядчества должен быть отодвинут в глубь веков, он простирается в страшную историческую даль, доходит до самых цветущих времен восточной церкви и апостольского века. Раньше же Никона старообрядчество развивалось в удивительно пышный цвет, оно торжествовало на Стоглавом соборе, его исконным представителем является митрополит Макарий, его исповедовали и князья, и цари московские, и целые сонмы русских святых, оно именно было господствующим исповеданием на русской земле до Никона патриарха, воспитавшегося в нем же и имевшего силу изменить ему. При Никоне патриархе старообрядчество не началось, не зародилось, а было смещено, заменено чем-то иным, новым, старообрядчество же раскидано было по всей русской земле. То, что обыкновенно называют старообрядчеством, или расколом, в сущности есть не что иное, как часть некогда великой и цветущей церкви, искони живой, растущей, одухотворенной»15.
Так что гораздо корректнее и логичнее говорить не об отделении старообрядчества от Православной Церкви, а о разделении некогда единой Православной Церкви и об отходе от нее – как в учении, так и в практике – новообрядчества.
Современному человеку может показаться странной такая преданность вере, желание умереть за «единый аз». Но не будем мерить других людей своим аршином. Если мы чего-то не понимаем, в этом, скорее, наша слабость, а не преимущество. Вспомним о том, что в Древней Руси человек жил в атмосфере религиозности и что монастырский уклад жизни был принят в каждой благочестивой семье. Часы отсчитывали по церковным службам: заутреня, обедня, вечерня, павечерница.
Вот как описывает обычный распорядок дня русского человека в XVI—XVII вв. историк Н. И. Костомаров: «Предки наши, как знатные, так и простые, вставали рано: летом с восходом солнца, осенью и зимою за несколько часов до света. В старину счет часов был восточный, заимствованный из Византии вместе с церковными книгами. Сутки делились на дневные и ночные часы; час солнечного восхода был первым часом дня; час заката – первым часом ночи… На исходе ночи отправлялась заутреня; богослужебные часы: первый, третий, шестой и девятый знаменовали равноименные денные часы, а вечерня – окончание дня. Русские согласовали свой домашний образ жизни с богослужебным порядком, и в этом отношении делали его похожим на монашеский…
Вставая от сна, русский тотчас искал глазами óбраза, чтоб перекреститься и взглянуть на него; сделать крестное знамение считалось приличнее, смотря на образ; в дороге, когда русский ночевал в поле, он, вставая от сна, крестился, обращаясь на восток… После омовений и умываний одевались и приступали к молению.
Если день был праздничный, тогда шли к заутрене, и благочестие требовало, чтоб встать еще ранее и прийти в церковь со звоном еще до начала служения утрени. Если же день был простой или почему-нибудь нельзя было выходить, хозяин совершал должное богослужение по книге, когда умел грамоте (или молился поклонами по лестовке, когда не умел. – К. К.).
В комнате, назначенной для моления, – крестовой – или когда ее не было в доме, то в той, где стояло побольше образов, собиралась вся семья и прислуга: зажигались лампады и свечи; курили ладаном. Хозяин, как домовладыка, читал пред всеми вслух утренние молитвы; иногда читались таким образом заутреня и часы, смотря по степени досуга, уменья и благочестия; умевшие петь, пели. У знатных особ, у которых были свои домашние церкви и домовые священнослужители, семья сходилась в церковь, где молитвы, заутреню и часы служил священник, а пел дьячок, смотревший за церковью или часовнею, и после утреннего богослужения священник кропил святою водою.
Окончив молитвословие, погашали свечи, задергивали пелены на образах, и все расходились к домашним занятиям…
Приступая к началу дневного занятия, будь то приказное писательство или черная работа, русский считал приличным вымыть руки, сделать пред образом три крестных знамения с земными поклонами, а если предстоит случай или возможность, то принять благословение священника…
После ужина благочестивый хозяин отправлял вечернее моление. Снова затепливались лампады, зажигались свечи пред образами; домочадцы и прислуга собирались на моление. После такого молитвословия считалось уже непозволительным есть и пить; все скоро ложились спать. Сколько-нибудь зажиточные супруги имели всегда особые покои с тою целью, чтоб не спать вместе в ночи пред господскими праздниками, воскресеньями, средами и пятками и в посты. В эти ночи благочестивые люди вставали и тайно молились пред образами в спальнях; ночная молитва считалась приятнее Богу, чем дневная: «тогда бо нощию ум ти есть легчае к Богу и могут тя убо на покаяние обратити нощныя молитвы паче твоих дневных молеб… и паче дневных молеб приклонить ухо свое Господь в нощныя молитвы»»16.
Свободное время посвящали молитве или чтению духовных книг – Житий святых, Прологов, Златоустов и Маргаритов. Грамоте учились по Часовнику и Псалтырю – этому поистине неисчерпаемому кладезю мудрости и «общедоступной лечебнице». Идеалом русского человека были подвиги аскетов-пустынножителей, с которыми он знакомился из Прологов и Патериков. Со времен Крещения Руси и до конца XVII в. Пролог, заключавший в себе краткие жития святых и избранные поучения на каждый день года, был любимым чтением русских людей от царя до крестьянина. На старости лет, выполнив свои мирские обязанности и вырастив детей, многие принимали иноческий постриг. Не были исключением и лица знатные, в том числе даже члены царского дома.
Как бы то ни было, трещина в русском обществе XVII в., разделившая его на старообрядцев и новообрядцев, проходила гораздо глубже собственно обрядовых различий, сколь бы ни были они важны в средневековой картине мира. «Смысл раскола сосредотачивался вокруг реформ Никона, связанных с исправлением книг религиозного содержания и изменением некоторых обрядов. Однако эти конкретные факты, случись они раньше или позже, могли бы оказаться незамеченными. Значит, в них проявилось нечто большее, а именно, столкнулись две традиции в понимании веры и в видении церкви, а следовательно, две картины мира, которые культурному канону в его средневековом варианте удавалось примирять. То, что раскол имел такой общественный резонанс, означает, что на новом витке истории, когда не только государство, но и вся русская цивилизация переживала надлом, когда в этой цивилизации становится предельно активной личность, притягательной оказывается традиция в русском православии, являющаяся демократической (то есть старообрядчество. – К.К.). Если проводить параллели с XX веком, то, по сути дела, уже в XVII веке Россия переживала нечто, предвосхищающее революцию начала нашего столетия и последующую за ней гражданскую войну, сопровождавшуюся истреблением огромной массы соотечественников, изгнанием их в другие страны, переселением на другие территории»17.
С никоновскими реформами, готовившими путь последующим преобразованиям Петра I, жизнь русского человека сильно изменилась. Началась десакрализация культуры, десакрализация жизни. Под воздействием западной культуры происходит обособление русской культуры от церкви (секуляризация, обмирщение) и превращение светской, обмирщенной культуры в автономную область. Это повлекло за собой расслоение русского общества. Если раньше русское общество (при всех различиях в социальном положении) в культурно-религиозном отношении было однородным, то западное влияние, по словам историка В. О. Ключевского, разрушило эту нравственную цельность: русское общество, не одинаково проникаясь западными влияниями, раскололось наподобие неравномерно нагреваемого стекла.
Со времен раскола и последовавших за ним петровских преобразований в России по сути дела возникли две культуры: светская – прозападно ориентированная, укоренившаяся в центре культурной и общественной жизни, и религиозная – ориентированная национально, ушедшая на периферию национально-исторического развития. Когда говорят о русской культуре XVIII—XX вв., то подразумевают преимущественно первую культуру, лишь вскользь упоминая о второй или вообще о ней не упоминая. Русский мыслитель Г. П. Федотов стоявший на позициях официальной церкви, писал: «Вместе с расколом большая, хотя и узкая, религиозная сила ушла из Русской Церкви, вторично обескровливая ее… 0 (ноль) святости в последнюю четверть XVII века – юность Петра – говорит об омертвении русской жизни, душа которой отлетела»18. Все сказанное всецело относится к господствующей церкви, в которой за двести лет, прошедших с Петра I до восшествия на престол Николая II, официально было канонизировано всего четыре человека, причем все четыре – епископы, представители высшей церковной власти! Более того, имели место многочисленные случаи деканонизации старых русских святых. Достаточно вспомнить о том, что по указу сверху были деканонизированы святая благоверная княгиня Анна Кашинская (ее нетленные мощи служили неопровержимым аргументом в пользу двуперстия), преподобный Евфросин Псковский (в его Житии содержалось предание о «сугубой», двойной аллилуйе), преподобный Евфимий Архангелогородский (деканонизирован в 1683 г. за двуперстное сложение, с которым он изображался на иконах, и за «большую бороду» – один из внешних признаков старообрядцев), преподобный Максим Грек, преподобный Георгий (Шенкурский чудотворец), блаженный Симон Юрьевецкий. Были прекращены службы святому Нифонту, архиепископу Новгородскому, виленским святым мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию… Список можно продолжать. Свои действия реформаторы объясняли так: «Глупы наши святые были и грамоте не умели», видимо всерьез полагая, что святость напрямую зависит от учености…
Что касается старообрядчества, то мы видим, что с конца XVII века в нем начинается самый настоящий расцвет святости, причем святости несомненной. Мы встречаемся здесь с такими подвигами исповедничества и мученичества за веру, какие можем встретить разве что в первые века христианства, во времена жесточайших гонений на христиан, организованных языческими императорами. Мученическая смерть за веру всегда почиталась высшим христианским подвигом и даже вменялась в таинство крещения, если пострадавший за веру еще не был крещен («крещение кровью»). Как известно, первыми русскими святыми стали именно князья-мученики Борис и Глеб, причем их всенародное почитание предупредило церковную канонизацию. Вполне естественно, что в сознании старообрядцев подвиг стояния за освященные веками церковные предания уравнивал новых страдальцев с древними. Так, например, дьякон Феодор в своем Послании из Пустозерска сыну Максиму и «прочим сродникам и братьям по вере» писал о своих соузниках: «Подвижники они и страстотерпцы великие, и стражют от никониян за церковные законы святых отец доблестные, и терпении их и скорби всякие многолетные болши первых мучеников мнится мне воистину».
Вместе с тем, для старообрядцев кровь новых мучеников, пролитая за Христа, не только приравнивала их к первым христианам, но и служила верным доказательством сохранения старообрядцами истинной православной веры: «Блаженна еси, земле Российская, на конец веков обагрившаяся мученическою многоговейною кровию, честнейшею паче Авелевы, славнейшею паче Науфеевы, святейшею паче Захариины. Сии бо пресвятии страдальцы исполниша лишение скорбей Христовых в плоти своей (по апостолу – К. К.), коих бо ран не понесоша, коих болезней не претерпеша, коих страстей не подъяша! Древнии бо мученицы различныя терпяху болезни, яже во узах и темницах, яже во алчбе и жажди, яже во огни и дыме, яже во мразе и воде, яже на колах и крестех, яже в конобех (котлах – К. К.) и на сковрадах. Но и сии пресветлии венечницы всеми виды горчайших мучений не сравниша ли ся древним страдальцем, новии сии страстотерпцы? Ей, сравнишася! Не тыяжде ли проидоша муки и страсти? Воистинну тыяжде. Не теми же ли скончашася смертьми? Ей, воистинну теми же. Темже и славу получиша туюжде, и венцы прияша тыя же, и царство наследоваша то же»19.
Невольно оказавшись на периферии магистрального развития русской культуры, та часть русского народа, которая не приняла никоновско-петровской реформации и получила у историков название «старообрядцев», а у своих гонителей – презрительную кличку «раскольников», чудесным образом сумела сохранить прежний духовный идеал, вдохновлявший наших предков со времен Крещения Руси, и пронести его сквозь века до начала третьего тысячелетия. Это была самая убежденная часть русского народа – «последние верующие», как метко назвал их философ В. В. Розанов.
Однако две культуры, образовавшиеся в России после церковной реформации, несмотря на резкое расхождение между собой, никогда не были абсолютно изолированы друг от друга, и мы имеем многочисленные примеры их взаимовлияния. Староверы всегда представляли собой мощную силу, с которой власти не могли не считаться. Немецкий путешественник барон Август Гакстхаузен, посетивший Россию в середине XIX в., писал: «Староверы имеют большое нравственное влияние на Россию и на правительство. При каждом новом законе, в вопросах церкви, внутренней политики, при предположениях каких-либо улучшений или изменений, – всегда ставится втайне вопрос: что скажут на это староверы?»20 Что уж говорить о широких массах простого русского народа, среди которого нравственный авторитет староверия был необычайно велик! Недавно опубликованная рукопись знаменитого оптинского старца Амвросия, относящаяся к 1850-м гг., красноречиво свидетельствует об истинном масштабе влияния старообрядчества на духовную жизнь простого народа. Резко выступая против отмены правительственных репрессий и предоставления староверам свободы вероисповедания, Амвросий пишет, что в условиях свободы «число их (староверов. – К. К.) в один год удвоится, а в несколько лет умножится так, что из простого православного народа мало останется не поврежденных расколом»21.
А вот еще одно свидетельство. «Русская «мужичья» нация… продолжала жить своей, отличной от барской, религиозной жизнью, находившейся под сильным влиянием старообрядчества. Последнее считалось нередко какой-то высшей, более совершенной формой православия, что продолжалось и в XIX веке. Мужик говорил: «мы по церкви (т.е. принадлежим к господствующей церкви. – К. К.), люди мирские, суетные». Бывали случаи, что священника спрашивали: «а что, батюшка, не пора ли нам (при приближении старости) во святую-то веру (т. е. в старообрядчество) «»22. Таково было отношение простого русского народа к старой вере, к святой вере. В старообрядцах видели подлинно духовных учителей, всем своим образом жизни следовавших по пути, заповеданному Христом. Вопреки всем запретам и гонениям, практически не прекращавшимся со времен царя Алексея Михайловича, они стойко продолжали придерживаться веры своих отцов.
Так что не высохла река русской святости, не иссякла, но ушла в сокровенные глубины народные, продолжая во многом влиять на русскую жизнь. Недаром к середине XIX в. в защиту самобытности русской культуры выступили уже представители дворянского сословия – славянофилы. Недаром тогда же начался настоящий всплеск интереса среди «высших слоев» общества к национальному стилю в искусстве, интереса к национальной истории и культуре. Время разбрасывать камни прошло – наступило время собирать камни.
1
Кутузов Б. П. Церковная «реформа» XVII века как идеологическая диверсия. М., 2004. С. 5—6.
2
Шахов М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и социальная позиция. М., 2002. С. 87.
3
Стоглав. Собор, бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). 2-у изд., испр. СПб., 2002. С. 84.
4
Сборник. БАН. Собрание Дружинина. №162. Л. 32—33.
5
Димитрий Ростовский (Туптало). Розыск о раскольнической брынской вере. Изд. 5-е. М., 1855. С. 46.
6
«Пришед же Исус во страны Кесарии Филипповы, вопрошаше ученики Своя, глаголя: кого Мя глаголют человецы суща Сына Человеческаго? Они же реша: ови убо Иоанна Крестителя, инии же Илию, друзии же Иеремию, или единаго от пророк. Глагола им Исус: вы же кого Мя глаголете быти? Отвещав же Симон Петр, рече: Ты еси Христос Сын Бога Живаго. И отвещав Исус, рече ему: блажен еси Симоне, вар Иона, яко плоть и кровь не яви тебе, но Отец Мой, Иже на небесех. И Аз же тебе глаголю: яко ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою, и врата адова не удолеют ей» (Мф. 16, 13—18).
7
Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М., 2005. С. 484.
8
«Господи помилуй» (греч.).
9
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 159.
10
Список с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума // Памятники старообрядческой письменности. СПб., 2000. С. 330—331.
11
Поморские ответы. М., 2004. С. 183.
12
Житие протопопа Аввакума… С. 135—136.
13
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Том II. Сергиев Посад, 1912. С. 1—2.
14
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1996. Кн. 6. Т. 10. С. 93.
15
Сенатов В. Г. Философия истории старообрядчества. М., 1995.
16
Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях // Костомаров Н. И., Забелин И. Е. О жизни, быте и нравах русского народа. М., 1996. С. 72—76.
17
Хренов Н. А., Соколов К. Б. Художественная жизнь императорской России (субкультуры, картины мира, ментальность). СПб., 2001. С. 312.
18
Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 2003. С. 179.
19
Денисов С. Виноград Российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие. М., 1906. Л. 120.
20
Гакстхаузен А. Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России. Т. I. М., 1870. С. 234.
21
Амвросий (Гренков). Веротерпимость // Древлеправославный вестник, 1998. №1.
22
Рябушинский В. П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Русский хозяин. Статьи об иконе. Москва – Иерусалим, 1994. С. 52.