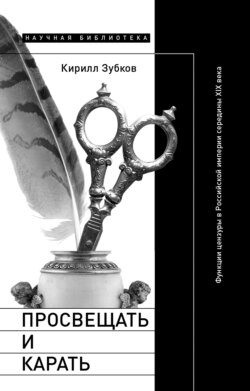Читать книгу Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века - Кирилл Зубков - Страница 15
Часть 1. Гончаров: писатель как цензор, цензор как писатель
Экскурс 2
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАН» И НОВАЯ ЦЕНЗУРА
КАК МИНИСТР ВАЛУЕВ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАЛ ПИСЕМСКОМУ
ОглавлениеВ январе 1867 года в Петербургском цензурном комитете обсуждалось несколько курьезное дело об известном писателе, заставлявшем цензоров рассмотреть свою не подлежавшую цензуре книгу. Писателем этим был А. Ф. Писемский, а книгой – роман «Взбаламученное море», который переиздавался в составе 4‐го тома «Сочинений» Писемского, печатаемых Ф. Т. Стелловским. Сам по себе этот эпизод не очень значителен и может быть объяснен исключительно мнительностью писателя, который едва ли чувствовал себя комфортно в месяцы, последовавшие после покушения Д. В. Каракозова на императора и закрытия «Современника» и «Русского слова». Однако если учесть своеобразную предысторию романа Писемского, то интересующий нас случай проливает свет не только на цензурную историю этого произведения, но и на взаимоотношения литераторов и цензоров в 1860‐е годы, когда Писемский, недовольный господством «нигилизма» в журналистике своего времени, при поддержке министра внутренних дел пытался повлиять на место института литературы в государственной жизни.
4 января цензор П. Г. Сватковский докладывал комитету:
Задача, решаемая этим романом, была, по словам автора, собрать всю ложь, которая высказывалась на различных степенях русской общественной и государственной жизни во время выхода крестьян из крепостной зависимости.
В начале романа автор представляет ложь в веселых благодетелях, в благочестии старой злой девы-помещицы, в прежнем офицерском блеске, в прежнем корпусном воспитании, в университетской молодежи, с ее эстетическим направлением, в страстности девушки с пансионским воспитанием, в помещичьем быте, в самой администрации, в бюрократии, суде, полиции, в положении богатых монополистов. Потом в новой эпохе с ее новыми учреждениями, в дворянах этого времени, гласности, обличителях, коммерческих предприятиях, воспитании с социалистическим направлением, материализме; вообще служении новой идеи (так!), нигилизме агитаторов и пр.
Так как роман этот был напечатан первый раз тотчас вслед за отменою крепостного права и в то время произвел на общество скорее хорошее влияние своим осмеиванием сумасбродства нигилистов и злоупотреблений отживших общественных порядков, то цензор полагал бы, с своей стороны, возможным дозволить напечатание этого романа вторым изданием без всяких перемен, несмотря на неуместную резкость и цинизм рассказа во многих местах романа. Таковая резкость и вольность речи составляют как бы характеристическую черту этого замечательного литературного произведения и самого времени, в которое явилось первое издание [и которому этот роман служит литературным памятником].
Но имея в виду, что сам автор, несмотря на 30-тилистовой объем романа, не желает принять на себя ответственность второго издания своего сочинения и усиленно навязывает его предварительной цензуре, а также и то, что в романе отзывается развитие именно тех уродливых явлений общественной жизни, которые привели в своем движении к недавним весьма грустным событиям, то цензор считает долгом представить на благоусмотрение Комитета разрешение напечатать [без перемен] второе издание романа «Взбаламученное море»201.
Просьбу Писемского цензурный комитет не удовлетворил, а разбираться в тонкостях его позиции не стал, решив дело на формальных основаниях. Согласно новым правилам цензуры, введенным в 1865 году, издание сочинений Писемского от рассмотрения освобождалось, так что комитет отказался принимать какие бы то ни было решения: «Книга заключает в себе свыше десяти печатных листов и потому, по приказанию г. председателя комитета, выдана издателю для печатания оной без предварительной ценсуры»202.
К аргументам Сватковского мы вернемся позже, сейчас же обратимся к самой парадоксальной ситуации, когда романист упрашивал цензуру рассмотреть его уже разрешенный и уже напечатанный роман203. Чтобы понять, почему Писемский вел себя таким странным образом, потребуется обратиться к цензурной истории романа.
Впервые «Взбаламученное море» было опубликовано в 1863 году на страницах катковского «Русского вестника» и в том же году вышло отдельным изданием. «Русский вестник» рассматривался Московским цензурным комитетом, однако никаких упоминаний о романе Писемского в делах комитета за этот год отыскать не удалось204. Содержание этого произведения было достаточно рискованным: на страницах романа встречаются многочисленные эротические сцены, в том числе насилие барина над крестьянкой, описаны крестьянский бунт против власти помещиков и его жестокое подавление, катастрофические последствия крестьянской реформы, затрагиваются многие другие темы, едва ли приветствовавшиеся цензурой. Между тем роман не был даже вынесен на обсуждение цензурного комитета. Как мы уже убедились, цензор едва ли мог самостоятельно одобрить такое рискованное произведение.
Судя по всему, роман Писемского был напечатан благодаря вмешательству министра внутренних дел, недавно возглавившего цензурное ведомство. 7 октября 1863 года председатель Московского цензурного комитета М. П. Щербинин обратился к Валуеву с недоуменным письмом на французском языке. Согласно сообщению Щербинина, роман Писемского был разрешен для публикации в «Русском вестнике» вовсе не Московским цензурным комитетом, а В. Н. Бекетовым, петербургским цензором. Щербинин вопрошал министра, верить ли редакции журнала, которая утверждала, что разрешение Бекетова действительно и для отдельного издания205. По всей видимости, Валуев подтвердил мнение Каткова, и роман был разрешен: по крайней мере, никаких сведений о его цензурном прохождении более не известно.
Письмо Щербинина свидетельствует о совершенно ненормальном порядке рассмотрения романа. Согласно цензурному уставу 1828 года, действовавшему до середины 1860‐х годов, периодические издания пользовались исключительным правом: чтобы ускорить их выход в свет, цензор мог рассматривать их независимо от комитета; последний был обязан обсуждать только те материалы, которые цензор хотел запретить206. Соответственно, устав не предусматривал возможности, чтобы какое-либо произведение рассматривалось сотрудником другого цензурного комитета: такое вмешательство со стороны нарушило бы нормальное делопроизводство, а при публикации создало бы невозможную задержку на пересылку рукописи из города в город.
Нарушение нормального хода дел, допущенное цензурой в случае публикации романа Писемского, может объясняться только вмешательством министра внутренних дел: это ведомство было устроено так, что у разных цензурных комитетов не было общих руководителей, кроме Валуева. Назначение Бекетова на роль цензора свидетельствовало, похоже, о стремлении министра пропустить «Взбаламученное море». Валуев мог оперативно и конфиденциально давать распоряжения жившему и служившему в Петербурге, а не в Москве Бекетову и разрешать спорные вопросы, но главное – Бекетов имел репутацию цензора либерального. Умеренный либерализм занимавшего такую должность человека вызывал в писательских кругах иронию207, однако Бекетов за свою карьеру действительно принял несколько смелых решений. Так, в 1856 году он разрешил перепечатку стихотворений Некрасова в «Современнике» и едва не был за это уволен (см. экскурс 1), а вскоре после разрешения «Взбаламученного моря» ему все же пришлось уйти в отставку после публикации «Что делать?» Н. Г. Чернышевского208. В 1860 году Бекетов получил взыскание по службе за разрешение статьи «Городская полиция» для журнала «Библиотека для чтения», редактором которого в то время был Писемский209. Таким образом, назначение Бекетова свидетельствовало о стремлении руководства пропустить роман. И действительно, не сохранилось свидетельств какого бы то ни было вмешательства в публикуемый текст.
В случае «Взбаламученного моря» министр совершил поступок с точки зрения цензурного устава сомнительный, к тому же совершенно конфиденциальный: официально вмешательство Бекетова не было обозначено ни в делах Московского цензурного комитета, ни в «Русском вестнике». Очевидно, Валуев был очень заинтересован в публикации романа Писемского, если решил пойти на такие меры. По всей видимости, этот интерес подогревался прежде всего двумя основными причинами.
В 1863 году министр внутренних дел стремился сотрудничать с Катковым, как раз получившим невероятную популярность за резкое осуждение Январского восстания в Польше и за поддержку его подавления. Валуев, по всей видимости, вполне соглашался с идеями московского журналиста относительно восстания и желал привлечь на свою сторону автора популярных статей. Министр, еще не зная о многочисленных конфликтах с Катковым, которые ждали его лично и цензурное ведомство в целом, пытался способствовать выходу публикаций на страницах катковской газеты «Московские ведомости». Это своеобразное покровительство принимало характер конфиденциальных разрешений (даже письмами Катков и Валуев обычно обменивались с оказией, не доверяя почте), которые председатель Московского комитета, опасавшийся лично разрешать острые статьи Каткова, был вынужден выполнять210.
Конечно, длинный злободневный роман был очень ответственным материалом для журнала, и министр, желавший наладить взаимовыгодные отношения с его редактором, это несомненно понимал, однако вряд ли Валуев оказал бы поддержку роману, если бы само его содержание не казалось министру заслуживающим одобрения. Каким образом «Взбаламученное море» могло прочитываться с точки зрения цензора, до некоторой степени проясняет цитированный выше отзыв Сватковского. Среди достоинств романа он отметил разоблачение «нигилистов» и сочувственное изображение автором правительственных реформ. Что касается отношения Писемского к «нигилистам», оно действительно было в целом далеко не одобрительным. Исследователи долго спорили о том, насколько сочувственно в романе изображаются «нигилистические» герои, такие как Елена Базелейн211, однако так или иначе их действия представлены как совершенно безуспешные: ни агитация среди купцов, ни радикальная критика института семьи, ни ввоз пропагандистских листовок из Лондона в романе не приводят ни к каким значимым результатам. С точки зрения Каткова «Взбаламученное море», по всей видимости, выглядело своего рода продолжением опубликованных в «Русском вестнике» годом ранее «Отцов и детей», также направленных против «нигилизма»212. Аналогичным образом к этому произведению могли относиться и цензоры, которых интересовали скорее не сложные чувства, вызываемые у читателя героем-нигилистом, а то, насколько роман мог поспособствовать дискредитации тех или иных политических идей. Именно так в докладе о современной литературе характеризовал «Отцов и детей» чиновник цензурного ведомства П. И. Капнист, на мнение которого, вероятно, опирался Валуев:
Вопрос о нигилизме, может быть, помимо намерений самого автора, оказался в романе не в симпатичном колорите для способности всеотрицания, и это произвело, между прочим, то, что критики «Современника» и «Русского слова», всегда прежде сходившиеся в воззрениях, выказались в неловком положении и стали противуречить друг другу, что было замечено другими журналами. Спустя не более полугода после появления романа г. Тургенева можно уже заметить принесенную им для общества пользу. Анализ нигилизма привел общество и литературу к сознанию, что это качество есть явление ненормальное, болезненное, и, как против всякой болезни, стали искать средств и против нигилизма… Роман г. Тургенева принес пользу еще и тем, что лишил нигилизм того обаяния, которое начинал он получать под пером людей с талантом, как, например, Добролюбов213.
Второе приводимое Сватковским достоинство романа – поддержка автором реформ – с первого взгляда удивляет. Действительно, во «Взбаламученном море» дореформенное общество изображается в очень мрачных тонах – однако и отмена крепостного права представлена как настоящая катастрофа:
На лугах несколько бедных дворян, с стриженными головами и выбритыми лицами, косили.
– Что это, господа, как у вас поля запущены? – сказал он им.
– Не слушаются нынче нас рабы наши, – отвечали ему некоторые из них какими-то дикими голосами.
Около дороги бедная дворянка, с загорелым, безобразным лицом, но в платьишке, а не сарафане, кормила толстого, безобразного ребенка и, при проезде Бакланова, как дикарка какая, не сочла даже за нужное прикрыть грудь214.
По всей видимости, внимание цензора обратил на себя прежде всего другой эпизод, который мог привлечь и самого Валуева. Речь идет о ключевой для романа главе с выразительным названием «Что-то веет другое!», где дается общая картина рубежа царствований Николая I и Александра II:
Зачем и из‐за чего эта война началась – в народе и в обществе никто понять не мог. Впрочем, не особенно и беспокоились: турок мы так привыкли побеждать! Но Европа двинула на нас флоты английский, французский и турецкий!
Хомяков писал в стихах, что это на суд Божий сбираются народы.
Несмотря на нечеловеческое самоотвержение войска, стало, однако, сказываться, что мы не совсем военное государство; но зато государство совсем уж без путей сообщения…
<…>
В сентябре 1855 года была напечатана лаконическая депеша из Севастополя: «наши верки страдают»!
Исход дела стал для всех понятен.
Все почувствовали общее, и нельзя сказать, чтобы несправедливое, к самим себе презрение.
«Русский вестник» уже выходил. Щедрин стал печатать свои очерки. По губерниям только поеживались и пошевеливались и почти со слезами на глазах говорили: «Ей-богу, это ведь он нас учит, а мы и не умели никогда так плутовать!»215
Этот фрагмент не мог не понравиться Валуеву и, вероятно, воспринимался как проправительственный даже в 1867 году. Дело в том, что Писемский, сочиняя цитированный отрывок, буквально вдохновлялся идеями Валуева, высказанными, впрочем, несколько раньше. Вначале обратимся к цитируемой Писемским депеше. Эта депеша действительно была послана генералом М. Д. Горчаковым 15 августа 1855 года и относилась к разрушениям русских позиций от огня артиллерии противника. В действительности, однако, Горчаков выразился слегка по-другому: «верки наши страдают»216. Можно было бы подумать, что Писемский просто забыл текст Горчакова, если бы этот текст не приводился именно в той форме, как и в его романе, в одном очень известном источнике. Это «Дума русского (во второй половине 1855 года)» П. А. Валуева (тогда еще не министра, а губернатора), активно распространявшееся в списках неподцензурное произведение, где слова Горчакова приводятся так же, как в романе217.
Сходство значимого фрагмента романа Писемского и «Думы русского», конечно, не исчерпывается порядком слов в депеше. Как и у Писемского, в ней, например, тоже в ироническом тоне цитируется стихотворение А. С. Хомякова (у Писемского – «Суд Божий», 1854, у Валуева – «Остров», 1836):
Давно ли пророчествовали, что
Бог отдаст судьбу вселенной,
Гром земли во глас небес…
Что стало с нашими морями? Где громы земные и горняя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях! Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега! Неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю, занимают наши города, укрепляют их против нас самих и отбивают нас, когда мы усиливаемся вновь овладеть отцовским достоянием!218
Валуев, как и Писемский, иронично относился к официальным реляциям из Петербурга о состоянии и военной мощи России и, опять же как и Писемский, прямо осуждал, например, состояние путей сообщения:
Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которое требовалось для уравнения боя; что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны; что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог более, чем где-либо необходимых на тех неизмеримых пространствах, где нам надлежало передвигать наши силы. Европу колебали несколько лет сряду внутренние раздоры и мятежи; мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжение этого времени быстрее и последовательно внутренние и внешние силы?219
Наконец, Валуев описывал печальный конец царствования Николая I как завершение исторической эпохи, плачевное, но необходимое для дальнейшего развития России событие:
Еще недавно Россия оплакивала непритворными слезами кончину того великого государя, который около трети столетия ее охранял, ею правил и ее любил, как она его любила. Преклоняясь пред его могилою, Россия вспоминала великие свойства его и с умилением исповедовала величие кончины его. Эта кончина объяснила, пополнила, увенчала его жизнь. Сильный духом, сильный волею, сильный словом и делом, он умел сохранить эти силы на смертном одре и, обращая с него прощальный взгляд на свое царство, на своих подданных, на родной край и на великую русскую семью, явил себя им еще величественнее и возвышеннее, чем в полном блеске жизненных сил и самодержавной деятельности. Если в этот печальный час грозные тучи повисли над нами, если великие труды великого венценосца не даровали нам тех благ, которые были постоянною целью его деяний, то ему, конечно, предстояли на избранном им пути препятствия, которых далее и его сила, и его воля не могли одолеть220.
Таким образом, Валуев и Писемский выстраивали схожий исторический нарратив: гибель войск под Севастополем, вопреки наивному мнению славянофилов (представленных Хомяковым), бессильна изменить ход войны, однако может стать жертвой на алтарь реформ, которые позволят преобразить Российскую империю в новое, более современное государство. Вряд ли Писемским двигала сервильность: скорее, писатель действительно разделял идеи Валуева и пытался на их основе превратить неофициальную записку министра в нарративный текст, осмыслявший недавнюю историю и устанавливавший ее связь с настоящим. Вместе с тем писатель мог рассчитывать на покровительство со стороны Валуева, которое далеко не ограничилось вмешательством в процесс цензурования. В свой рассказ о ключевых исторических событиях в Российской империи писатель включил и возникновение катковского «Русского вестника» – того издания, где печатался и сам Писемский. Литература, в том числе некоторые формы журналистики, казалась писателю важной составляющей реформ, как и смягчение цензуры, описанное в той же главе словами некоего цензора:
Я прежде в повестях, если один любовник являлся у героини, так заставлял автора непременно женить в конце повести, а теперь, помилуйте, перед героиней торчат трое обожателей, и к концу все разбегаются, как собачонки221.
Очевидно, мелочный контроль цензуры за нравственностью писателя не устраивал: для литературы эпохи перемен, с его точки зрения, нужна была новая цензура, которую мог воплощать именно Валуев.
Валуев и сотрудники его ведомства, включая Гончарова, действительно обратили внимание на новый роман. 2 апреля 1863 года писатель читал отрывки из «Взбаламученного моря» у Валуева (тот охарактеризовал роман как «политический») в присутствии большой компании высокопоставленных чиновников, большинство которых имели непосредственное отношение к цензурному ведомству: председателя Комитета цензуры иностранной Ф. И. Тютчева, председателя Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ, сенатора А. В. Веневитинова, одного из крупных деятелей цензурной реформы Д. А. Оболенского, товарища министра внутренних дел А. Г. Тройницкого и недавно назначенного члена Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания Гончарова (Валуев, т. 1, с. 215). Такое внимание со стороны министра стало для Писемского поводом обращаться с просьбами о поддержке. 4 августа 1863 года автор «Взбаламученного моря» просил Валуева повлиять на театральное начальство, которое отказывалось ставить его пьесу «Горькая судьбина», причем Писемский упомянул «милостивое внимание» со стороны министра, вероятно, имея в виду именно эти чтения (Писемский, с. 159). Наконец, 10 января 1864 года Писемский обратился к Валуеву, послав ему отдельное издание «Взбаламученного моря» (то самое, о котором Щербинин спрашивал министра) в двух экземплярах: один полагался адресату, а второй Писемский мечтал «поднести государю императору» (Писемский, с. 164). Интересна мотивировка такого подношения: Писемский утверждал, что император, узнав из его романа, насколько «ничтожно, не народно и даже смешно» революционное движение в России, немедленно проникнется «милосердием к несчастным, которые во всех своих действиях скорей говорили фразы, чем делали какое-нибудь дело» (Писемский, с. 164–165). Иными словами, писатель претендовал на положение своеобразного придворного романиста, осведомляющего царя о событиях в империи и способного прямо повлиять на принятие важнейших политических решений. Впрочем, неизвестно, был ли роман поднесен императору. Более того, еще в 1865 году Писемский обращался к Валуеву с просьбами о протекции по службе: министр, по мнению писателя, мог назначить его советником Московского губернского правления или цензором (см. письма от 12 и 14 октября 1865 года: Писемский, с. 186–187). Не надеясь на литературные успехи, разочарованный Писемский хотел поправить свое материальное положение. В его глазах писательское и цензорское ремесло были достаточно тесно связаны, чтобы высоко оценивший его роман министр мог как бы перевести его из литературы в цензуру. Разумеется, Валуев эту просьбу не выполнил.
Казалось бы, модель литературного покровительства была поразительно устаревшей для русской литературы того периода. Длинные романы были прежде всего рассчитаны на публикацию в толстых литературных журналах, что предполагало взаимодействие с публикой, составляющей образованное общество, а не с вельможами и с императорами. Писемский, собственно, и выбрал для публикации журнал Каткова по вполне современным соображениям: он руководствовался политическими и эстетическими взглядами редактора, его влиянием на публику и способностью назначить внушительный гонорар. Поддерживая журнал, писатель участвовал в работе редакции и рекомендовал печататься своим друзьям-писателям, которых считал единомышленниками222.
У Писемского хватало оснований быть недовольным положением дел в русской прессе и обращаться за поддержкой к государственной власти. Незадолго до публикации романа сам он стал героем шумной истории. В редактируемом им журнале «Библиотека для чтения» вышло несколько анонимных фельетонов, в которых в издевательском тоне изображалась российская общественная жизнь. Позиция Писемского – автора фельетонов и редактора журнала – не совпадала с позицией субъекта повествования в этих фельетонах (они написаны от лица явно условных персонажей – статского советника Салатушки и «старой фельетонной клячи» Никиты Безрылова). Тем не менее сама возможность публикации в серьезном журнале таких произведений привела к резким выступлениям против Писемского на страницах сатирического еженедельника «Искра». Грандиозный публичный скандал, разгоревшийся после этого, едва не привел к дуэли между писателем и редакторами «Искры». Разочарованный в литературной жизни Писемский, который вряд ли был в восторге, когда большинство литераторов, даже вовсе не любивших «Искру», не стали его поддерживать, отказался от положения редактора и переехал из Петербурга – центра литературной и в особенности журнальной жизни – в Москву223.
Писемский обращался к архаическим институтам патронажа в условиях, когда современная журналистика (за исключением изданий Каткова) его не устраивала: литератор был готов по собственному выбору перейти под покровительство императора или главы цензурного ведомства, но не становиться в зависимость от политизированных журналистов и литературного рынка 1860‐х годов. Автор «Взбаламученного моря», подвергнутый осуждению на страницах радикально настроенных журналов, стремился не просто иронически изобразить в своем романе, например, одного из лидеров враждебного себе направления Н. Г. Чернышевского. Писемский надеялся скорректировать саму институциональную природу литературы таким образом, чтобы романист выступал прежде всего не перед «нигилистическим» литературным сообществом, а перед министром, императором и благонамеренной публикой «Русского вестника».
Как писали еще русские формалисты, в истории литературы архаическое и новаторское часто неразделимы. Попытки Писемского апеллировать к устаревшим практикам литературного патронажа нашли сочувствие у Валуева, пытавшегося построить, напротив, более современную систему цензуры, ориентированную на поддержку проправительственных литераторов и на маргинализацию их оппонентов. С точки зрения министра, одобрив «Взбаламученное море», он помогал своим идеологическим союзникам из лагеря литераторов и журналистов. Для Писемского поддержка Валуева была не только средством избежать цензурных проблем, но и свидетельством того, что ему удалось достичь своеобразной негласной договоренности с властями и попытаться сформировать альтернативное поле литературы, устроенное, как думал писатель, на более справедливых основаниях. Даже так не нравившиеся Писемскому «нигилисты», согласно его замыслу, выиграли бы от новой ситуации: напомним, что император, прочитав «Взбаламученное море», должен был отнестись к ним более милосердно.
В этой связи становится понятнее кажущаяся абсурдной настойчивая просьба Писемского процензуровать переиздание его романа. Очевидно, в бурной политической обстановке после покушения Каракозова писатель стремился подтвердить, что его договоренность с министром все еще действует. Для этого Писемскому необходимо было получить новое доказательство, что его рискованный роман одобряется цензурой. Ясна и реакция цензоров на его предложение: ни сам роман, ни возможный «союз» с литераторами уже не казались Валуеву и его подчиненным актуальными. Хрупкая система соглашений и союзов, которые пытались установить между собою писатели, журналисты и цензоры, разрушалась. К середине 1860‐х годов Писемский разошелся с Катковым и в «Русском вестнике» больше не печатался. В качестве причины он приводил как раз некорректное понимание Катковым характера их сотрудничества: «…видимо было, что они привыкли к какому-то холопскому и подобострастному отношению своих сотрудников и что им более нужен корректор, чем соредактор…» (см. письмо И. С. Тургеневу от 8 мая 1866 года: Писемский, с. 203). Очевидно, Писемский готов был считать своими покровителями не журналистов, а разве что министров и императора, и в этом смысле Катков оказался для него не лучше радикальных демократов из «Искры». Если в 1863 году Валуев, со своей стороны, готов был поддерживать катковские издания и облегчать для них цензуру, то к 1867 году министр мечтал об их закрытии (воплотить в жизнь эти мечты ему мешала прямо выраженная воля Александра II, который высоко ценил сохранявшего независимость от властей редактора «Московских ведомостей» и «Русского вестника»)224. Через год после отказа цензуры рассматривать «Сочинения» Писемского министр внутренних дел лишится своего поста: фигура бывшего «либерального бюрократа» в качестве главы цензуры и полиции будет уже неуместна.
Именно представление о неактуальности романа Писемского и предлагаемой им репрезентации российского общества заметно в отзыве Сватковского, процитированном нами в начале этого экскурса. Цензор стремился продемонстрировать, что «Взбаламученное море» осталось в прошлом. «Цинизм» романа, действительно содержащего для того времени очень откровенные сцены и представлявшего большинство важных действующих лиц не в самом оптимистичном виде, был еще простителен прежде всего как знак эпохи, «памятником» которой казалось Сватковскому произведение Писемского. Напротив, нигилизм, который у Писемского представлен прежде всего как «сумасбродства», связанные со свободой сексуальной жизни, поездки в Лондон к Герцену и споры об общине и коммуне, теперь, после покушения на императора, превратился в опасное для государства «уродливое явление».
Для Гончарова участие в чтении и обсуждении романа Писемского могло стать одним из характерных столкновений с новой ситуацией, в которой оказались государство и общество. «Политический» роман скандального и шокирующего содержания, поляризация общественного мнения, необходимость оценивать литературные произведения по государственным, а не эстетическим соображениям – все это были новые реалии, с которыми приходилось иметь дело цензору 1860‐х годов. Не избежал подобного рода проблем и сам Гончаров.
201
РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1867. № 7. Л. 1–2. Доклад цитировался также в статье: Листратова А. В. О литературно-общественной позиции А. Ф. Писемского 60‐х годов // Ученые записки Ивановского гос. пед. ин-та им. Д. А. Фурманова. Т. 38. Русская литература. Методика литературы. Иваново, 1967. С. 35–56. В квадратных скобках помещены вычеркнутые фрагменты.
202
РГИА. Ф. 777. Оп. 2. 1867. № 7. Л. 1.
203
Видимо, Писемский «усиленно навязывал» свое произведение цензуре лично: никаких его писем в цензурных архивах не обнаружено, а в конце января 1867 года он вернулся в Москву из Петербурга, где, возможно, хлопотал об издании своих сочинений (см. письмо Б. Н. Алмазову от 1 февраля 1867 г. – Писемский, с. 213).
204
См.: ЦГАМ. Ф. 31. Оп. 5. № 488–495.
205
См.: РГИА. Ф. 908. Оп. 1. № 676. Л. 42 – 42 об.
206
См.: Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: Тип. Морского министерства, 1862. С. 329, 331.
207
См., напр., издевательскую характеристику Бекетова в мемуарах Панаевой (Панаева А. Я. (Головачева). Воспоминания. М.: Правда, 1986. С. 287).
208
См.: Рейсер С. А. Некоторые проблемы изучения романа «Что делать?» // Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 783–787.
209
См.: Балуев С. М. Писемский-журналист (1850–1860‐е годы). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 63–64.
210
См.: Рейфман П. С. «Московские ведомости» 1860‐х годов и правительственные круги России // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. № 358. Труды по русской и славянской филологии: XXIV: Литературоведение. Тарту, 1975. С. 9–13; Перевалова Е. В. 1) Переписка М. Н. Каткова и П. А. Валуева в 1863–1864 гг. (по материалам НИОР РГБ) // Румянцевские чтения – 2015 = The Rumyantsev readings – 2015: материалы междунар. науч. конф. (14–15 апреля 2015). Ч. 2. М.: Пашков дом, 2015. С. 25–30; 2) «Московские ведомости» М. Н. Каткова в 1863–1864 гг. – политический официоз или орган независимого общественного мнения? // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. 2015. № 4 (36). С. 163–179.
211
См., напр.: Рошаль А. А. К типологии антинигилистического романа (Образы вождей революционной демократии в романе А. Ф. Писемского «Взбаламученное море») // Ученые записки Азербайджанского пед. ин-та языков им. М. Ф. Ахундова. Серия XII. Язык и литература. 1971. № 1. С. 105–115.
212
См.: Трофимова Т. А. «Положительное начало» в русской литературе XIX века («Русский вестник» М. Н. Каткова): Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2007. С. 15.
213
Капнист П. И. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Печ. А. И. Снегиревой, 1901. С. 67–68.
214
Писемский А. Ф. Соч.: В 4 т. Т. 4. СПб.: Изд. Ф. Стелловского, 1867. С. 222.
215
Там же. С. 169.
216
<Депеша М. Д. Горчакова> // Северная пчела. 1855. № 176. 13 авг.
217
Валуев П. А. Дума русского (во второй половине 1855 года) // Русская старина. 1891. № 5. С. 349.
218
Валуев П. А. Дума русского (во второй половине 1855 года). С. 350.
219
Там же. С. 353.
220
Там же.
221
Писемский А. Ф. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 169.
222
См., например, письма Тургеневу от 12 января и 4 (16) июня 1863 года: Письма А. Ф. Писемского (1855–1879) И. С. Тургеневу // Литературное наследство. Т. 73. Кн. 2. М.: Наука, 1964. С. 176–177.
223
См.: Рошаль А. А. Писемский и революционная демократия. Баку: Азербайджан. гос. изд-во, 1971. С. 46–57; Балуев С. М. Писемский-журналист… С. 92–149; Мысляков В. А. Писемский в истории литературных дуэлей // Русская литература. 2012. № 2. С. 115–129.
224
См.: Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати: 60–70‐е годы XIX века. Л.: Наука, 1989. С. 153–185; Ruud C. A. Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804–1906. Toronto: University of Toronto Press, 2009. P. 150–166.