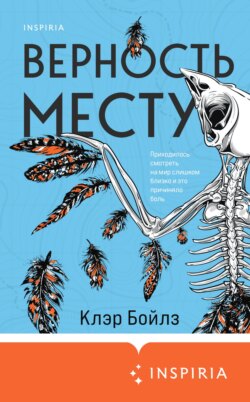Читать книгу Верность месту - Клэр Бойлз - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Гроссбухи
ОглавлениеПосле того как у папы случился удар, мы подождали пару месяцев, пока все успокоится, а потом продали семейное ранчо целиком одному скотоводу из Монтроуза по фамилии Хенсон, чье имя папа не расслышал. Я жила на Фараллонах[1], изучая верность местам обитания пепельных качурок, птиц, о которых большинство людей, вероятно, не слышали и, возможно, никогда не услышат. Внезапный разлив нефти или любая другая катастрофа на Центральном побережье Калифорнии могут стереть с лица земли весь вид. Это была настоящая исследовательская работа, мечта каждого орнитолога. Но я люблю своего папу, а потому все бросила и вернулась домой. Тогда я единственный раз порадовалась, что папа потерял дар речи, потому что мне совсем не улыбалось выслушивать, как сильно ему хотелось, чтобы я интересовалась чертовыми коровами, а не чертовыми птицами.
Папа не хотел, чтобы наша земля была разделена на участки для продажи и посеянное на нем стало последним урожаем, а потому предложил Хенсону хорошую скидку. Мы заключили сделку в конце сентября. Хенсон подписал бумаги кожистыми и обветренными руками ранчера, такие же были у папы. Хенсон – мой ровесник, старше, может быть, на несколько лет, разведен, маленькая дочь, и я отношусь к нему с явным недоверием. Как может кто-то в свои тридцать остаться после рецессии с деньгами, на которые можно купить четверть участка на реке у самых границ Ганнисона[2], еще и с правами на воду?
Удар лишил папу многих вещей, по которым я тоже скучаю, нечто более ценное, чем его способность пасти скот, – например, он утратил глаголы, а вместе с ними и все, что напоминает предложения. Из-за инсульта исчезли также подвижность всей его правой стороны и все наши сбережения, ушедшие на счета за лечение, хотя последняя проблема прекрасно разрешилась с продажей ранчо. Хуже всего то, что он не может произнести мое имя, Нора. Вместо этого папа зовет меня Верой. Я перестала утруждать себя тем, чтобы его поправлять. Моя мать Вера умерла в луже собственной крови в день, когда я родилась, ожидая «Скорой помощи», которая свернула на дорогу 68 вместо дороги 68 1/2.
Папа не путает, как вы могли бы подумать. Он знает разницу между покойной женой и живой дочерью. В течение первого месяца или около того он вздрагивал каждый раз, когда произносил свое «Вера», грустно качал головой и смотрел вниз на свою обувь – кроссовки «Нью Бэланс» с терапевтическими эластичными шнурками, а не ботинки, которые он носил всю свою жизнь. Бейсболка заменила привычную ковбойскую шляпу стетсон[3]. Он стал почти неузнаваем. Моя подруга Джули – его логопед, и она говорит мне, что он все еще думает «Нора», когда смотрит на меня, просто нужный сигнал теряется в афазическом тумане, который поселился где-то между мозгом папы и его языком. Когда он «думает-Нора-но-говорит-Вера», это звучит как «В-в-в-в-в-е-ера». Он застревает на первом звуке «в», который, согласно схеме артикуляции, которую Джули повесила на наш холодильник, является губно-зубным фрикативом.
– Звучит как-то грязно, – говорю я папе. – Губно-зубной.
Я перемещаю магниты так, чтобы видеть всю диаграмму согласных – назальных и альвеолярных, звонких и глухих.
Папа смеется, и мое сердце слегка трепещет; я воспринимаю это как доказательство того, что оно не разбито полностью. Когда папа смеется, мне кажется, что мы ведем беседу, совсем непохожую на монологи Норы, гораздо менее изящные, чем истории, которые рассказывал папа. Для папы нет никакого реального прогноза, нет четкого количества месяцев его жизни, нет процента самостоятельности, которую ему удастся восстановить. Папа кажется одновременно хрупким и прочным, как яйцо. Каждое утро, когда я завязываю ему шнурки, я думаю: «Возможно, это последний раз, когда я завязываю ему шнурки. – А также задаюсь вопросом: – Сколько еще раз мне доведется завязывать ему шнурки?»
Я видела Хенсона ровно пять раз с тех пор, как он купил папино ранчо. Я это знаю, потому что специально для него завела страничку в своем гроссбухе. Я много чего записываю в своем гроссбухе: как часто я переворачивала компост, различные наблюдения за пушистыми дятлами, тот факт, что прошлой весной во всем мире осталось лишь около пяти тысяч гуннисонских шалфейных тетеревов. Эту привычку я переняла у папы, точно так же, как научилась у него разбираться в цифрах и любить печенье «Орео».
Тридцатого октября мы с Хенсоном поздоровались в супермаркете «Сейфуэй». Вместо большой тележки он толкал перед собой маленькую, двухэтажную, и покупал кукурузные хлопья, ванильное мороженое и другие простые, понятные продукты. В канун Рождества он появился в церкви в первый и последний раз. Я могла бы поклясться, что видела, как огоньки свечей отражались от слез на его щеках, когда мы все пели «Тихую ночь», но это неточно. К тому времени как дьяконы снова включили свет в алтаре, Хенсон уже исчез. В канун Нового года он участвовал в общей процессии – гарцевал верхом на лошади, его седло было украшено крошечными белыми мерцающими огоньками, и он приподнял шляпу и улыбнулся мне, когда проезжал мимо.
Два других раза, когда я видела Хенсона, он меня не заметил. Я наблюдала за птицами, хорошо скрытая ивами и кустарником, молчаливая, терпеливая, на примыкающей к западной стороне нашего старого ранчо общественной земле, находящейся в ведении Федерального бюро по управлению землями. Двадцать четвертого марта я видела, как Хенсон режет проволоку на заборе, отделяющем наше ранчо от земли БУЗ. Первого апреля, в День дурака, он сделал это снова примерно в ста ярдах от линии забора. У меня есть фотографии. Я съездила в город и проверила, не взяты ли тамошние пастбища в аренду, но имени Хенсона нигде не было. Земля БУЗ принадлежит всем одновременно и никому конкретно, и выпасать там скот без уплаты пошлин то же самое, что воровать корма. Хуже того, он будет прогонять скот через папин и мой тайный лек[4], где обитает ганнисонский шалфейный тетерев, прямо посреди сезона размножения, что так же плохо для этих птиц, как строительство домов.
* * *
Ганнисонские тетерева так же сильно повлияли на мое становление, как и мой папа. В 2000 году они стали первым новым видом птиц, официально признанным в Соединенных Штатах за более чем сто лет. Мне тогда было двенадцать. О них говорил весь город. Они были частью нашей местности. Частью нашего характера. Что-то в этом роде.
К этому времени я уже выполняла наравне с папой все хозяйственные работы на ранчо, каждый день закаляла свою храбрость, загоняя скот, испытывала свою силу, натягивая проволоку на заборы, проверяла свою выносливость, работая каждый световой час в сутках. По улыбке в глазах папы я понимала, что он мной гордится, и именно так я научилась гордиться собой. В моей памяти постоянно звучит голос папы, он неизменно говорит со мной, потому что всегда это делал:
Хорошая работа, Нора.
Давай продолжай, Нора.
Вот так, девочка, молодец.
Пока мы работали, папа рассказывал истории о своей жизни на ранчо. Про то, как бабушка высасывала яд из змеиного укуса, а дед принимал ванны на Ваунитских горячих источниках. Вспоминал сливочную сладость домашнего мороженого моей матери. Меня утешало, что когда-то у нас с папой были другие родственники. Эти истории позволяли мне винить только время и невезение в исчезновении членов семьи – перестать беспокоиться, что мы одни, потому что с нами что-то не так.
Шалфейные тетерева все это время жили на ранчо, папа просто не знал, да и никто из нас не знал, что эти птицы находятся под угрозой исчезновения. В первый раз я увидела их перед рассветом, когда мы чинили тот забор, рядом с которым я видела Хенсона. Утро было пасмурным, моросил дождь. Солнце взошло, но его не было видно из-за облачного покрова, свет постепенно угасал, а не лился оранжевыми и розовыми потоками из-за горного гребня на востоке. Я слышала их крики, похожие на лопающиеся пузыри – стаккато ударов по воздушным мешкам птиц, видела самцов, напыщенных, мужественных. Они были так горды собой, так полны жизни. Я знала, что стала свидетелем чего-то важного и редкого. Тогда я впервые ощутила смесь эмоций, которые с тех пор всегда вызывали во мне ранимые существа. Благоговейный трепет. Упреждающая печаль утраты. Гнев и негодование по поводу глубокой апатии человечества. Всплески того, что было, наверное, чем-то вроде материнской заботы.
– Мы вернемся завтра, – пообещал папа, – и разобьем здесь лагерь, пока не обнесем этот луг забором. Если мы сможем предотвратить на нем выпас скота, по крайней мере весной, то мы сможем самостоятельно спасти этих птиц. Нам не нужно никому говорить, что они здесь. Мы не нуждаемся в правительственных подачках, чтобы поступить правильно. Нам просто нужно позаботиться о том, что принадлежат всем нам.
И мы действительно о них заботились. Каждый год мы останавливались там на неделю, подсчитывая самцов и самок, записывая количество видимых совокуплений (их было не так много), свидетельствуя вмешательство хищников (койот, сова, ястреб, беркут). Папа все это записывал в свой гроссбух.
– Это не дневник, – ворчливо говорил он, взъерошивая мне волосы, когда я его поддразнивала. – Это гроссбух. Дневники предназначены для чувств, а я не слежу за своими чувствами. Я слежу за фактами.
Папа вел аккуратные и упорядоченные записи о ежедневных событиях в черно-белых тетрадях для сочинений за 99 центов, которые он покупал каждый год вместе с моими школьными принадлежностями. Он был почти знаменит, умея сказать, что в 1993 году продал только 152 головы крупного рогатого скота или что ГЭС Блу-Меса вырабатывает 60 тысяч киловатт электроэнергии каждый год, в то время как ГЭС Кристал производит только 28 тысяч. Теперь слова для обозначения количественных отношений слишком трудны для папы, и он легко их пропускает. Он вообще не может разобраться в своих цифрах. Не то чтобы изменилось его мышление, стала другой только его речь, но от нее зависит то, каким люди его видят – даже то, каким его вижу я, что заставляет меня стыдиться самой себя.
Папины гроссбухи помогли мне узнать разницу между практическим мышлением и эмоциональным, помогли понять, как многие люди, любящие один способ видения вещей, презирают другой или, возможно, боятся его. Раз в полгода папа отмечал мой рост на косяке кухонной двери и переписывал его в свой гроссбух. Если бы я поступила сейчас так же с ним, то, боюсь, обнаружила бы, что он съеживается, что метки, подчиняясь силе гравитации, следуют в обратном направлении. Папа пишет списки продуктов левой рукой, потому что все, что раньше было в нем доминирующим, теперь не действует.
Он будто в детском саду: хромающая орфография, дрожащий, неровный почерк. Папа хочет бананов, зерновых хлопьев и апельсинового сока. Он пишет: Бабабы. Хупя. Сук.
В отдельно стоящем гараже старого викторианского дома, который мы купили в центре Ганнисона, стоит множество коробок с папиными гроссбухами. Его касающиеся лека записи за последние три сезона свидетельствуют о 55-процентном падении мужского населения на нашей земле. Он никогда не упоминал об этом до инсульта, а теперь вообще не хочет ни о чем говорить.
– Папа, – обратилась я, бросая открытые бухгалтерские книги на сосновый стол, который он соорудил в первую зиму моего отсутствия, когда я уехала в колледж. – Что случилось?
Папа посмотрел на бухгалтерские книги, потом на меня удивленным взглядом, его лицо напряглось, покрылось морщинами. Он был моим любимым рассказчиком, а теперь его едва интересует простой разговор.
– Не знаю, – пробормотал он, пожимая левым плечом.
Я попробовала еще раз. Не знаю, насколько я должна приспособиться к этому новому, более ограниченному папе, насколько я должна позволить ему сникнуть.
– Почему так мало птиц? Что-то не так с леком?
Папа поглядел на пузырек с таблетками, пересчитал пурпурные морфиновые жемчужины и попытался снять крышку большим пальцем единственной рабочей руки. Он не слушал или пытался сделать вид, что не слушает.
– Пап, – позвала я.
Он снова пожал плечом и раздраженно поднял левую руку:
– Не знаю.
Разговоры тяжелы для папы, но и для меня это нелегкая работа, требующая так много беспрестанных усилий: чтобы устанавливать связь, дожидаться реакции, любить и чувствовать, что он тоже любит. Мне хотелось закричать, схватить его за плечи, вытрясти из него информацию или по крайней мере вытрясти из него интерес ко мне, к шалфейному тетереву, к чему угодно.
Увы, я не могу этого сделать. Он мой папа, и я его люблю, да что толку от этого?
– Ладно, – говорю я. – Все равно разговор выходит скучный.
Папа сердито посмотрел на меня, промурлыкал несколько тактов темы из «Звездных войн» и, катясь к туалету, переехал мне ногу своей электрической коляской.
* * *
Я решила съездить к Хенсону и попросить разрешения провести весенний подсчет, чтобы самой побывать на леке и посмотреть, как там дела. Хенсон сидел в одиночестве на устроенных на террасе качелях и потягивал «Бад» из банки в зеленом пенопластовом стакане, сохраняющем пиво холодным. К ступенькам крыльца прислонился крохотный розовый детский велосипед, маленькие боковые колесики которого были такими кривыми, что не касались земли, но ребенка нигде видно не было. Хенсон высокий, широкоплечий мужчина, но то, как он стоял спиной к невероятно красивой ленте заката, позади темной громадой высился дом, а перед ним расстилалась пустая терраса, – от этого он показался мне невероятно маленьким. Он сделал еще глоток пива, и я увидела бледную полоску кожи, нежную и мягкую, как раз там, где должно быть обручальное кольцо. На какой-то мимолетный миг мне стало жаль Хенсона больше, чем себя.
При моем приближении Хенсон встал. Он улыбнулся, но сдержанно.
– Нора, – произнес он, кивнув в знак приветствия.
– Простите, что явилась без предупреждения, – извинилась я. – Я не знаю номера вашего телефона.
– Ладно, – буркнул он, указывая на пластмассовое адирондакское кресло[5]. – Бросайте кости.
Он потянулся к маленькому холодильнику, вынул банку пива и предложил мне. Я взяла ее, хотя не очень люблю пиво. Просто я услышала голос папы, дающего мне совет: «Когда ты пытаешься кого-то умаслить, Нора, бери то, что тебе предлагают».
Он спросил о папе. Я пожала плечами.
– Не знаю, – ответила я.
В течение одной неловкой минуты мы сидели молча и пили пиво.
– У меня такое чувство, будто вы явились попросить меня о чем-то, что я вряд ли дам. – Он посмотрел мне прямо в глаза. Его глаза напоминали яйца малиновки, голубые с коричневыми крапинками. Они смягчали грубость его тела. – Я видел в поле шалфейного тетерева. Думаю, вы хотите получить сервитут[6].
Мое сердце слегка екнуло. Не все владельцы ранчо такие, как папа. Некоторые находят этих птиц несносными. Некоторые отказываются платить за выпас скота из ложного представления о своем историческом наследии жителей Фронтира[7], о том, что нация им должна. Некоторые организовались, называют себя «полынными бунтовщиками»[8]. Они угрожали агентам БУЗ, наставляя на них дуло пистолета. Они вторглись в Национальные заповедники дикой природы. Они избрали шерифов по всему Западу, считающих, что конституция дает им полное право игнорировать федеральные законы и законы штатов. Даже папа, не друживший с федералами, считал полынных бунтовщиков опасными экстремистами. Если Хенсон водил с ними знакомство, его ответ уже был мне известен.
Я сделала медленный, расслабляющий вдох, прежде чем ему ответить.
– Да, мне нужен сервитут, – начала я, – но я соглашусь и на обычный доступ к земле. Мне хотелось бы просто произвести подсчет.
Хенсон нахмурился и ответил не сразу. Я услышала крик орлана и полезла в сумку за биноклем. Я никогда никуда не хожу без сумки, бинокля и гроссбуха. Конечно же, я заметила белоголового орлана, сидящего на одном из хорошо мне знакомых тополей, старых и сучковатых, растущих вдоль берега реки.
– Белоголовый орлан, – пояснила я. – Хотите взглянуть?
Хенсон отрицательно покачал головой с каким-то озадаченным выражением, как будто потакая ребенку. То же самое было и с папой, который поддерживал возню с птицами как хобби, но не мог понять ее как чертовски серьезную научную карьеру.
– Они больше не редкость, – сказал он. – Я наблюдаю за этим орланом уже несколько дней.
– Конечно, – подхватила я. – Старая новость, эти белоголовые орлы.
– Ага, вы победили, – отозвался он.
– Кто?
– Ваши ребята, экологи, – пояснил он.
Я опустила бинокль и откинулась на спинку кресла:
– Мои родные владели этим ранчо шестьдесят лет. И мы не так уж сильно отличаемся от вас.
Хенсон фыркнул и отвернулся. Насчет орланов он был прав. Они выжили. Было время, когда я находила это обнадеживающим, своего рода доказательством того, что мы, люди, все еще можем нажать на экологический аварийный тормоз, что мы наконец смогли это сделать, прочувствовав потерю странствующего голубя, каролинского попугая, лабрадорской гаги, все тридцать страниц Википедии под рубрикой «Вымершие птицы Северной Америки», которые можно нагуглить, не являясь экспертом. Но теперь я другая. Я стала старше, возможно, мудрее, и теперь я лучше знаю, что к чему. Мы спасли белоголовых орланов только потому, что хотим видеть в них себя – в конце концов, они наш национальный символ, что делает их исключительными точно так же, как мы считаем исключительными самих нас, видя в себе своего рода объектив, через который можно рассматривать наш мир. Обыкновенным птицам, вроде ганнисонского тетерева, мы позволяем исчезнуть, пожав плечами. Что является еще одним доказательством, если только мне оно нужно, что в этом мы никогда не были вместе, и не вместе сейчас.
– Земля перешла мне без сервитута. – Закат угасал, и Хенсон включил свет на крыльце. – А это значит, ваш отец был не настолько глуп, чтобы замешивать сюда правительство и отказываться от хороших пастбищ ради каких-то нелепых птиц.
– Папа оставил эту землю в покое, потому что это было правильно, – возразила я. – Он любит этих птиц.
Хенсон фыркнул:
– Он предпочитал не иметь дела с правительством, и если это не так, я готов съесть свою шляпу. Ни сервитута, ни мандата. Все старые владельцы ранчо одинаковы. И ты это знаешь. Должна знать.
Вставая, чтобы уйти, я опрокинула пустую банку из-под пива.
– Мне жаль. На самом деле я не хочу отказывать тебе, Нора, – сказал Хенсон. Извинения казались искренними. – Я вложил в это место все, что у меня есть. Я не хочу рисковать, ограниченное пользование не по мне.
Слезы щипали мои глаза, когда я ехала обратно к Ганнисону, потому что Хенсон был прав, я хорошо знала папу. Он спасал птиц лишь для того, чтобы сделать мне одолжение. Как только я уехала, он махнул на них рукой.
Верность месту – прекрасная, романтичная идея, но она также опасна. Водохранилище Блу-Меса заполнилось в 1965 году, и следующей весной, в марте, несколько сотен ганнисонских тетеревов прилетели на лед, прямо на то место, где прежде находился их лек. Они скользили, падали и не могли спариваться. Через год птиц вернулось вдвое меньше. На следующий год их прилетело еще меньше, и так до тех пор, пока они не исчезли совсем. Они не полетели к другим лекам, не нашли твердой почвы на берегу. Вся популяция просто вымерла, тоскуя по своей земле.
Это одна из самых печальных историй, которые я когда-либо слышала, и, услышав ее впервые, попросила папу о том же, чего хотела от Хенсона, – получить охранный сервитут на ранчо, чтобы дать птицам какую-то постоянную, официальную государственную защиту.
– Мы убили почти всех этих птиц еще до того, как узнали об их существовании, – начала я. – Строим плотины. Мы должны что-то сделать.
– Мы и так что-то делаем, Нора, – ответил папа.
Он потер лоб, что всегда было у него жестом разочарования, затем дернул меня за косу и грустно улыбнулся.
– Им нужно, чтобы мы сделали больше, – возразила я. – Мы можем сделать для них больше.
– Правительство не может защитить их лучше, чем я, – парировал папа. – Выпас скота, без сомнения, повредил этим птицам, но то же самое сделали и те плотины, которые построило правительство. Наших птиц, Нора, мы держим для себя, держим в секрете. Вот так и охраняем их в этом мире.
Мой папа всегда был путеводной звездой моей жизни. Я настраиваю свой моральный компас по его мировоззрению, всегда обдумываю, как мой выбор повлияет на его мнение обо мне. Я вижу любовь папы к скотоводству, его любовь к окружающей среде и благодарна за чистую этику земли, которой я научилась, сидя у него на коленях. Папа читал мне Эда Эбби[9] и Альдо Леопольда[10], учил пользоваться ивой как аспирином и каждый день по пятнадцать часов не давал мне слезать с лошади. Но папа присыпал своим недоверием к правительству все, чему учил меня в детстве, как солью каждое блюдо, которое ел. Большую часть моей жизни мне это казалось похожим на критическое мышление, но теперь я понимаю, что это было просто своеобразное видение мира.
* * *
Я предпочитаю ночевать в палатке под открытым небом, когда полная луна освещает полуночный мир и делает его более теплым, более гостеприимным. Звездный свет кажется ярче в полнолуние, хотя я знаю, что со светом все обстоит совсем не так. Сияние луны приглушено, отдаленное пронзительное тявканье койота усиливается, каждый треск полыни представляет собой невидимую угрозу. Даже температура воздуха, которую можно измерить объективно, кажется более низкой, чем на самом деле. Я была менее чем в четверти мили от места стоянки, которой мы с папой пользовались каждый год, но сейчас я находилась на соседней земле, принадлежащей правительству. Это был тот же самый ручей, рядом с которым мы разбивали наш лагерь, те же виды ив росли вдоль его берега, но узоры ветвей выглядели корявыми, и музыка, которую они издавали на ветру, звучала как-то нестройно. Этот пейзаж должен был казаться знакомым, безопасным, но в полнолуние это было не совсем так.
Я поняла, что спала, лишь потому, что проснулась дезориентированной и сбитой с толку около четырех утра. Внутренняя поверхность моей палатки была покрыта слоем инея, который немного искрился, когда мой фонарь светил на него под определенным углом. Прошла минута, прежде чем я вспомнила: я больше не та девочка, что совершенно бесплатно пришла с отцом на их землю пересчитать спаривающихся ганнисоновских тетеревов, а взрослая ученая леди, пробирающаяся в одиночку на участок, который пришлось продать в оплату медицинских счетов.
Если папа умрет, я не вернусь на Фараллоны. Я стану единственной, кому небезразличен этот лек, и лишь ганнисоновские шалфейные тетерева будут знать меня по-настоящему. Я изучаю вымирающие виды, которые настолько любят свою землю, что без нее погибнут, и испытываю все те же эмоции двенадцатилетнего ребенка, но почему-то чувствую себя более одинокой. Я вижу, как уходит что-то прекрасное, тяжесть неизбежного конца давит на мои плечи, и я понимаю, что всех моих усилий спасти их никогда не будет достаточно. Но зато теперь я знаю, что останусь и попытаюсь, сейчас и навсегда.
Я как раз натягивала комбинезон, теплый, но сковывающий движения, когда услышала шум грузовика на спецдороге[11]. Я выключила фонарь и схватила старый полевой бинокль папы. Было еще темно. Я почти ничего не увидела, но узнала старый «Форд» Хенсона. Этот грузовик знавал лучшие времена. Он скулит, как будто ему нужна жидкость для гидроусилителя руля, и в моторе слышится тихое ритмичное постукивание. В кабине есть стойка для дробовика. Этот грузовик издает совершенно неправильный шум, шум, который может донестись до лека, помешав птицам исполнить свой брачный танец.
Я следовала под прикрытием ив вдоль берега ручья, неуклонно приближаясь к грузовику. Природа может казаться мирной и спокойной, но это впечатление обманчиво, и я была благодарна ей за то, что она издает такие громкие звуки. Шум ручья заглушал шум моего дыхания, моих шагов. Я собиралась сделать снимки, но не хотела рисковать обнаружить себя свечением телефона. Хенсон стоял, прислонившись к кузову грузовика, и смотрел на звезды. Когда он налил кофе в крышку термоса, я была достаточно близко, чтобы учуять его запах. В кузове стояли канистры с горючим, лопаты и грабли. Чтобы устраивать пал на общественной земле, нужно иметь стальные яйца, но многие владельцы ранчо так поступали, утверждая позже, что пожары на их собственной земле просто вышли из-под контроля и перекинулись на несколько акров ничейной. Единственное, что нужно птицам, – это обильные заросли полыни, а для избавления от полыни как раз и устраивают пал в полынной степи. Огонь освобождает место для выпаса скота, уничтожая все остальное.
– Эй, девочка, – позвал Хенсон, и я запаниковала, кровь побежала в жилах быстрее. Я хотела убежать, но он разговаривал не со мной. С ним была маленькая девочка, наверное, детсадовского возраста, с тонкими косичками, вьющимися вокруг ушей. Ее комбинезон был залатан и изношен, стеганая ткань сковывала движения. Она схватила Хенсона за руку, и я подумала, что у нее такие же нежные, похожие на яйца малиновки, глаза, как у ее отца.
– Можешь взять лопату? – полушепотом спросил ее Хенсон.
– Я вижу твое дыхание, папа, – сказала девочка. – Оно парит, как твой кофе.
Хенсон улыбнулся, и я тоже. Девочка обвила руками его шею. Я почувствовала, как мое сердце снова затрепетало, а пульс потеплел. Небо с приближением восхода светлело.
– В следующий приезд мы возьмем лошадей, – предложила она.
– Все, что захочешь, милая.
Они вдвоем обогнули грузовик и отошли на некоторое расстояние. Хенсон начал ходить взад и вперед, измеряя шагами площадку. Девочка кувыркалась, делая «колесо», изо всех сил стараясь противостоять сковывающему воздействию комбинезона.
Когда Хенсон повернулся к грузовику спиной, я подбежала к канистрам с горючим и начала сбрасывать их в грязь позади кузова. Отработанные газы из выхлопной трубы заставляли землю мерцать, дрожать и расплываться, наполняли мой нос таким сильным запахом, что, я думала, чистый воздух никогда больше не попадет в мои легкие. Я не могла забрать у Хенсона ранчо, но он не мог ничего зажечь без дизеля. Я услышала крик, который мог оказаться моим именем, и выронила канистры. Я сделала снимок для доказательства и бросилась наутек так быстро, как только смогла, держась вдоль русла ручья, утекающего в глубь государственных земель. Когда в голове прояснилось, я пришла в себя. Я попыталась сделать «колесо», но мой центр тяжести, похоже, сместился.
* * *
К тому времени как я вернулась домой, солнце уже вышло из-за хребта и растопило иней на перилах, сделанных из дюймовых досок 2×4. Большую часть прошлого месяца я потратила на строительство пандусов, один из которых вел к задней двери дома, а другой – к открытой террасе перед домом. Теперь, когда папа проводит в проклятой инвалидной коляске большую часть времени, для меня важно, чтобы он мог пользоваться любой дверью не только для безопасности, но и ради чувства собственного достоинства. Я не плотник, но, когда у тебя есть Ютьюб и гараж, полный инструментов, ты можешь научиться строить что угодно.
Я присела, чтобы установить бинокль обратно на шаткую треногу, которую держу на крыльце. Вся эта конструкция того и гляди сломается и обрушится, но наблюдение за птицами в их естественной среде обитания – единственное в этом доме, что удерживает меня в здравом уме. Я услышала, как папа перекатился через порог, и почувствовала, как пол террасы слегка вздрогнул под тяжестью его кресла.
– Вера, – произнес он и положил руку мне между лопаток.
Тепло разлилось по моему сердцу, животу, пяткам. Я представила себе, как он обвивает меня, словно лоза – с корнями, пробивающимися сквозь доски террасы, раскалывая твердую землю под ней.
Я застыла на месте, не желая, чтобы папа убрал руку с моей спины. С тех пор как я поговорила с Хенсоном, я с папой была очень резкой. Я знала это. Теперь я хотела спросить его, не следует ли мне отнести свои фотографии в офис Бюро по управлению землями и выдвинуть обвинения по поводу заборов и возможного поджога степи. Я хотела знать, на чьей стороне окажется папа, какая сторона сердца у него больше. Я хотела посмотреть, как он отреагирует, если я скажу вслух, что Хенсон режет ограду. Он собирается пасти скот на земле Бюро и на нашем леке. Я могла бы сдать его, если бы захотела. Но у него самая чудесная девчушка в мире.
Я повернулась к нему, опустившись на колени рядом с его креслом.
– У нас осталось всего пятнадцать птиц, – прошептала я и заплакала, хотя плачу не очень часто. – Ты сам записал это в своем гроссбухе. Почему ты мне не сказал?
– М-м-м, – промычал папа и нахмурился. Его рука потянулась ко лбу, но я поймала ее обеими руками и поднесла к своей мокрой щеке. Он печально покачал головой. – Проклятие.
Папа все еще может ругаться как ни в чем не бывало. Он также может пропеть каждое слово в песне «Along Came Jones»[12] группы «Коустерз»[13] и в ряде других, вышедших в его школьные годы. Его выговор напоминает речь шведского шеф-повара из Маппет-шоу[14], но все слова он хорошо знает. Джули говорит, это нормально, ведь ругань и музыка существуют за пределами предлогов и имен, что, похоже, должно быть важным фактом, касающимся всех людей, хоть я не могу точно сказать почему. Это очень мило, и с каждым кристально чистым папиным ругательством я удивляюсь, как много мы не знаем о мире наших собственных мозгов.
– Вера, – серьезно произносит папа. – «Орео».
Я не знаю, о чем беспокоиться больше всего, за что крепко цепляться и о чем позабыть. Может ли слишком большое количество съеденного печенья вызвать у папы сердечный приступ? Сожжет ли Хенсон мой лек? Найдет ли его дивная дочь с косичками способ полюбить и этих чертовых птиц, и этих чертовых коров? Там, на террасе, мне хотелось, чтобы папа помог. Я хотела, чтобы он научил меня, на этот раз лучше, чем раньше, отделять эмоции от тщательно записанных фактов, примирять то, что я чувствую, с тем, во что я верю, когда эти вещи не совсем совпадают.
Но вместо этого я спросила:
– Сколько?
Он поднял указательный палец и начертил цифры в воздухе перед своим лицом, но я не поняла какие. Наконец он сказал:
– Пятнадцать. – А потом: – Нет!
Но я уже смеялась, слезы текли по моему лицу.
– И мне тоже, – подхватила я. – Давай по пятнадцать.
Я вытерла нос рукавом и почувствовала себя жадной, ненасытной. Мне хотелось всего на свете.
– Нет, м-м-м. – Папа поднял четыре пальца и добавил: – Два. Нет! Сукин сын!
– Я сейчас принесу весь пакет, – закончила я.
Папа может съесть столько «Орео», сколько захочет.
* * *
В 2005 году, по мнению ученых, было подтверждено существование в лесах Арканзаса единственного самца белоклювого королевского дятла. Сообщения любителей птиц годами отвергались орнитологами; они настаивали на том, что белоклювые королевские дятлы вымерли, что любители птиц, не имея соответствующей подготовки, просто встречают более удачливую и все еще живущую в дикой природе хохлатую желну, похожую на белоклювого королевского, и проецируют (как это делают многие люди) свое желание увидеть что-то редкое и прекрасное. До сих пор есть и верящие, и сомневающиеся. Это, кстати, я склонна почитать знаком надежды, но опять-таки все видится мне иначе. Я точно знаю, как одинока эта бедная птица, такая маленькая в огромном мире, единственная в своем роде.
1
Фараллоновы острова – небольшой скалистый архипелаг, который омывает Фараллонов залив у побережья Калифорнии (США), недалеко от Сан-Франциско. Национальный резерват дикой природы.
2
Ганнисон – административный центр округа и самый густонаселенный муниципалитет в округе Ганнисон, Колорадо, США.
3
Стетсон – шляпа с высокой тульей и очень широкими полями, традиционно носимая ковбоями и владельцами ранчо в США, названная в честь Джона Б. Стетсона (1830–1906), американского производителя шляп.
4
Лек – участок земли, используемый в период размножения самцами некоторых птиц и млекопитающих, особенно тетеревов.
5
Адирондакское кресло – кресло для отдыха на открытом воздухе с широкими подлокотниками, высокой решетчатой спинкой и сиденьем, которое спереди выше, чем сзади. Названо в честь гор Адирондак.
6
Земельный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком.
7
Фронтир – ист. новые земли на западе США.
8
«Полынный бунт» – кампания за передачу федеральных земель в ведение властей штата, активно проводившаяся в западных штатах в 1970–1980 годы.
9
Эдвард Пол Эбби (1927–1989) – американский писатель и эссеист, известный своей защитой экологических проблем и критикой государственной земельной политики.
10
Альдо Леопольд (1887–1948) – американский писатель, ученый, эколог, лесник и защитник окружающей среды.
11
Спецдорога – грунтовая или гравийная дорога, ведущая в малонаселенную местность (глубинку), шириной, достаточной для проезда по ней спецмашины (полицейской, пожарной и т. п.).
12
«Along Came Jones» – комедийная песня, написанная Джерри Лейбером и Майком Столлером и первоначально записанная группой «Коустерз» («Coasters») в 1959 году.
13
«Коустерз» – выдающийся вокальный коллектив из Лос-Анджелеса, пик популярности которого пришелся на вторую половину 1950-х годов; исполнители в стиле ду-воп.
14
Маппет-шоу – англо-американская телевизионная юмористическая программа, выходившая в 1976–1981 годах. Основными действующими лицами были куклы-маппеты.