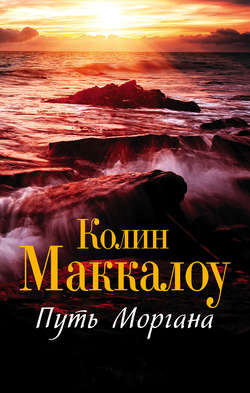Читать книгу Путь Моргана - Колин Маккалоу - Страница 2
Часть 1
Август 1775 года – октябрь 1784 года
Оглавление– Мы вступили в войну! – выпалил мистер Джеймс Тислтуэйт.
Все, кроме Ричарда Моргана, вскинули головы и обернулись к двери, где в тусклом свете застыла громоздкая фигура. Минуту стояла такая тишина, что казалось, будет слышно, как упадет булавка, а затем нестройный хор возгласов донесся из-за каждого стола таверны – кроме того, за которым сидел Ричард Морган. Ричард почти не обратил внимания на тревожную весть: что значила война с тринадцатью американскими колониями по сравнению с участью ребенка, которого он держал на коленях? Четыре дня назад кузен Джеймс-аптекарь привил малышу оспу, и теперь Ричард томился в ожидании, не зная, подействует ли вакцина.
– Давай, Джимми, прочти нам газету, – подал голос из-за стойки Дик Морган, хозяин таверны и отец Ричарда.
Снаружи сияло полуденное солнце, его лучи били в кронгласовые окна, но в большом зале таверны «Герб бочара» царила полутьма. Поэтому мистер Джеймс Тислтуэйт прошествовал к стойке – туда, где горел масляный светильник. Из обоих карманов его пальто торчали рукоятки пистолетов. Водрузив на нос очки, он начал читать вслух, с пафосом повышая и понижая голос.
Сквозь плотный туман тревоги Ричарда Моргана проникали лишь обрывки фраз – «явный и открытый мятеж… настойчивое стремление подавить мятеж и предать изменников суду…».
Почувствовав на себе укоризненный взгляд отца, Ричард добросовестно попытался сосредоточиться. Но неужели жар все-таки начинается? Так ли это? Если да, значит, вакцина подействовала. А если подействовала, неужели Уильям Генри все-таки заболеет оспой? И все равно умрет? Боже милостивый, нет!
Мистер Джеймс Тислтуэйт закончил чтение громогласным восклицанием:
– «Жребий брошен! Колонии должны покориться или восторжествовать!»
– Странно, однако, выразился король, – заметил хозяин таверны.
– Странно?
– Похоже, король считает победу колоний возможной.
– Вряд ли, Дик. Тот, кто пишет ему речи – полагаю, какой-нибудь недоучка-секретарь этого лоботряса лорда Бьюта, – наверняка питает пристрастие к риторике. – Последнее слово он сопроводил жестом, прижав к губам указательный палец.
Хозяин таверны усмехнулся и плеснул рома в небольшую оловянную кружку, а затем обернулся, чтобы сделать пометку мелом на грифельной доске, висящей на стене.
– Дик, Дик! За такую весть мне полагается выпивка за счет заведения!
– Ну уж нет! Рано или поздно мы все равно узнали бы ее. – Хозяин таверны поставил локти на стойку в том месте, где за долгие годы образовались заметные потертости, и воззрился на вооруженного мистера Тислтуэйта в теплом пальто. Да он безумен, как мартовский заяц! Пальто – в такую нестерпимую жару! – Сказать по правде, Джимми, это вовсе не гром с ясного неба, и потом, все дурные известия одинаковы.
Никто даже не пытался вмешаться в разговор; Дик Морган пользовался уважением посетителей, а Джимми Тислтуэйт давно снискал репутацию одного из самых чудаковатых жителей Бристоля. Посетители довольствовались тем, что слушали беседу, потягивая каждый свое излюбленное питье – ром, джин, пиво, «бристольское молоко»[1].
Обе миссис Морган хлопотали поблизости, принося пустые кружки Дику, который наполнял их и делал на грифельной доске новые пометки. Близился обед; аромат свежего хлеба, только что принесенного Пег Морган от булочника Дженкинза, смешивался с обычными запахами таверны, расположенной неподалеку от бристольской пристани. Большинство собравшихся в таверне мужчин, женщин и детей не торопились, намереваясь отведать свежего хлеба со сливочным маслом и ломтем сомерсетского сыра и завершить трапезу дымящейся говядиной с картофелем в густой подливе, поданной на оловянном блюде.
Отец не спускал с Ричарда недовольного взгляда. С отчаянием чувствуя презрение Дика, Ричард отважился вступить в разговор.
– Мы надеялись, – нерешительно начал он, – что ни одна из колоний не поддержит Массачусетс – ведь их предупредили, что дело может зайти слишком далеко. Неужели они и вправду рассчитывали, что король удосужится прочесть их послание? И если прочтет, то согласится пойти на уступки? Они же англичане! Подданные нашего короля!
– Вздор, Ричард! – оборвал его мистер Тислтуэйт. – Слепая привязанность к ребенку лишила тебя способности мыслить! Король и его лизоблюды-министры стремятся ввергнуть наш благословенный остров в пучину бедствий! За последний год из тринадцати колоний было возвращено восемь тысяч тонн грузов, отправленных из Бристоля! Хозяин саржевой мануфактуры в Редклиффе разорился, четыреста человек лишились работы! Не говоря уже о работниках той фабрики близ Порт-Уолла, где расписывали ковры для Каролины и Джорджии! А те, кто делает трубки, мыло, бутылки, сахар и ром, – ты только подумай, Ричард! Мы живем за счет торговли по другую сторону океана, особенно с этими тринадцатью колониями! Объявить войну колониям – значит, своими руками погубить торговцев и тех, кто поставляет им товар!
– Насколько мне известно, – вмешался хозяин таверны, щурясь от дыма, – лорд Норт обнародовал «Воззвание о подавлении вооруженного мятежа».
– В этой войне нам нечего рассчитывать на победу, – заявил мистер Тислтуэйт, оборачиваясь и протягивая пустую кружку Мэг Морган.
Ричард предпринял еще одну попытку:
– Да полно тебе, Джимми! Мы победили Францию в Семилетней войне, Англия – величайшая страна мира! Король Англии не проигрывает в войнах…
– Только потому, что ведет их вблизи от Англии, или против язычников, или против невежественных дикарей, которых предают их вожди. Но жители тринадцати колоний, как ты справедливо заметил, англичане. Это цивилизованные люди, знакомые с нашими обычаями. В их жилах течет наша кровь. – Мистер Тислтуэйт распрямил плечи, вздохнул и сморщил аристократический, красный от неумеренных возлияний крупный нос. – Они мнят себя просвещенными людьми, Ричард. Навязывают свою волю, смеют спорить, смотрят сверху вниз. Да, они англичане, но отнюдь не в строгом смысле слова. И они находятся очень далеко, о чем в своем невежестве забывают король и его министры. Ты мог бы возразить, что мы выигрываем войны благодаря нашему флоту, – но сколько времени прошло с тех пор, когда мы в последний раз одержали победу или потерпели поражение за пределами наших островов благодаря сухопутным войскам? И разве мы способны выиграть войну на море, сражаясь против врага, у которого нет флота? Нам придется воевать на суше. На тринадцати клочках земли, не имеющих даже общих границ. С врагом, неспособным вести слаженные боевые действия.
– Ты только что опроверг самого себя, Джимми, – вставил хозяин таверны с улыбкой и не подумал взяться за мел, протягивая Мэг заново наполненную ромом кружку.
– Наша армия не имеет себе равных. Колонистам не выстоять против нее.
– Согласен, согласен! – воскликнул Джимми, жестом благодаря обычно скуповатого владельца таверны за дармовой ром. – Колонисты вряд ли выиграют эту битву. Но все дело в том, что им не понадобится вступать в сражения, Дик. Им требуется всего лишь выжить. Ибо нам придется воевать за их землю, а не за Англию.
Он сунул руку в левый карман пальто, извлек массивный пистолет и с грохотом опустил его на стойку под испуганные вскрики посетителей таверны. Ричард, держащий на коленях маленького сына, отвел дуло в сторону стремительным движением, которое никто не успел заметить. Все знали, что пистолет заряжен. Оставаясь глухим к вызванному им переполоху, мистер Тислтуэйт порылся в глубинах кармана, вытащил несколько свернутых листков тонкой бумаги и принялся изучать их один за другим сквозь очки, стекла которых увеличивали его бледно-голубые, налитые кровью глаза. Темные вьющиеся волосы мистера Джеймса Тислтуэйта выбились из-под ленточки, которой он небрежно перетянул их, – он не разменивался на парики и косицы.
– Вот оно! – наконец воскликнул он, разворачивая лондонскую газету. – Леди и джентльмены, завсегдатаи «Герба бочара», семь с половиной месяцев назад в палате лордов состоялись шумные дебаты, во время которых знаменитый старик Уильям Питт, граф Чатем, произнес свою величайшую речь. В защиту колонистов. Но меня взволновали не слова Чатема, – продолжал мистер Тислтуэйт, – а реплика герцога Ричмонда, цитирую: «Да, мы способны сеять ужас и разрушение, но все это не значит, что мы умеем править!» Как верно, как справедливо! А вот еще отрывок, где содержится одна из великих философских истин, хотя у лордов он вызвал лишь саркастические усмешки: «Ни один народ нельзя заставить подчиниться форме правления, воздействия которой он не ощущает».
Он огляделся и кивнул.
– Вот почему я утверждаю, что все битвы, которые мы выиграем, будут бесполезны и никак не повлияют на исход войны. Если колонисты выживут, они победят. – Блеснув глазами, он свернул газету, сунул всю пачку бумаг обратно в карман и отправил туда же пистолет. – Ты слишком много знаешь об оружии, Ричард, и в этом твоя беда. Ни ребенку, ни кому-либо из присутствующих не грозила опасность. – В горле у него зародилось ворчание, от которого задрожали поджатые губы. – Я всю жизнь провел в этой зловонной выгребной яме под названием Бристоль, от скуки развлекаясь тем, что превращал гноящиеся раны правительства тори, всех этих квакеров, шейкеров и «делателей королей», в темы для своих пасквилей. – Он помахал поношенной треуголкой своим слушателям и прикрыл глаза. – Если колонисты выживут, они победят, – повторил он. – У каждого жителя Бристоля найдется тысяча знакомых колонистов – город кишит ими, как ночь – летучими мышами. Распад империи, Дик, – вот первый предсмертный хрип наших английских глоток. Я знаком с колонистами и уверен, что они победят.
Странный зловещий звук ворвался в зал с улицы – гул множества сердитых голосов; фигуры смутных очертаний, неторопливо проплывающие за окнами, сменились быстро мелькающими тенями.
– Мятежники! – Вскочив на ноги, Ричард протянул ребенка жене. – Пег, скорее унеси Уильяма Генри наверх! Мама, ступай с ними. – Он обернулся к мистеру Тислтуэйту. – Джимми, ты намерен стрелять с обеих рук или, может быть, одолжишь мне второй пистолет?
– Боже упаси! – Дик вышел из-за стойки, и все присутствующие убедились, что он не уступает Ричарду ни ростом, ни крепостью телосложения. – Здесь, на Брод-стрит, мятежники не появлялись даже в те времена, когда из Кингсвуда нагрянули углекопы и сцапали старину Брикдейла. Такого не случалось, даже когда матросы подняли бунт! Что бы там ни было, это не мятеж. – Он направился к двери. – Но я хочу узнать, что происходит, – заключил он и затерялся в толпе. Посетители «Герба бочара» последовали за ним, среди них были и Ричард, и Джимми Тислтуэйт с торчащими из карманов рукоятками пистолетов.
На улице бурлила толпа, люди высовывались из каждого окна, рискуя свернуть шею; не видно было ни единого камня на мощеной улице, ни одной плиты тротуара, недавно проложенного по обе стороны Брод-стрит. Людской поток подхватил троих мужчин и понес к перекрестку Уайн-стрит и Корн-стрит. Но они оказались не в окружении мятежников, а в толпе состоятельных, донельзя рассерженных горожан, среди которых не было ни женщин, ни детей.
На противоположной стороне Брод-стрит, ближе к торговому кварталу вокруг муниципалитета и биржи, располагался постоялый двор «Белый лев», штаб-квартира «Общества непоколебимых». Так назывался клуб тори, оплот его величества короля Англии Георга III, подданных которого члены клуба с легкостью обрекали на смерть. Очагом волнений стала соседняя «Американская кофейня»; вывешенный над ней красно-белый полосатый флаг большинство американских колонистов считали своим знаменем – в тех случаях, когда флаг Коннектикута, Виргинии или другой колонии был неуместен.
– Пожалуй, – заговорил Дик Морган, тщетно приподнимаясь на цыпочки, – лучше будет вернуться в «Герб бочара» и посмотреть из окон верхнего этажа.
Так они и сделали, поднявшись по ветхой скрипучей лестнице за стойкой и прильнув к окнам мансарды, опасно нависающей над Брод-стрит. Из дальней комнаты слышался плач маленького Уильяма Генри, над колыбелью которого ворковали и хлопотали мать и бабушка. Суматоха на улице ничуть не интересовала Пег и Мэг, поскольку успокоить Уильяма Генри никак не удавалось. Шум не соблазнял и Ричарда, которого тянуло присоединиться к женщинам.
– Ричард, в ближайшие несколько минут с ним ничего не случится! – рявкнул Дик. – Иди сюда и смотри, черт бы тебя побрал!
Ричард нехотя подошел, выглянул в распахнутое окно и изумленно ахнул:
– Отец, янки! Господи, а это что за штуковины?
Штуковинами он назвал два сшитых из тряпок чучела, весьма умело набитых соломой, обмазанных еще дымящейся смолой и вывалянных в перьях. На головах у них красовались эмблемы колонистов – чудовищно старомодные, но очень удобные шляпы с низко опущенными широкими полями, в окружении которых низкая круглая тулья смотрелась точно желток посреди яичницы.
– Эй! – взревел Джимми Тислтуэйт, заметив знакомого, облаченного в дорогой костюм. Тот сидел на краю повозки, груженной высокими бочонками. – Мастер Харфорд, что происходит?
– «Общество непоколебимых» приговорило к повешению Джона Хэнкока и Джона Адамса! – выкрикнул в ответ богач квакер.
– Потому что генерал Гейдж отказался помиловать их после подписания соглашения?
– Не знаю, мастер Тислтуэйт. – Явно опасаясь язвительных насмешек, Джозеф Харфорд спустился со своего наблюдательного поста и растворился в толпе.
– Лицемер! – буркнул себе под нос мистер Тислтуэйт.
– Это не Джон, а Сэмюэл Адамс, – сообразил Ричард, в котором пробудилось любопытство. – Разве нет?
– Если «Общество непоколебимых» вознамерилось повесить богатейших купцов Бостона – тогда да, это должен быть Сэмюэл. Но Джон больше пишет и болтает, – откликнулся мистер Тислтуэйт.
В портовом городе добыть две веревки и затянуть петли не представляло труда; эти веревки появились как по волшебству, и вскоре две твердые, вывалянные в перьях куклы в человеческий рост были вздернуты на вывеске «Американской кофейни», лениво покачиваясь и продолжая медленно тлеть. Ярость угасла, толпа членов «Общества непоколебимых» постепенно вливалась в гостеприимно распахнутые синие двери «Белого льва».
– Тори – мерзавцы! – заявил мистер Тислтуэйт, спускаясь по лестнице и лелея мечту о кружке рома.
– Ступай прочь, Джимми! – отозвался хозяин таверны, спеша запереть дверь на засов, пока не кончатся уличные волнения.
Ричард не последовал за отцом вниз, хотя к этому призывал его долг: его имя было вписано рядом с именем Дика в книге Корпорации бристольских торговцев. Ричард Морган, трактирщик, заплатил пошлину и был признан фрименом – почетным, наделенным избирательным правом жителем города, образующего отдельный округ в отличие от соседних Глостершира и Сомерсетшира, гражданином второго по величине города всей Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии. Из пятидесяти тысяч душ, проживающих на территории Бристоля, только семь тысяч считались фрименами и имели право голосовать.
– Вакцина действует? – спросил Ричард у жены, склоняясь над колыбелью. Уильям Генри забылся беспокойным сном.
– Да, дорогой. – Нежные карие глаза Пег вдруг наполнились слезами, губы задрожали. – Теперь будем молиться, Ричард, чтобы он не заболел оспой. Впрочем, жар у него не такой сильный, как был у Мэри. – И она легонько подтолкнула мужа. – Ступай прогуляйся как следует. Можно и шагать, и молиться одновременно. Иди, Ричард, прошу тебя. Если ты останешься здесь, отец разворчится.
После кратковременной паники, которая охватывала город за считаные минуты, едва возникала угроза мятежа, Брод-стрит погрузилась в апатию. Проходя мимо «Американской кофейни», Ричард на минуту остановился, рассматривая раскачивающиеся чучела Джона Хэнкока и Джона или Сэмюэла Адамса. Из столовой «Белого льва», где обедали члены «Общества непоколебимых», до него долетали взрывы смеха и злобные выкрики. Губы Ричарда презрительно скривились; Морганы были преданными сторонниками вигов, их голоса обеспечили успех Эдмунду Берку и Генри Крюгеру на выборах в прошлом году – и каким же посмешищем они стали! А как разозлился лорд Клер, почти не получив голосов!
Быстрыми шагами Ричард двинулся по Корн-стрит мимо знаменитого постоялого двора «Куст», принадлежащего Джону Уику, где разместился клуб союза вигов. Возле него Ричард повернул на север, на Смолл-стрит, и вышел к Ки-Хед и Стоун-бриджу. Оттуда открывался изумительный вид – нечто вроде широченной улицы, заполненной кораблями в паутине такелажа. Над дубовыми корпусами судов возвышались только мачты, реи, штаги и тучи. С берега реки Фрум не было видно ничего – кроме множества кораблей, терпеливо ждущих, когда закончатся положенные двадцать недель стоянки и начнется новый рейс.
После отлива стремительно начинался новый прилив: за каких-нибудь шесть с половиной часов уровень воды во Фруме и Эйвоне поднимался на тридцать футов, а затем вновь падал на те же тридцать футов. Во время отлива корабли погружались в зловонный ил, круто спускающийся к середине реки, и медленно колыхались в нем; во время прилива корабли вновь держались на плаву, как и положено. Немало килей покривилось и покоробилось во время отлива в бристольском иле.
На время отвлеченные видом стройного ряда судов, мысли Ричарда вновь потекли по привычной колее.
«Господи Боже, услышь мою молитву! Спаси и сохрани моего сына! Не отнимай его у меня и его матери…»
Он был не единственным, но старшим сыном своего отца; его брат Уильям имел свою лесопилку на берегу Эйвона, близ Каколд-Пилл и стекольных заводов, а три сестры удачно вышли замуж за фрименов. В городе насчитывалось немало Морганов, но сам Ричард принадлежал к клану давних эмигрантов из Уэльса, которые прожили в Бристоле так долго, что сумели обрести твердое положение в обществе. И действительно, кузен Джеймс-аптекарь, гордость клана, владел крупным предприятием, входил в гильдию купцов и корпорацию, отправлял щедрые пожертвования в богадельни и надеялся когда-нибудь стать мэром.
Отец Ричарда не был ни гордостью клана, ни его позором. Окончив начальную школу, он некоторое время служил помощником трактирщика, получил патент, уплатил пошлину, стал фрименом и поставил перед собой цель купить собственную таверну. Женился он согласно своему положению в обществе: Маргарет Биггз происходила из состоятельной фермерской семьи, живущей близ Бедминстера, и вдобавок ко всем прочим достоинствам умела читать, хотя писать ее так и не обучили. Дети, первой из которых стала девочка, рождались у супругов слишком часто, и поэтому, потеряв кого-нибудь из них, родители не оставались безутешными. К тому времени как Дик научился владеть собой и вовремя отстраняться от жены, в семье остались двое сыновей и три дочери – неплохой выводок, достаточно малочисленный, чтобы родители могли обеспечить его. Дик мечтал дать образование только одному сыну и возложил свои надежды на Ричарда, когда стало ясно, что Уильям, который был моложе брата на два года, не способен к учению.
Поэтому, когда Ричарду минуло семь лет, его записали в Колстонскую школу для мальчиков и обрядили в пресловутый синий сюртук, извещающий бристольцев, что его отец – бедный, но респектабельный приверженец англиканской церкви. И само собой разумеется, на протяжении следующих пяти лет в голову Ричарда вдалбливали азы грамоты и арифметики. Он учился писать четким почерком, считать в уме, корпел над «Галльскими войнами» Цезаря, речами Цицерона и «Метаморфозами» Овидия, поощряемый жгучими ударами трости и язвительными замечаниями наставника. Поскольку учился Ричард прилежно, но не блестяще и был наделен неброской привлекательностью, годы пребывания в благотворительном заведении мистера Колстона он перенес лучше многих и с большей пользой для себя.
Когда Ричарду исполнилось двенадцать лет, пришло время дополнить образование изучением какого-нибудь ремесла. К изумлению родных, он не пошел по стопам Морганов. Среди достоинств Ричарда были способности к механике, к складыванию кусочков мозаики и поразительное для столь юного существа терпение. По собственному выбору он был отдан в ученики к сеньору Томасу Хабитасу, оружейному мастеру.
Этому решению втайне обрадовался отец Ричарда, довольный тем, что хоть кто-то из Морганов избрал стезю ремесленника, а не торговца. Кроме того, война была неотъемлемой частью жизни, а оружие – атрибутом войны. Человек, умеющий делать и чинить оружие, едва ли стал бы пушечным мясом на поле боя.
Семь лет ученичества принесли Ричарду немало радостей во всем, что касалось работы и учения, хотя удобства оставляли желать лучшего. Как и всем подмастерьям, ему не платили; он жил в доме хозяина, прислуживал ему за столом, питался объедками и спал на полу. К счастью, сеньор Томас Хабитас был добрым человеком и превосходным оружейником. Хотя он умел делать роскошные дуэльные пистолеты и охотничьи ружья, ему хватило проницательности сообразить: чтобы процветать в этих краях, надо быть по меньшей мере Ментоном, а быть Ментоном за пределами Лондона невозможно. Поэтому он решил заняться изготовлением армейского мушкета, известного каждому солдату и моряку под названием «смуглая Бесс»: все сорок шесть деревянных и стальных дюймов этого оружия были коричневыми, словно орех.
В девятнадцать лет Ричард успешно завершил учебу и покинул дом Хабитаса, но не его мастерскую. Став мастером, он продолжал изготавливать «смуглых Бесс». А потом он женился, что запрещалось ученикам, но дозволялось мастерам. Жена Ричарда была дочерью брата его матери и, следовательно, его двоюродной сестрой, но поскольку англиканская церковь не запрещала подобные браки, церемонию в церкви Святого Иакова провел сам кузен Джеймс-священник. Брак по расчету превратился в брак по любви, с каждым годом супруги все крепче привязывались друг к другу. Впрочем, путаница с именами возникала не раз, ибо Ричард Морган, сын Ричарда Моргана и Маргарет Биггз, взял в жены еще одну Маргарет Биггз.
Но пока оружейная мастерская Хабитаса процветала, на одинаковые имена никто не обращал внимания: молодая пара снимала две комнаты на Темпл-стрит, на другом берегу Эйвона, близ мастерской Хабитаса и синагоги.
Этот союз был заключен в тысяча семьсот шестьдесят седьмом году, через три года после бесславного завершения Семилетней войны с Францией; несмотря на победу, Англия погрязла в долгах и была вынуждена пополнять казну, повышая налоги и уменьшая расходы на содержание армии за счет массовых отставок. Оружие перестало пользоваться спросом. Один за другим ученики и подмастерья Хабитаса покидали мастерскую, пока наконец в ней не остались только Ричард да сам сеньор Томас Хабитас. А потом, вскоре после рождения малышки Мэри в тысяча семьсот семидесятом году, Хабитас нехотя отпустил Ричарда.
– Поработай у меня, – великодушно предложил Дик Морган. – Спрос на оружие – временное явление, а спрос на ром вечен.
Все разрешилось на редкость удачно, несмотря на путаницу с именами. Мать Ричарда все привыкли звать Мэг, а жену Ричарда – Пег, двумя разными уменьшительными от одного и того же имени Маргарет. Но и в масштабах страны подобные затруднения были нередкими: если не считать чудаковатых протестантов, нарекавших потомство мужского пола такими вычурными именами, как Крэнфилд и Онсифор, почти всех мужчин Англии называли Джонами, Уильямами, Генри, Ричардами, Джеймсами и Томасами, а почти всех женщин – Энн, Кэтрин, Маргарет, Элизабет или Мэри. Это был один из немногочисленных обычаев, объединявших все сословия – от высшего до низшего.
Пег, обаятельная, покладистая Пег, познала радость материнства не сразу. Своим первенцем, дочерью Мэри, она забеременела почти через три года после свадьбы, и вовсе не из-за недостаточного усердия супругов. Само собой, родители надеялись, что у них появится сын, и потому были разочарованы, когда им пришлось выбирать женское имя. Ричард остановил выбор на имени Мэри, редком для клана Морганов и, как откровенно высказался его отец, попахивающем католицизмом. Но это не имело значения. С той минуты, когда Ричард впервые взял новорожденную дочь на руки и с трепетом взглянул на нее, он обнаружил в себе неизведанный океан любви. Наделенный неистощимым терпением, он всегда любил детей и охотно возился с ними, но оказался совершенно не готов к чувствам, которые испытал, держа на руках малышку Мэри. Кровь от его крови, кость от его кости, плоть от его плоти.
Таким образом, теперь, когда у Ричарда появился ребенок, новое ремесло трактирщика устраивало его больше, чем оружейное дело: таверна принадлежала его семье, он мог постоянно быть рядом с дочерью, видеть ее и жену, наблюдать, как прекрасная грудь Пег служит подушкой для детской головки, а крошечный ротик впивается в сосок. Пег не жалела для малютки молока, с ужасом ожидая дня, когда Мэри придется отнять от груди и начать поить легким пивом. Ребенка, живущего в Бристоле, не пристало поить водой – впрочем, как и маленького лондонца! Несмотря на название, легкое пиво по праву причисляли к спиртным напиткам. Пег, дочь фермера, а вслед за ней и Мэг упорно твердили: дети, которых слишком рано начали поить пивом, в конце концов становятся пьяницами. Хотя Дик Морган, трактирщик с сорокалетним стажем, редко соглашался с сумасбродными выдумками женщин, на этот раз он охотно признал их правоту. Пег перестала кормить грудью дочь, когда ей минуло два года.
В то время им принадлежала первая собственная таверна Дика – «Колокол». Она располагалась на Белл-лейн и была частью лабиринта доходных домов, складов и подвалов, принадлежащих кузену Джеймсу-аптекарю, который занимал южную сторону узкого переулка вместе с богатыми американскими торговцами шерстью, компанией «Льюсли и К°». Следует добавить, что розничную торговлю кузен Джеймс-аптекарь вел в элегантной лавке на Корн-стрит; однако гораздо больше прибыли ему приносили производство и вывоз медикаментов и химических соединений – от сулемы (для лечения твердых шанкров) до лауданума и прочих опиатов.
В прошлом году, когда истек срок аренды таверны «Герб бочара» на углу Брод-стрит, Дик Морган не преминул воспользоваться случаем. Таверна на Брод-стрит! Хотя платить корпорации за аренду приходилось двадцать один фунт в год, чистый барыш владельца составлял целых сто фунтов в год![2] Дела шли успешно, поскольку семейство Морган не боялось тяжелой работы, Дик Морган никогда не разбавлял ром и джин, а еда, которую подавали в таверне на обед (около полудня) и на ужин (около шести вечера), была превосходной. Мэг прекрасно готовила простую пищу; все запутанные правила, восходящие к временам доброй королевы Бесс и ограничивающие деятельность бристольских трактирщиков – не выпекать хлеба, не покупать мяса нигде, кроме как у добросовестного мясника, – неукоснительно соблюдались, и сам Дик Морган считал их вполне разумными. Тот, кто своевременно платил по счетам, неизменно пользовался благосклонностью поставщиков. Даже когда наступали трудные времена.
«Я хотел бы, – мысленно рассуждал Ричард, обращаясь к незримому высшему существу, – чтобы ты не был так жесток. Твой гнев слишком часто обрушивается на невиновных. Прошу, спаси и сохрани моего сына…»
Вокруг него среди холмов и низин раскинулся Бристоль, утопающий в пыли и дыму, которые почти скрывали из виду шпили церквей. Лето выдалось на редкость жарким и сухим, и даже конец августа не принес облегчения. Листва вязов и лип на западе города, возле Колледж-Грин, и на юге, близ площади Королевы, выглядела увядшей и блеклой, лишенной блеска и свежести. Там и сям в небо поднимались столбы дыма – над литейными мастерскими во Фрайерс и Касл-Грин, над сахароварильнями в окрестностях Льюин-Мид, над шоколадными фабриками Фрая, стекольными заводами и печами для обжига извести. Если бы не западный ветер, к этому адскому смогу примешалась бы копоть из Кингсвуда – места, к которому бристольцы старались не приближаться без крайней необходимости. Угольные шахты и обширные плавильные заводы породили племя полудикарей, скорых на расправу и пылающих ненавистью к преуспевающим жителям Бристоля. Но те, кто знал о воздействии удушливых миазмов Кингсвуда, не удивлялись местным нравам.
Ричард приближался к территории, всецело принадлежащей судам, – к сухому доку Томбса, еще одному сухому доку, испарениям горячей смолы, недостроенным кораблям на стапелях, подобным остовам гигантских животных. В Кэнон-Марш он выбрал путь через канатный двор, а не по пружинящей под ногами тропе, вьющейся по берегу Эйвона. Ричард кивал канатчикам, которые мерили шагами положенные треть мили, скручивая пеньковые или льняные нити, выполняя очередной заказ – на тросы, швартовы или лини. Их руки и плечи напоминали веревки, которые они перевивали, ладони так загрубели, что совсем потеряли чувствительность, – разве они могли наслаждаться прикосновениями к женской коже?
Миновав единственный стекольный завод в конце Бэк-лейн и скопление печей для обжига извести, Ричард направился к Клифтону. Вдалеке возвышался мрачный Брэндон-Хилл, а впереди, среди беспорядочного нагромождения поросших лесом холмов, спускающихся к Эйвону, раскинулся один из районов города, о котором грезил Ричард, – Клифтон, где воздух был чист, вид живописных низин вызывал благоговейный трепет, ветер покачивал ветки адиантума и очанки, вереска в пурпурном цвету, майорана и диких гераней. Деревья сияли свежестью, в глубине парков виднелись величественные особняки – Манилла-Хаус, Голдни-Хаус, Корнуоллис-Хаус, Клифтон-Хилл-Хаус…
* * *
Заветной мечтой Ричарда было поселиться в Клифтоне. Жители Клифтона не страдали чахоткой, не болели дизентерией и флегмонозной ангиной, редко умирали от оспы. Здесь хватало места и беднякам, живущим в коттеджах и ветхих хижинах вдоль Хотуэллской дороги, у подножия холмов, и надменной знати, прогуливающейся в парках вокруг особняков с колоннами. Кем бы ни был житель Клифтона – матросом, канатчиком, мастером-корабелом или хозяином поместья, – он не знал болезней и не умирал задолго до приближения старости. Здешний люд мог уберечь своих детей.
Мэри была отрадой и утешением Ричарда. Все восхищались ее голубовато-серыми глазами, кудрявыми черными волосами, точеным материнским носиком и безупречной смуглой кожей, унаследованной от родителей. Она взяла лучшее от них обоих, со смехом повторял Ричард, а малышка льнула к его груди, с обожанием устремляя на него взгляд серых глаз – его глаз. Мэри была папиной дочкой, в этом никто не сомневался; оба не могли нарадоваться друг на друга. Эти двое казались единым целым, что вызывало легкое недовольство Дика Моргана. Вечно занятая Пег только улыбалась, ни разу не упрекнув обожаемого Ричарда за то, что ему досталась вся привязанность дочери, по праву принадлежащая матери. В конце концов разве так важно, от кого исходит любовь, если она есть? Не каждый мужчина способен быть хорошим отцом, большинство склонны воспитывать детей в строгости. Но Ричард ни разу не поднял руку на дочь.
Весть о второй беременности привела в радостный трепет обоих родителей: все три года, прошедших после рождения Мэри, они не переставали ждать и тревожиться. Теперь-то наконец у них появится сын!
– Это мальчик, – уверенно заявила Пег, едва ее живот округлился. – Я чувствую себя совсем иначе, не так, как в первый раз.
А потом вспыхнула оспа. Это случилось далеко не впервые, подобные вспышки переживало каждое поколение; смертность от оспы, как и от чумы, постоянно снижалась и вновь возрастала лишь во время самых опустошительных эпидемий. На улицах часто можно было встретить людей с лицами, изрытыми оспинами, – болезнь обезобразила их, но оставила в живых. На лице Дика Моргана виднелось несколько отметин, а Мэг и Пег в детстве перенесли коровью оспу и потому почти не пострадали. В деревнях бытовало поверье, что переболевшие коровьей оспой никогда не заразятся ею вновь. Поэтому, едва Ричарду минуло пять лет, Мэг отправила его в Бедминстер, на ферму к деду, где мальчик учился доить коров до тех пор, пока не заразился и не перенес неопасную и даже полезную оспу.
Точно так же Ричард и Пег намеревались поступить с Мэри, но вспышки коровьей оспы в Бедминстере прекратились. Девочке не исполнилось и четырех лет, когда у нее вдруг начался сильный жар. Изнывая от пронизывающей боли во всем теле, Мэри плакала и звала отца. Когда кузен Джеймс-аптекарь (Морганы доверяли ему больше, чем любому жителю Бристоля, гордо именующему себя врачом) осмотрел маленькую пациентку, его лицо омрачилось.
– Если жар спадет, как только появятся пятна, она выживет, – сообщил Джеймс. – Никакие лекарства не отменят волю Божью. Хорошенько согревайте ее и не вздумайте проветривать комнату.
Ричард помогал ухаживать за дочерью, часами сидел возле собственноручно сколоченной им колыбели, которая благодаря шарнирам покачивалась плавно и бесшумно. На четвертый день после начала лихорадки появились пятна – багровые гнойники, в середине которых сидели будто свинцовые пули. Ими были усыпаны лицо, руки до локтей, голени и ступни. Омерзительное, жуткое зрелище. Ричард разговаривал с малышкой, успокаивал ее, держал за мечущиеся ручонки, пока Пег и Мэг меняли белье и омывали маленькие ягодицы – сморщенные и высохшие, как у старухи. Но жар не утихал, волдыри лопались, оставляя рытвины, а жизнь в малышке теплилась еле-еле, как пламя свечи на ветру.
К тому времени кузен Джеймс-священник изнемог от множества заупокойных служб. Но поскольку родственные чувства были сильны у всех Морганов, он отпел трехлетнюю Мэри Морган, строго следуя обрядам англиканской церкви. Чуть не падающая от усталости, отягощенная животом Пег тяжело опиралась на руки тетки и свекрови, а Ричард безутешно рыдал, никому не позволяя приблизиться к нему. Его отцу, которому не раз довелось переживать смерть детей – а кто избежал этой участи? – такое проявление чувств казалось унизительным, недостойным мужчины. Но Ричарда не заботило то, что подумает о нем отец. Он ничего не замечал. Его крошка Мэри умерла, а он, который с радостью отдал бы за нее жизнь, остался в живых и испытывал щемящее чувство одиночества. Нет, Бог вовсе не добр, не благ и не милосерден. Бог – чудовище, более злобное, чем дьявол, который хотя бы не притворяется воплощением добродетели.
Дик и Мэг Морган искренне радовались тому, что вскоре Пег предстояло родить второго ребенка. Лишь появление нового малыша могло бы утешить Ричарда.
– Он может возненавидеть младенца, – тревожилась Мэг.
– Только не Ричард! – фыркнул Дик. – Он слишком чувствителен.
Дик оказался прав, а Мэг ошиблась: Ричард Морган во второй раз погрузился в океан любви, уже имея представление о том, как неизмерима его глубина. Он знал, как велик этот океан, как свирепы его штормы, понимал, что океан любви вечен. Ричард поклялся, что на этот раз научится держаться на плаву и перестанет попусту растрачивать силы в борьбе. Но решимости хватило ему всего на одну минуту, пока он вглядывался в лицо сына, рассматривал пухленькие ручонки, слышал биение сердца нового существа, поселившегося в юдоли скорбей. Кровь от его крови, кость от его кости, плоть от его плоти.
В те времена женщинам не полагалось выбирать имена своим детям. Эта задача была возложена на Ричарда.
– Назови его Ричардом, – посоветовал Дик, – по традиции.
– Ни за что. У нас в семье уже есть Дик и Ричард, как же мы будем звать малыша – Диконом или Ричем?
– А я бы хотела, чтобы его звали Луи, – невзначай заметила Пег.
– Еще одно имя католиков! – возмутился Дик. – И лягушатников!
– Я назову его Уильямом Генри, – решил Ричард.
– Биллом, в честь дяди? – переспросил довольный Дик.
– Нет, отец, не Биллом. И не Уиллом. Не Уилли, не Билли и даже не Уильямом. Его будут звать Уильям Генри, о нем узнают все, – заявил Ричард так решительно, что на этом спор и закончился.
Сказать по правде, это решение было благосклонно воспринято всем кланом. Тому, кто носит имя Уильям Генри, суждено стать великим человеком.
Свое мнение Ричард высказал вслух, показывая новорожденного сына мистеру Джеймсу Тислтуэйту. Тот только фыркнул.
– Хочешь, чтобы он повторил судьбу лорда Клера? – отозвался он. – Тот сначала был школьным учителем, женился на трех тучных, безобразных и до неприличия богатых старых вдовах, к счастью, быстро свел их одну за другой в могилу, стал членом парламента от Бристоля и познакомился с принцем Уэльским. Какой-то Роберт Наджент! Катающийся как сыр в масле, щедро одалживающий деньги Джорджи-Порджи-Мясному-Пудингу[3], нашему разжиревшему наследнику. Без процентов и требований возврата – до тех пор, пока на этот долг не обратил внимание сам король. Так пресловутый Роберт Наджент вознесся до титула виконта Клера, а теперь в честь его названа улица Бристоля. В конце концов он станет графом: осведомители из Лондона сообщают мне, что принц до сих пор пользуется его щедростью. Признайся, дорогой мой Ричард, этот школьный учитель многого добился.
– И вправду, – согласился Ричард, ничуть не оскорбленный сравнением. – Но я бы предпочел, – добавил он, помолчав, – чтобы Уильям Генри получил титул, став первым лордом адмиралтейства, военно-морским министром. Генералы выходят из знати, поскольку армейским офицерам приходится платить за чины, а адмиралам хватает вознаграждений за победы в бою и так далее.
– Речь истинного бристольца! Любой житель Бристоля помешан на кораблях. Право, Ричард, ты же видел их только издали. – Мистер Тислтуэйт отхлебнул рома и подождал, пока внутри распространится согревающее тепло.
– Мне достаточно того, что я могу любоваться кораблями, – ответил Ричард, прижимаясь щекой к головке Уильяма Генри.
– И ты никогда не мечтал побывать в других странах? Или хотя бы съездить в Лондон?
– Никогда. Я родился в Бристоле и умру здесь же. Я не бывал нигде, кроме Бата и Бедминстера. – Он приподнял Уильяма Генри и заглянул ребенку в глаза, взгляд которых был на удивление пристальным и осмысленным. – А ты, Уильям Генри? Может, ты когда-нибудь станешь путешественником?
Вопрос не требовал ответа. Ричарду было достаточно уже того, что Уильям Генри есть на свете.
Но и Пег, и Ричарда по-прежнему снедала тревога. Оба взволнованно обсуждали каждую мелочь в жизни Уильяма Генри – не слишком ли жидкий у него стул? не слишком ли горячий лоб? может, в его возрасте ребенок должен быть более подвижным? В первые шесть месяцев жизни Уильям Генри не давал родителям повода для серьезных волнений, но его бабушку и дедушку тревожило будущее: что произойдет, когда малыш станет более наблюдательным, начнет ползать, говорить и думать? Заботливые родители могут вконец избаловать свое чадо! Пег и Ричард с живым интересом и тревогой прислушивались к любым словам кузена Джеймса-аптекаря о том, чему уделяли внимание лишь немногие бристольцы и прочие англичане: о состоянии сточных канав, загрязненности воды во Фруме и Эйвоне, о вредных испарениях, которые зловещим туманом висели над городом и зимой, и летом. Замечание о загаженной выгребной яме на Брод-стрит заставило Пег несколько часов подряд простоять на коленях в чулане под лестницей, вооружившись тряпками и ведром, щеткой и дегтем, старательно отмывать древнее каменное сиденье и пол, а затем безжалостно белить стены. Тем временем Ричард отправился в муниципалитет и поднял там такой скандал, что выгребную яму наконец вычистили, а ее содержимое вывезли на повозках и сбросили во Фрум в Ки-Хед, по соседству с рыбным рынком.
Когда Уильяму Генри исполнилось полгода и у него начал складываться характер, дедушка и бабушка поняли, что такого ребенка невозможно избаловать. Он был настолько милым и послушным, что с благодарностью принимал любые знаки внимания, однако не жаловался, даже если не получал его. Он плакал лишь от боли или оттого, что его пугал какой-нибудь болван из таверны, хотя мистера Тислтуэйта, самого беспокойного из завсегдатаев «Герба бочара», малыш ничуть не боялся, как бы громко тот ни разглагольствовал. Уильям Генри рос вдумчивым и тихим ребенком и, хотя улыбался охотно, смеялся только изредка и никогда не капризничал и не дулся.
– Клянусь вам, у него темперамент монаха, – твердил мистер Тислтуэйт. – В вашей семье появился картезианец!
Пять дней назад до «Герба бочара» донесся слух, что в городе вспыхнула оспа, но случаи заболевания были еще слишком редкими, чтобы прибегать к карантину, первой и последней отчаянной надежде каждого города.
От испуга глаза Пег стали огромными.
– О, Ричард, только не это!
– Мы сделаем Уильяму Генри прививку, – решил Ричард и сразу послал письмо кузену Джеймсу-аптекарю.
Услышав, что от него требуется, аптекарь ужаснулся.
– Боже, Ричард, ни в коем случае! Оспу прививают взрослым людям! Никогда не слышал, чтобы вакцинации подвергали младенца, едва выросшего из пеленок! Она его погубит! Лучше бы вы отправили его на ферму или оставили здесь, но никого не подпускали к нему. И молитесь, что бы вы ни выбрали.
– Вакцинацию, кузен Джеймс. Она необходима.
– Ричард, я не стану делать ее! – Кузен Джеймс-аптекарь обернулся к Дику, который мрачно прислушивался к спору. – Дик, объясни же ты ему! Скажи хоть что-нибудь, умоляю!
Но неожиданно Дик пришел на выручку сыну.
– Джим, то, что ты предлагаешь, нам не подходит. Чтобы вывезти Уильяма Генри из Бристоля… нет, ты выслушай меня! – так вот, чтобы вывезти его из города, понадобится нанять повозку, а как знать, кто до этого сидел в ней? Или кого мы встретим на переправе в Роунхэм-Мидс? И потом, можно ли никого не подпускать к ребенку здесь, в таверне? По воскресеньям тут не протолкнешься. Ко мне собираются посетители со всего города. Нет, Джим, придется сделать вакцинацию.
– В таком случае я ни за что не ручаюсь! – воскликнул кузен Джеймс-аптекарь и, ломая руки, выбежал прочь – просить друга-врача найти жертву оспы, волдыри на теле которой уже лопнули.
Выполнить его просьбу было нетрудно: к тому времени в городе уже насчитывалось множество больных, преимущественно не старше пятнадцати лет.
– Помолись за меня, – попросил друга кузен Джеймс-аптекарь, погружая обычную штопальную иглу в лопнувший волдырь на лице двенадцатилетней девочки и поворачивая ее в ране, чтобы она покрылась гноем. Бедная маленькая пациентка! Ее миловидное личико навсегда останется обезображенным. – Помолись за меня, – повторил он, поднимаясь и укладывая иглу на слой корпии в жестяную коробку. – Молись, чтобы я не совершил убийство.
Аптекарь немедленно отправился в «Герб бочара», благо идти было недалеко. Усадив полуголого Уильяма Генри на колено, он достал из саквояжа штопальную иглу и крепко сжал ее в пальцах. Господи, а если малыш все-таки погибнет? Если он убьет его, да еще на глазах у посетителей таверны, самого мистера Тислтуэйта, негромко посвистывающего сквозь зубы, и Морганов, столпившихся вокруг, словно для того, чтобы удержать аптекаря, если он вдруг задумает побег? Все свершилось в одну секунду: аптекарь сдавил кожу на ручке Уильяма Генри чуть ниже левого плеча, воткнул в нее иглу и тут же вытащил ее.
Уильям Генри не вздрогнул и не расплакался: он устремил на потное лицо кузена Джеймса вопросительный взгляд огромных глаз, словно спрашивая: «Зачем ты это сделал? Мне же больно!»
«И вправду, зачем я сделал это? Никогда не видывал таких больших и удивительных глаз – ни у животного, ни у человека. Странный ребенок!»
Утирая слезы, аптекарь осыпал Уильяма Генри поцелуями, сунул иглу в коробку, чтобы затем сжечь ее в жарко натопленной печи, и передал малыша Ричарду.
– Вот и все. Теперь мне осталось лишь молиться. Но не о душе Уильяма Генри – душа младенца безупречно чиста, – а о моей собственной, чтобы я не совершил убийство. У вас найдется уксус и деготь? Мне надо обработать руки.
Мэг принесла кувшинчик уксуса, бутылку с дегтем, оловянное блюдо и чистую пеленку.
– В ближайшие три-четыре дня ничего не произойдет, – объяснял аптекарь, протирая руки уксусом, – а потом, если вакцина подействовала, у него начнется жар. Если жар будет не слишком сильным, все обойдется. Место укола воспалится, на нем образуется волдырь, который вскоре лопнет. Если нам повезет, этот волдырь будет единственным. Но утверждать наверняка я не стану; я сам не рад, что ввязался в это дело.
– Ты лучший человек в Бристоле, кузен Джеймс! – весело выкрикнул мистер Тислтуэйт.
На пороге кузен Джеймс-аптекарь помедлил.
– Я тебе не кузен, Джимми Тислтуэйт, – у тебя нет родных! Даже матери, – ледяным тоном процедил он, поправил парик и скрылся за дверью.
Хозяин таверны затрясся от хохота.
– Здорово он тебя поддел, Джимми!
– Верно, – невозмутимо усмехнулся Джимми. – Не бойся, – обернулся он к Ричарду, – Господь пощадит кузена Джеймса.
Погруженный скорее в раздумья, чем в молитву, Ричард вернулся в «Герб бочара» как раз к ужину. Сегодня посетителей предстояло кормить ячменным супом с говядиной и пухлыми жирными клецками, а к нему подать хлеб, сливочное масло, сыр, пироги и напитки.
Паника давно угасла, Брод-стрит стала прежней – только чучела Джона или Сэмюэла Адамса и Джона Хэнкока еще покачивались на шесте возле «Американской кофейни». «Вероятно, они провисят здесь до тех пор, пока ветер не выдует солому и от чучел останутся лишь грязные тряпки», – размышлял Ричард.
Мимоходом кивнув отцу, Ричард поднялся по лестнице к себе в комнату, которую Дик отгородил по обычаям того времени – дощатой стеной, не доходящей до потолка, напоминающей остов корабля и испещренной щелями, куда без труда можно было заглянуть.
В комнате Ричарда и Пег стояли превосходная двуспальная кровать с плотными льняными занавесками на прутьях, соединяющих четыре высоких столбика, несколько сундуков для одежды, шкаф для обуви, на стене висело зеркало, перед которым прихорашивалась Пег, там же был вбит десяток крючков и покачивалась колыбель Уильяма Генри. Здесь не было ни обоев стоимостью пятнадцать шиллингов за ярд, ни штор из дамаста, ни ковров на дубовом полу, почерневшем еще два столетия назад, но эта комната ничем не уступала домам, владельцы которых занимали такое же положение, а именно принадлежали к среднему классу.
Пег сидела у колыбели, осторожно покачивая ее.
– Как он, дорогая?
Пег подняла голову и удовлетворенно улыбнулась:
– Вакцина подействовала. У него начался жар, но не сильный. Пока ты гулял, заходил кузен Джеймс-аптекарь, осмотрел малыша и вздохнул с облегчением. Он уверен, что Уильям Генри не заболеет оспой.
Ричард догадался, что малыш спит на правом боку потому, что ранка на левой руке еще ноет. Левую руку он удобно уложил на грудь. Там, где в руку вонзилась игла, вспух багровый волдырь. Поднеся к нему руку, Ричард ощутил жар.
– Но еще слишком рано! – воскликнул он.
– Кузен Джеймс говорит, что такое часто бывает при вакцинации.
У Ричарда, узнавшего, что его сын переживет страшное испытание, вдруг задрожали колени. Он подошел к крюку, вбитому в стену, и снял с него плотный парусиновый передник. «Надо помочь отцу. Слава Богу, слава Богу!» Продолжая благодарить Господа, он спустился по лестнице, совсем забыв, что, пока на ручке Уильяма Генри не появился волдырь, он даже не рассчитывал на Божью помощь.
В таких заведениях, как «Герб бочара», спокойная атмосфера долгих летних вечеров сама по себе была благом. Таверну постоянно посещали люди, зарабатывавшие себе не только на хлеб, – торговцы и ремесленники вместе с женами и детьми. За три-четыре пенса каждый из них получал обильную и вкусную снедь, а также большой кувшин легкого пива. А те, кто предпочитал крепкое пиво, ром, джин или «бристольское молоко» (херес особенно нравился женщинам), еще за шесть пенсов выпивали ровно столько, чтобы благополучно добраться домой и тут же заснуть вдали от случайных прохожих и ночных грабителей, которыми кишели улицы после наступления темноты.
Ричард спустился в большой зал, освещенный золотистыми лучами заходящего солнца и масляными светильниками, свисающими со стен и потолочных балок, которые казались особенно черными рядом с чисто выбеленными стенами. Единственная переносная лампа в таверне стояла на противоположном конце стойки от Джинджера, местной достопримечательности.
Джинджером прозвали большого деревянного кота, которого Ричард вырезал после того, как прочитал о знаменитом «старом Томе» из Лондона, и загордился собой, так как сумел усовершенствовать оригинал. Этот огненно-рыжий полосатый кот с приоткрытым ртом и лихо задранным хвостом сидел, повернувшись кормой к посетителям таверны. Желая выпить рома, посетитель клал в рот коту трехпенсовую монетку, нажимал на гибкий язык и слышал громкий щелчок. Затем он подставлял кружку под весьма натуралистичную мошонку кота, дергал его за хвост и немедленно получал почти полпинты чистого рома.
Само собой, чаще всего услугами Джинджера пользовались дети старшего возраста; немало пап и мам выпивали больше, чем следовало, лишь бы доставить чадам удовольствие сунуть монетку в рот коту, дернуть его за хвост и посмотреть, как он изливает струю рома. Даже если бы Ричард больше ничего не сделал для таверны, он все равно сумел оправдать щедрость отца, который взял его на работу.
Шагая по усыпанному опилками полу с деревянными мисками дымящегося супа в обеих руках, Ричард обменивался замечаниями с завсегдатаями таверны и оживлялся, сообщая о том, что состояние Уильяма Генри больше не внушает опасений.
Мистера Тислтуэйта в таверне не было. Обычно он приходил в одиннадцать утра и до пяти часов сидел за «своим» столом возле окна, вооружившись чернильницей и несколькими перьями (по требованию Дика Моргана бумагу он покупал сам) и сочиняя фельетоны. Их печатали в книжной лавке Сендолла на Уайн-стрит и там же продавали, хотя мистер Тислтуэйт также сбывал свои творения на лотках в Пай-Паудер-корт и на конском рынке, подальше от заведения Сендолла, чтобы не лишать его законной прибыли. Фельетоны пользовались спросом, ибо мистер Тислтуэйт любил и умел находить сочные эпитеты. Обычно его жертвами становились главы корпорации – от мэра до начальника таможни и шерифа, а также священники, подверженные плюрализму, и судьи. Но почему он ополчился против лудильщика Генри Бергама, оставалось загадкой. Да, Бергам был хамом и мужланом, но чем он насолил мистеру Джеймсу Тислтуэйту?
Час ужина наступил и миновал, оставив приятное ощущение сытости и довольства. Как только старые часы, висящие на стене рядом с грифельной доской, пробили восемь, Дик Морган объявил:
– Платите по счетам, джентльмены!
Доверху наполнив жестяную кассу, он выпроводил за дверь последнего посетителя и задвинул тяжелый засов. Кассу Дик уносил с собой наверх и прятал под кровать, привязывая веревкой к большому пальцу ноги. Воров в Бристоле было в избытке, некоторые отличались удивительным мастерством. Утром Дик пересыпал монеты в холщовый мешок и относил его в Бристольский банк на Смолл-стрит – учреждение, которое возглавляли Харфорд, Эймс и Дин. Какому бы из трех бристольских банков ни отдавал предпочтение горожанин, его деньгами неизменно распоряжались квакеры.
Уильям Генри крепко спал, лежа на правом боку. Ричард перенес колыбель поближе к кровати, снял передник, просторную белую рубашку, льняные панталоны, башмаки, толстые белые нитяные чулки и фланелевое белье. Облачившись в льняную ночную рубашку, заботливо разложенную Пег на подушке, он развязал ленточку, перехватывающую длинные локоны, и надел на голову ночной колпак. Покончив с туалетом, он со вздохом нырнул под одеяло.
Разнообразные звуки доносились из-за стены, отделяющей спальню Ричарда от комнаты, где спали Дик и Мэг. Эти звуки казались итогом всей жизни. Дик издавал звучный храп, а Мэг сопела с присвистом. Улыбаясь, Ричард перекатился на бок и обнял Пег, которая поближе придвинулась к нему и поцеловала в щеку. Бережным жестом Ричард приподнял свою ночную рубашку и рубашку жены, прижался к Пег и подхватил ладонью ее высокую упругую грудь.
– О, Пег, как я люблю тебя! – прошептал он. – Лучшей жены не доставалось ни одному мужчине.
– Ни одной женщине не доставалось лучшего мужа, Ричард.
В полном согласии они поцеловались, соприкасаясь бархатистыми языками. Пег прильнула к набухшему орудию мужа и довольно замурлыкала.
– Может быть, – пробормотал Ричард немного погодя, чувствуя, как у него слипаются глаза, – у Уильяма Генри скоро появится брат или сестра…
Едва успев договорить, он погрузился в сон.
Несмотря на усталость, Пег оправила мужу ночную рубашку, а затем одернула свою, ощупав влажное пятно на простыне. «Какая досада, что мать и отец храпят, – подумала она. – Ричард не храпит, и я тоже, как уверяет он. Но с другой стороны, если они храпят – значит, спят и ничего не слышат. Спасибо тебе, Господи, за заботу о моем мальчике. Знаю, он так послушен, что ты наверняка не прочь забрать его на небеса, но ему найдется место и на земле, так пусть он попытает удачу. Но почему, Господи, мне кажется, что у меня больше никогда не будет детей?»
Пег и вправду так казалось, и эти мысли были мучительными. Целых три года она ждала первой беременности, затем прошло еще три года, прежде чем она забеременела во второй раз. И дело было вовсе не в том, что она с трудом вынашивала детей, мучилась тошнотой или судорогами. Просто сердце подсказывало Пег, что ее чрево утратило плодовитость. Ричард ни в чем не виноват. Стоило ей бросить в его сторону призывный взгляд, он охотно принимал предложение и никогда не разочаровывал ее в постели – за исключением тех случаев, когда бывал болен ребенок. Какой внимательный и добрый возлюбленный, заботливый и любящий муж! Собственные удовольствия и желания значили для него гораздо меньше, чем потребности близких – особенно Пег и Уильяма Генри. И Мэри. Слезы заструились по щекам Пег и закапали на подушку все быстрее и быстрее. «Дети не должны умирать раньше своих родителей. Это нечестно, несправедливо. Мне всего двадцать пять лет, а Ричарду – двадцать семь, – думала Пег. – Но мы уже потеряли своего первенца, и как же мне недостает его! Как я тоскую по дочери!»
Выплакавшись и начиная засыпать, Пег решила завтра же отправиться на кладбище у церкви Святого Иакова и положить цветы на могилу Мэри. Скоро наступит зима, когда цветов уже не найти.
Наступила зима – привычные для Бристоля туманы, изморось, сырой холод, пробирающий до костей; не скованные льдом, который зачастую брал в объятия Темзу и другие реки Восточной Англии, воды Эйвона поднимались на тридцать футов и опять опускались так же ритмично и предсказуемо, как летом.
До Бристоля доходили вести о войне в тринадцати колониях, даже те, о которых не сообщали газеты. Генерал Томас Гейдж покинул пост главнокомандующего армии его величества короля Великобритании, его место занял сэр Уильям Хоу[4]. Поговаривали, что мятежный Континентальный конгресс[5] обратился к французам, испанцам и голландцам за помощью и деньгами. Ожидалось, что король отомстит бунтарям: на святки парламент запретил торговлю с тринадцатью колониями и объявил, что Англия слагает с себя обязанность защищать их. Эти вести повергли Бристоль в смятение.
Среди влиятельных бристольцев насчитывалось немало тех, кто жаждал мира любой ценой и был готов удовлетворить любые требования американских мятежников; находились и такие, кто сурово обличал мятежников, но мечтал укрепить могущество Британской империи, опасаясь, что, если побережье Англии длиной в тысячу миль останется незащищенным, французы вернутся вместе с испанцами; были и те, кто негодовал, проклинал мятежников, называл их предателями, которых давно пора четвертовать и повесить, и не желал слышать даже о малейших уступках. Естественно, последние пользовались особым влиянием среди прихожан местных церквей, но, какого бы мнения ни придерживались состоятельные горожане, все они предрекали беду, собравшись в гостиных лучших домов, и впадали в мрачную задумчивость над портвейном и черепаховым супом в «Белом льве», «Кусте» и «Плюмаже».
Помимо тонкой прослойки влиятельных бристольцев, существовал обширный слой горожан, которые знали только, что найти работу становится все труднее, что все больше кораблей подолгу простаивают на якоре в порту, что давно прошли те времена, когда можно было бастовать, требуя грошовой прибавки к жалованью. Поскольку парламент умел тратить деньги, но отнюдь не раздавать их нуждающимся, заботы о растущем числе безработных легли на состоятельных прихожан – при условии, что они действительно прихожане, внесенные в церковные книги. Каждый безработный прихожанин получал по семь фунтов в год из суммы, собранной корпорацией, – на эти деньги и жили бедняки.
В некотором отношении Бристоль отличался от всех английских городов – по причине, которую не так-то легко объяснить. Его высшие классы питали необычную склонность к филантропии – как при жизни, так и после смерти. Вероятно, причина заключалась в том, что богадельни, дома призрения, больницы и школы называли в честь тех, кто жертвовал на них средства, и таким образом благодетели обретали своего рода бессмертие, даже если не могли похвастаться аристократическим происхождением. В том, что касалось происхождения и родословных, высшие классы Бристоля отличала полная посредственность. Лорд Клер, бывший школьный учитель Роберт Наджент, стал образцом дворянина, какого было только способно породить высшее общество Бристоля. Могущество Бристоля прочно опиралось на алтарь Маммоны.
Итак, тысяча семьсот семьдесят шестой год наступил подобно зловещей тени, видимой лишь краем глаза. К тому времени все сошлись во мнении, что королевские армия и флот растопчут последние угли революции в Нью-Гемпшире и Джорджии. Но о славной победе было что-то не слыхать, хотя все, кто умел читать – а они считались образованными людьми, – то и дело собирались на постоялых дворах, ожидая приезда лондонского дилижанса, привозящего газеты и журналы.
Хозяевам и посетителям «Герба бочара» тоже пришлось потуже затягивать пояса и с горечью убеждаться в том, что с каждой неделей число завсегдатаев неуклонно уменьшается. Но вместе с тем сокращались и расходы: Мэг приходилось реже стряпать, Пег приносила меньше хлеба от булочника Дженкинза, а Дик покупал больше кислого дешевого вина, чем густого ароматного рома, изготовленного самим мистером Кейвом.
– Я никого не хочу обидеть, – заявила Пег однажды январским днем, когда из-за снегопада приток посетителей в «Герб бочара» резко сократился, – но наверняка некоторым горожанам не пришлось бы голодать, если бы они пили поменьше.
Дик метнул в Ричарда выразительный взгляд, но промолчал.
– Дорогая, – произнес Ричард, забирая у матери Уильяма Генри, – так уж устроен мир, именно поэтому не приходится голодать нам. Давай не будем об этом, чтобы ненароком кого-нибудь не оскорбить. Мужчины и женщины вольны сами выбирать, чем наполнить желудок. Некоторым и жизнь не в радость без ежедневной полупинты рома или джина, а кое-кто так страдает, что совсем не может обойтись без спиртного. – Он пожал плечами, взъерошил темные кудряшки Уильяма Генри и улыбнулся, глядя в удивленные глаза сына. – У каждого своя боль, Пег.
Наступил январь, а число кораблей, стоящих у причалов, не уменьшилось. Сочувствие к мятежникам давно вытеснили горечь и раздражение. «Юнион-клуб» на постоялом дворе «Куст», некогда осаждавший короля петициями с требованием прекратить облагать налогами колонии и управлять ими издалека, хранил гробовое молчание; в «Белом льве» тори разглагольствовали все громче, уверяли короля в преданности и поддержке, собирали средства на экипировку местных войск и пытались разузнать о двух членах парламента от партии вигов и Бристоля – ирландце Эдмунде Берке и американце Генри Крюгере.
«Общество непоколебимых» утверждало, что за год войны Бристоль успел истечь кровью, тем более что виги в парламенте представлены красноречивым ирландцем и немногословным американцем. Настроения резко переменились, горожане пали духом. Пора покончить с войной в стране, расположенной за три тысячи миль от родины, старые связи изжили себя, пора заняться новыми делами, причем как подобает! И пусть мятежники катятся ко всем чертям!
Ночью шестнадцатого января, во время отлива, кто-то поджег корабль «Саванна Ла-Мар», готовый отправиться с грузом на Ямайку, а покамест стоящий у большого причала, неподалеку от гавани Старого Ника. Судно обмазали смолой, маслом и скипидаром, и спасти его удалось только чудом; к тому времени, как двое городских пожарных прибыли с сорокагаллонной бочкой воды, несколько сотен матросов и портовых рабочих уже потушили пламя, к счастью, не успевшее нанести кораблю серьезный ущерб.
Утром портовые власти и полиция обнаружили, что корабли «Слава» и «Гиберния», стоящие к югу и к северу от «Саванны Ла-Мар», тоже были обмазаны горючими веществами и подожжены. Непостижимым образом оба судна не загорелись.
– Измена в Бристоле! Мог загореться весь порт, доки, а затем и город! – взволнованно объявил Дик Ричарду, едва вернувшись с пристани, где произошел поджог. – Да еще во время отлива! Ничто не могло помешать пламени перекинуться на соседние суда. Господи, Ричард, это было бы страшнее большого лондонского пожара! – И он вздрогнул.
В то время люди ничего не боялись сильнее, чем огня. Даже углекопы из Кингсвуда не внушали такого ужаса – разъяренная толпа представляла меньшую опасность, чем пожар. Толпы состояли из мужчин и женщин, волокущих за собой детей, а огонь направляла могущественная десница Бога, он вел прямиком к вратам ада.
Восемнадцатого января мертвенно-бледный кузен Джеймс – аптекарь привел плачущую жену и детей к Дику Моргану.
– Ты не мог бы приютить Энн и девочек? – с дрожью спросил Джеймс. – Я никак не могу убедить их, что в нашем доме им ничто не угрожает.
– Боже милостивый, Джим, в чем дело?
– Пожар, – выдохнул аптекарь и схватился за стойку, чтобы не упасть.
– Вот, возьми. – Ричард протянул ему кружку лучшего рома, а Мэг и Пег захлопотали вокруг Энн и перепуганных детей.
– Дай выпить и ей, – велел Дик. Мистер Джеймс Тислтуэйт бросил перо и подошел поближе. – Ну, рассказывай, Джим.
Потребовалась целая четверть пинты рома, чтобы кузен Джеймс-аптекарь вновь обрел дар речи.
– Посреди ночи кто-то взломал дверь моего большого склада – а ты ведь знаешь, Дик, как она прочна, сколько на ней замков и засовов! Злоумышленник разыскал скипидар, облил им большой ящик и наполнил его паклей, опять-таки вымоченной в скипидаре. А потом ящик прислонили к бочонкам с льняным маслом и подожгли. Разумеется, в то время на складе никого не было. Никто не видел поджигателя, никто не заметил, как он исчез.
– Ничего не понимаю! – вскричал Дик, побелев, как его кузен. – Отсюда недалеко до угла Белл-лейн, но клянусь тебе, мы не слышали ни звука, ничего не видели и не почуяли запаха гари!
– Ящик не загорелся, – странным тоном отозвался кузен Джеймс-аптекарь. – Слышишь, Дик, не загорелся! А он должен был вспыхнуть! Придя утром на склад, я нашел его. Сначала я думал, что дверь взломал тот, кто нуждался в опиатах или других лекарствах, но едва вошел, как почуял запах скипидара. – Голубовато-серые глаза Моргана блеснули при этом воспоминании. – Это чудо! – воскликнул он. – Чудо! Бог спас меня, и я непременно пожертвую церкви Святого Иакова тысячу фунтов для бедняков!
Эти слова произвели впечатление даже на мистера Тислтуэйта.
– Я был бы счастлив написать панегирик, кузен Джеймс, и воспеть тебя в печати. – Он нахмурился. – Но я чувствую, в Бристоле что-то назревает, – это несомненно. И «Саванна Ла-Мар», и «Гиберния», и «Слава» принадлежат американской компании «Льюсли», а их контора расположена по соседству с твоим домом, на Белл-лейн. Вероятно, поджигатель ошибся дверью. На твоем месте я сообщил бы об этом хозяевам «Льюсли». Тори явно сговорились выжить американцев из Бристоля.
– Ты во всем видишь происки тори, Джимми, – с улыбкой вмешался Ричард.
– Так или иначе, тори – презренные трусы. – Мистер Тислтуэйт опять уселся за стол, иронически закатывая глаза при виде женской истерики. – Лучше бы ты выпроводил их домой, Дик. Оставь здесь Ричарда с одним из моих пистолетов – вот, возьми, Ричард! Я сумею защититься и одним. Но мне совершенно необходима тишина. Меня посетила муза, у меня появилась тема для нового панегирика.
Никто не обратил на его слова никакого внимания, но когда таверну начали заполнять посетители, пришедшие на обед, а град вопросов о том, что же все-таки произошло на складе Моргана, усилился, Ричард решил последовать совету мистера Тислтуэйта. Сунув в один карман пальто кавалерийский пистолет, а в другой – десяток картонных гильз, он проводил Энн Морган и ее двух дурнушек дочерей в элегантный особняк, расположенный в Сент-Джеймс-Бартон. Там Ричард устроился на стуле в прихожей, чтобы одним своим видом отпугивать поджигателей.
За каких-нибудь два дня, с четверга до субботы, весь Бристоль охватили беспомощность и паника. Сторожа и заново назначенные констебли рьяно взялись за исполнение своих обязанностей; уже в пять часов дня зажигали фонари на тех улицах, где они имелись; фонарщики суетились с лестницами, наполняя резервуары фонарей, чем прежде они занимались крайне редко. Люди рано расходились по домам, горько сожалея о том, что стоит зима и над городом витает запах древесного дыма. В ночь на субботу в городе почти никто не спал.
Девятнадцатого января, в воскресенье, все бристольцы, за исключением евреев, собрались в церкви, моля Бога о милосердии и прося его отомстить слугам дьявола. Кузен Джеймс – священник, которому никогда не изменяло красноречие, прочел свою лучшую проповедь, слегка изумившую прихожан церкви Святого Иакова: ее сочли явно иезуитской и вместе с тем – методистской.
– Лично мне, – заявил Дик в ответ на одно такое замечание, – все равно, кого напоминал его преподобие – иезуита или методиста. Поджигателя следует повесить, чтобы мы могли спать спокойно. И потом, разве вы не помните, каким отважным проповедником был отец его преподобия? Он произносил проповеди под открытым небом, обращаясь к углекопам в Крус-Хоул.
– «Общество непоколебимых» обвиняет в случившемся американских колонистов.
– Маловероятно! Американские колонисты скорее кажутся жертвами. – Этими словами Дик положил конец разговору.
В ночь с воскресенья на понедельник Ричард вдруг очнулся от тревожного сна.
– Папа, папа! – громко звал Уильям Генри из колыбели.
Рывком вскочив, Ричард зажег свечу и с колотящимся сердцем склонился над ребенком, который сидел в постели.
– Что случилось, Уильям Генри? – прошептал Ричард.
– Пожар, – отчетливо выговорил малыш.
Видимо, беспокойство о здоровье сына лишило Ричарда обоняния: комнату переполнял дым.
В решающие минуты Ричард действовал быстро, аккуратно и хладнокровно; одеваясь, он разбудил отца, но не стал ждать его, а бросился вниз по лестнице со свечой, схватил два ведра, отодвинул засов на двери таверны и помчался по скользкому от дождя тротуару. Добежав до угла Белл-лейн, Ричард в ужасе застыл: все склады компании «Льюсли и К°» пылали, пламя вырывалось из-под крытых черепицей крыш, озаряя узкую грязную улицу зловещим багровым светом. Слышался оглушительный рев и треск, огонь пожирал испанскую шерсть, зерно и бочонки с оливковым маслом так стремительно, как не мог бы пожрать даже пеньку и скипидар.
Люди с ведрами в руках сбегались со всех сторон, выстраивались в шеренги, растянувшиеся от Фрума до складов компании. Отлив еще не начался, и потому было довольно просто окунать ведра в воду и передавать их по цепочке. Общими усилиями горожане не выпустили пламя за пределы складов «Льюсли и К°» и нескольких ветхих доходных домов; склады кузена Джеймса-аптекаря, расположенные по соседству, остались невредимыми. Жертв не оказалось – видимо, поджигатель стремился прежде всего уничтожать собственность, а не отнимать жизни. Обитатели доходных домов вовремя покинули их, вцепившись в скудные пожитки и прижимая к себе ревущих детей.
Покрытый копотью Ричард вернулся в «Герб бочара», едва шериф и его помощники объявили, что Белл-лейн вне опасности. Он потерял оба ведра; только Богу было известно, кому они достались. Его отец и кузен Джеймс-аптекарь сидели за столом, выказывая явные признаки усталости; принадлежа к старшему поколению, они некоторое время пытались угнаться за молодыми мужчинами, а затем охотно передали ведра подоспевшим жителям дальних кварталов.
– Завтра во всем городе вырастет спрос на ведра, Ричард, – сообщил Дик, протягивая сыну кружку пива, – поэтому я отправлюсь к меднику спозаранку и куплю сразу десяток. Куда катится мир?
– Дик, – произнес кузен Джеймс-аптекарь, на лице которого был написан восторг, – уже второй раз за эти сутки Господь пощадил меня и моих родных! Я чувствую себя, как… как Павел на пути в Дамаск!
– Неудачное сравнение, – заметил Ричард, жадно отхлебывая пиво. – Ты же никогда не преследовал верующих, кузен Джеймс.
– Да, Ричард, но мне было откровение. Дабы отблагодарить Бога, я пожертвую фунт стерлингов каждому узнику тюрем Ньюгейт и Брайдуэлл.
– Ха! – осклабился Дик. – Поступай, как тебе угодно, Джим, но знай, что они потратят деньги на выпивку в тюремном погребке.
Их голоса долетели до комнат верхнего этажа. Мэг и Пег спустились вниз, закутанные в шали. Пег несла на руках Уильяма Генри, глаза которого блестели.
– Вы невредимы! Какое счастье!
Ричард отставил кружку и подхватил на руки малыша, сразу прильнувшего к нему.
– Отец, меня разбудил Уильям Генри. Он произнес «пожар» так, словно знал, что это такое.
Кузен Джеймс-аптекарь задумчиво воззрился на Уильяма Генри.
– Странный ребенок… Должно быть, сразу после рождения его подменили эльфы.
Пег ахнула:
– Кузен Джеймс, не говорите так! Если эльфы подменили моего сына, когда-нибудь его заберут обратно!
С трудом поднимаясь на ноги, кузен Джеймс-аптекарь вспомнил о давнем деревенском поверье и понял, что странности Уильяма Генри не ускользнули от взгляда его матери. И вправду, обычный ребенок вряд ли пережил бы вакцинацию.
Уничтожив склады компании «Льюсли и К°», поджигатель не успокоился. Уже в понедельник пламя заплясало над десятком других складов и фабрик, принадлежащих американцам. Во вторник запылал сахарный завод олдермена Барнза; его владелец не скрывал, что сочувствует колонистам. Но к этому времени переполошился весь Бристоль, люди оставались начеку, и потому пожары потушили прежде, чем огонь успел причинить ущерб строениям. Через три дня сахарный завод олдермена Барнза вспыхнул вновь, и его опять удалось спасти.
Политические круги пытались нажиться на чужом горе: тори обвиняли вигов, а виги предъявляли обвинения тори. Эдмунд Берк предложил пятьдесят фунтов за сведения, гильдия купцов – пятьсот, а сам король – тысячу. Поскольку тысячу пятьсот пятьдесят фунтов невозможно было заработать и за целую жизнь, все бристольцы превратились в сыщиков и принялись выискивать подозреваемых – но, конечно, награда никому не досталась. Подозрение пало на шотландца по прозвищу Джек-маляр, который жил то в одном, то в другом доме на Питэй, кривой улочке, выбегавшей к Фруму близ церкви Святого Иакова: после второй попытки поджога сахарного завода олдермена Барнза Джек вдруг исчез. Хотя никакой видимой связи между ним и пожарами не существовало, все бристольцы пришли к убеждению, что он и был поджигателем. Поднялись шум и суматоха, масла в огонь подливали лондонские и местные газеты. Жители всех графств Англии, от Тайна до Ла-Манша, требовали поскорее схватить маньяка. Беглец был пойман во время попытки ограбления дома разбогатевшего в Индии купца из Ливерпуля и после уплаты ста двадцати восьми фунтов из средств корпорации и гильдии купцов в кандалах доставлен в Бристоль для дознания. Но здесь перед искателями правосудия встало неожиданное препятствие: никто не понимал ни единого слова, произнесенного шотландцем, кроме его имени – Джеймс Эйтен. Поэтому его отправили в Лондон, полагая, что в столице найдется человек, знакомый с шотландским диалектом. И бристольцы не ошиблись. Джеймс Эйтен, он же Джек-маляр, сознался во всех поджогах, совершенных в Бристоле и еще в Портсмуте, где дотла сгорела канатная мастерская королевского флота. Это последнее преступление было признано чудовищным: без множества миль канатов ни один корабль не сумел бы отойти от причала.
– Не понимаю только одного, – сказал Джек Морган Джимми Тислтуэйту, – каким образом Джек-маляр добрался из Бристоля до Портсмута? Канатная мастерская сгорела в декабре, когда его еще видели на улице Питэй.
Мистер Тислтуэйт пожал плечами:
– Он всего лишь козел отпущения, Дик, не более. Англии давно необходим покой, а для этого требовалось найти виновного. Этот шотландец – идеальный обвиняемый. Не знаю, как насчет Портсмута, но пожары в Бристоле – дело рук тори, клянусь жизнью!
– Думаешь, пожары будут вспыхивать и впредь?
– Ни в коем случае! Хитрость удалась. В Бристоле не осталось ни гроша из былых американских капиталов. Тори могут преспокойно почить на лаврах, возложив всю вину на беднягу Джека-маляра.
И вина действительно была возложена на него. Джеймса Эйтена, известного под прозвищем Джек-маляр, предали суду в Гемпшире по обвинению в поджоге канатной мастерской королевского флота и признали его виновным. После суда его доставили в Портсмут, где была сооружена виселица для публичных казней. Опускающаяся подставка виселицы имела высоту шестьдесят семь футов; с нее Джек-маляр и переселился в вечность – без головы, сорванной с плеч петлей, а не отрубленной топором. После казни эту голову выставили на всеобщее обозрение в Портсмуте, и в Англии воцарился покой.
Джек-маляр заверил суд, что только он один виновен во всех поджогах.
– Его уверения меня не убедили, – заявил кузен Джеймс-аптекарь. – Но Пасха наступила и прошла, а пожары больше не вспыхнули ни разу, поэтому неизвестно, кто виноват на самом деле. Я уверен лишь в том, что Господь пощадил меня.
Два дня спустя в «Герб бочара» явился оружейный мастер сеньор Томас Хабитас.
– Сэр! – воскликнул Ричард, приветствуя его улыбкой и дружеским рукопожатием. – Садитесь, прошу вас! Стакан «бристольского молока»?
– Благодарю, Ричард.
В таверне было пусто, если не считать мистера Тислтуэйта; от былого процветания остались лишь воспоминания.
Поэтому неожиданный гость очутился в центре внимания, и это, по-видимому, польстило ему.
Португальский еврей, переселившийся в Англию тридцать лет назад, сеньор Томас Хабитас был невысоким и худощавым, с оливковой кожей, темными глазами, вытянутым лицом, крупным носом и полными выпяченными губами. Некоторая замкнутость роднила его с квакерами; пожалуй, он слишком хорошо осознавал, как заметно отличается от заурядных бристольцев. Но город радушно принял его, как принимал всех евреев, которым в отличие от папистов позволяли поклоняться Богу согласно их обычаям и иметь кладбище на Джейкоб-стрит и две синагоги на берегу Эйвона; считалось, что иудаизм угрожает обществу и экономике в значительно меньшей степени, нежели римский католицизм. Но самое главное – ни евреи, ни квакеры не претендовали на трон его величества короля Англии, который был родом из Германии. Воспоминания о Красавчике принце Чарли и тысяча семьсот сорок пятом годе были еще слишком свежи, а до Ирландии – рукой подать.
– Что завело вас так далеко от дома, сэр? – спросил Дик Морган, подавая гостю большой стакан (изготовленный еврейской компанией «Джейкобс») янтарного приторно-сладкого хереса.
Взгляд прищуренных черных глаз обвел пустой зал и остановился не на Дике, а на Ричарде.
– Дела идут неважно, – подытожил гость неожиданно гулким голосом с едва заметным акцентом.
– Да, сэр, – согласился Ричард, усаживаясь напротив Хабитаса.
– Весьма сожалею об этом. – Сеньор Хабитас сделал паузу. – Я мог бы помочь вам. – Он положил длинные чуткие руки на стол и переплел пальцы. – Знаю, всему виной эта война с американскими колониями. Но благодаря войне кое-кто стал получать большую прибыль – в том числе и я. Ричард, ты мне нужен. Ты не хотел бы вновь поработать у меня?
Ричард приоткрыл рот, чтобы ответить, но Дик опередил его.
– А на каких условиях, сеньор Хабитас? – напористо осведомился он, слишком хорошо зная, что Ричард сначала согласится, а уж потом отважится спросить об условиях.
Выражение загадочных глаз на гладком лице не изменилось.
– На самых выгодных, мистер Морган. Четыре шиллинга за мушкет.
– Годится! – поспешил отозваться Дик.
Мистер Тислтуэйт с жалостью поглядывал на Ричарда. Неужели ему так и не представится случай самому выбирать себе судьбу? Но голубовато-серые глаза на привлекательном лице Ричарда Моргана не выразили ни гнева, ни недовольства. Поистине его терпение неиссякаемо! Он терпелив по отношению к отцу, жене, матери, посетителям таверны, кузену Джеймсу-аптекарю – перечень бесконечен. Похоже, Ричард готов броситься в бой за одного-единственного человека – за Уильяма Генри, да и то действуя обдуманно, а не повинуясь порыву. «Что таится в твоей душе, Ричард Морган? Знаешь ли ты самого себя? Будь Дик моим отцом, я закатил бы ему такую оплеуху, что он рухнул бы на пол. А ты терпишь его прихоти, хандру и вспышки, его едкие замечания, даже плохо скрытое презрение к тебе. Каковы твои житейские принципы? Откуда ты черпаешь силу? Ты ведь силен, я точно знаю. Но кто твой союзник – смирение? Нет, вряд ли. Ты для меня загадка, и все-таки ты нравишься мне больше всех, кого я знаю. И мне страшно за тебя. Почему? Да потому что, имей я такое терпение и стойкость, Бог наверняка пожелал бы испытать меня».
Не подозревая о размышлениях мистера Тислтуэйта, Ричард вернулся в мастерскую Хабитаса и взялся за изготовление «смуглых Бесс» для солдат, воюющих в Америке.
Оружейник делал оружие, но его детали получал от других мастеров: стальные стволы из листа, свернутого в трубку, привозили из Бирмингема, как и стальные детали замка; ореховые приклады доставляли из различных городов Англии, бронзовые и медные части – из окрестностей Бристоля.
– Надеюсь, ты будешь рад узнать, – сказал Хабитас, когда Ричард отчитывался о первом рабочем дне, – что мы получили заказ на короткие мушкеты для армии – они немного легче и проще в обращении.
И вправду, эти мушкеты были на четыре дюйма короче длинных, 42-дюймовых, которыми были вооружены солдаты во времена Семилетней войны. Пехотинцы одобрительно отнеслись к новому оружию: точность его стрельбы не снизилась, а весило оно на полфунта меньше и было менее громоздким.
Ричард сидел у верстака на высоком табурете; вокруг было разложено все, что могло ему потребоваться. Отполированные приклады с длинными полукруглыми подставками для ствола, выстроились на стойке слева. По правую руку разместились стволы с хвостовиками, каждый имел замок с шипом с нижней стороны. В блюдах на верстаке лежали различные части кремневого замка – пружины, курки, спусковые рычаги, защелки, кулачки, винты, кремни, – а также медные скобы, стержни, фланцы и подставки, с помощью которых собирали ружье. Рядом Ричард разложил инструменты, принадлежащие ему: он приносил их с собой в прочном ящике красного дерева с медной пластинкой, на которой было выгравировано его имя. В нем умещались десятки напильников и отверток, клещи, кусачки, щипчики, молоточки, сверла и инструменты для работы по дереву. Обученный опытным мастером, Ричард сам изготовил наждачную бумагу, посыпав жесткими черными опилками парусину, смазанную крепким рыбьим клеем, и таким же способом сделал напильники и точила разного размера – и заостренные, и округлые, и короткие, и толстые. Опиловка деталей составляла по меньшей мере половину всей работы оружейника, и Ричард так поднаторел в этом деле, что только ему одному брат Уильям доверял точить пилы, когда видел, что их зубья затупились.
Выбирая первый ствол, чтобы отчистить его от ржавчины, а затем смазать жидкой сурьмой – так называемым сурьмяным маслом, – Ричард вдруг понял, как стосковался по своему ремеслу. Шесть лет – огромный срок. Тем не менее его руки двигались уверенно, а мысли были заняты сборкой деталей механизма, предназначенного для того, чтобы убивать людей. Но оружейники предпочитали не размышлять о том, какое применение найдут их изделия, – они просто любили свою работу и не думали о разрушительной силе оружия.
Важнейшей задачей считалась сборка кремневого замка. Приклад надо было аккуратно выдолбить, чтобы замок входил в него, а потом много раз опиливать, подгонять и опять опиливать и подгонять все движущиеся детали, добиваясь механической гармонии, и лишь затем установить замок на место. Жители Норфолка и Суффолка, изготавливающие кремни, тоже были прежде всего ремесленниками – не рассуждая, они придавали кремням точную форму, соответствующую их назначению. А Ричарду предстояло выбрать угол, под которым кремень ударял бы по прочной, похожей на листок, Г-образной стальной детали в дюйм шириной, прикрывающей полку для пороха. При движении курка вперед и ударе кремня полка для пороха приподнималась, а кремень высекал сноп искр. Если кремень был правильно расположен в зажимах, этих искр хватало, чтобы воспламенить порох; пламя вырывалось сквозь крохотное отверстие в задней части ствола и здесь, в свою очередь, воспламеняло порох, засыпанный под заряд. Зарядом для «смуглой Бесс» служили маленькие свинцовые пули.
Конструкцию «смуглой Бесс» Ричард знал как свои пять пальцев. Ему было известно, что стрелять из такого мушкета в цель, расположенную на расстоянии более 100 ярдов, бесполезно; его дальность стрельбы не превышала 40 ярдов. А это означало, что противники должны сойтись почти вплотную, прежде чем открывать стрельбу. Опытный солдат обычно успевал сделать два выстрела, а потом либо отступал, либо бросался в штыковую атаку. Ричард знал, что лишь в некоторых сражениях солдаты стреляют из своих «смуглых Бесс» больше десяти раз. Знал он и то, что засыпать на полку следует не более 70 гранов пороха, менее одной пятой унции, и был сведущ в изготовлении ружейного пороха, поскольку во времена ученичества провел немало времени в пороховых мастерских в Тауэр-Харратс на Эйвоне, в Темпл-Мидс. Помнил он и о том, что только одной из четырех собранных им «смуглых Бесс» предстоит участвовать в сражениях. Ричард знал, что калибр (пуля была двумя размерами меньше диаметра гладкого изнутри ствола) мушкета близок к калибру французских, португальских и испанских ружей, поэтому заряды из этих трех стран годились и для «смуглых Бесс». А еще Ричарду было известно, что при попадании пули в живую мишень у последней практически нет шансов выжить. Попав в грудь или живот, пуля способна разворотить все внутренности; при попадании в конечности пуля дробила кости, и единственным средством спасения человека оставалась ампутация.
Чтобы собрать первую за сегодня «смуглую Бесс», ему понадобилось два часа, но вскоре навыки вернулись к нему, и к концу дня он собирал мушкет всего за час. За каждое ружье Ричард получал баснословную сумму – четыре шиллинга, но, разумеется, сеньор Хабитас выручал с продажи оружия гораздо больше денег. За вычетом стоимости деталей и платы за труд Ричарда с каждого ружья сеньору Хабитасу причиталось десять шиллингов. Существовали оружейники, которые запрашивали гораздо меньше, зато изделия Хабитаса стреляли. В руках опытных солдат они не давали осечки, а порох на полке не воспламенялся сам по себе. Кроме того, сеньор Хабитас лично присутствовал при испытании оружия, изготовленного его мастерами.
– Подмастерьям я не доверяю, – говорил он Ричарду, шагая к мишеням, еще отчетливо видным в сумерках. – Я полагаюсь лишь на опытных оружейников, а еще лучше – на тех, кого я обучил сам. – Он вдруг посерьезнел. – Не обольщайся, дорогой Ричард, все имеет свой конец. Эта война продлится еще три-четыре года, и за это время Франция успеет собраться с силами, чтобы вновь напасть на нас. Пока нам хватает работы, но вскоре все изменится, и я снова отпущу тебя. Именно поэтому я согласился платить тебе по четыре шиллинга за ружье. А еще потому, что я никогда не видел такого добросовестного и расторопного работника, как ты.
Ричард не ответил; впрочем, зная его привычки, Томас Хабитас и не ждал ответа. Ричард был прирожденным слушателем. Он живо воспринимал все, что ему говорили, но воздерживался от замечаний, никогда не испытывая желания просто поболтать. Сведения укладывались на полки у него в мозгу и оставались на своих местах до тех пор, пока это устраивало Ричарда. «Вероятно, – думал Хабитас, – еще и по этой причине я так привязался к нему. Ричард – на редкость добродушный и сдержанный человек, для которого работа превыше всего».
Десять «смуглых Бесс», собранных Ричардом, стояли в стойке, принесенной десятилетним парнишкой, подручным Хабитаса. Ричард взял первое ружье, вынул шомпол из пазов под прикладом, поддерживающим снизу ствол, и достал из кармана гильзу. Внутри этого картонного цилиндрика хранились пуля и порох. Ричард набрал полный рот слюны, вцепился зубами в основание цилиндрика и увлажнил его, высыпал порох в ствол, растер бумагу и отправил ее вслед за порохом, а под конец втолкнул в ствол пулю. Одного удара шомполом хватило, чтобы отправить весь заряд в глубину ствола. Приложив мушкет к плечу, он слегка встряхнул его, чтобы прочистить отверстие в конце ствола, и спустил курок. Стальные челюсти сжали кремень, опустили его и ударили им по бойку. Посыпались искры, из ствола вылетел густой дым, и бутылка, стоящая на расстоянии сорока ярдов на полке, со звоном разбилась.
– А ты не утратил мастерство, – довольно заметил сеньор Хабитас, пока босой мальчишка сметал осколки и ставил на полку еще одну тускло-коричневую бутылку бристольского стекла.
– Посмотрим, как будут стрелять остальные девять, – с усмешкой откликнулся Ричард.
Девять ружей оказались безупречными. На десятом понадобилось подпилить пружину – пустяковая работа, поскольку деталь находилась снаружи спускового механизма.
* * *
Едва вбежав в «Герб бочара», Ричард подхватил Уильяма Генри с высокого детского стульчика и крепко прижал к себе, борясь с желанием задушить малыша в объятиях. «Уильям Генри, Уильям Генри, как же я люблю тебя! Как жизнь, как воздух, как солнце, как Бога на небесах!» Прижавшись щекой к кудряшкам сына, он прикрыл глаза и ощутил первую дрожь, прошедшую по хрупкому тельцу. Она была почти неуловима, как дрожь мурлыкающего кота; Ричард чувствовал ее кончиками пальцев. Мучительная дрожь. Мучительная? С какой стати? Открыв глаза, Ричард отстранил от себя Уильяма Генри и всмотрелся ему в лицо. Загадочное, замкнутое.
– Похоже, он по тебе ничуть не скучал, – беспечно заметил Дик.
– И съел весь ужин до последней крошки, – с гордостью добавила Мэг.
– Рядом со мной он был счастлив, – заключила Пег с победной улыбкой.
Колени Ричарда подогнулись, он опустился на стул возле стойки и снова прижал к себе сына. Легкая дрожь прошла. «О, Уильям Генри, о чем ты думаешь? Неужели ты решил, что папа больше не вернется? Прежде папа расставался с тобой всего на час-другой, но неужели никто не сообщил тебе, что папа вернется в сумерках? Нет, никто. И я забыл предупредить тебя. И все-таки ты не плакал, не отказывался от еды, не выказывал беспокойства. Но ты думал, что больше никогда меня не увидишь. Что я за тобой не приду».
– Я всегда буду рядом с тобой, – прошептал Ричард на ухо Уильяму Генри. – Всегда.
– Как прошел день? – спросила Пег. Убедившись за восемнадцать месяцев, что Ричард привязан к Уильяму Генри, она не переставала удивляться слабости мужа – или его мягкости? «Это выглядит странно, – думала она. – Наш ребенок нужен ему, чтобы удовлетворять какую-то потребность, о которой я понятия не имею. Но я-то люблю Уильяма Генри ничуть не меньше, чем Ричард! И теперь мой сын будет всецело принадлежать мне!»
– Хорошо, – ответил ей Ричард и перевел отчужденный взгляд на Дика. – Отец, сегодня я заработал два фунта: один тебе, второй – мне.
– Нет, – отрезал Дик. – Десять шиллингов мне, тридцать – тебе. Этого мне хватит с избытком – даже когда от нас уйдет последний посетитель. Отдавай мне два шиллинга за еду для твоей семьи, а двадцать восемь клади в банк на свое имя. Надеюсь, он будет платить тебе каждую субботу? А не раз в месяц или когда заплатят ему самому?
– Каждую субботу, отец.
Этой ночью, когда Ричард придвинулся к Пег и попытался осторожно приподнять подол ее ночной рубашки, она сердито оттолкнула его руки.
– Нет, Ричард! – яростно прошептала она. – Уильям Генри еще не спит, а он уже подрос и все понимает!
Ричард долго лежал в темноте, прислушиваясь к храпу и сопению из соседней комнаты; он устал до изнеможения от непривычной работы, но никак не мог уснуть. Сегодня для него началась новая жизнь. Работа, которую он любил, разлука с обожаемым сыном, отчуждение любимой жены, осознание того, что он невольно может причинить боль своим близким. Еще совсем недавно жизнь казалась ему такой простой и понятной. Им руководило не что иное, как любовь, – он должен работать, чтобы прокормить семью, чтобы его близкие ни в чем не нуждались. Но Пег оттолкнула его впервые с тех пор, как они поженились, а Уильяма Генри пронзила мучительная дрожь.
«Но что я могу поделать? Где выход? Сегодня я отдалился от своей семьи, пусть даже из лучших побуждений. Я никогда не просил о многом и ни на что не рассчитывал – кроме того, что близкие будут рядом. В этом и заключается счастье. Я принадлежу им, а они – мне. Или мне так казалось? Неужели отчуждение всегда возникает, как только меняется заведенный порядок? Но насколько глубока эта пропасть? Насколько она широка?»
* * *
– Сеньор Хабитас, – заговорил Ричард, явившись в мастерскую рано утром на второй день, – сколько мушкетов я должен собирать за день?
Томас Хабитас и глазом не моргнул – он вообще редко моргал.
– А почему ты спрашиваешь, Ричард?
– Я не хочу проводить в мастерской целые дни, с рассвета до заката, сэр. Теперь все не так, как прежде. Я нужен своим близким.
– Понимаю, – мягко отозвался сеньор Хабитас. – Это можно уладить. Человек зарабатывает деньги, чтобы обеспечить свою семью, но семья нуждается не только в деньгах, а быть одновременно в двух местах невозможно. Я плачу тебе за каждый сделанный мушкет, Ричард. Значит, сколько мушкетов ты соберешь, столько и получишь. – Он пожал плечами – непривычный для него жест. – Да, я предпочел бы получать пятнадцать – двадцать мушкетов в день, но соглашусь и на один. Тебе решать.
– А десять в день, сэр?
– Это меня вполне устроит.
Ричард вернулся домой, в «Герб бочара», в середине дня, успев собрать и испытать десять мушкетов. Сеньор Хабитас был доволен, а Ричард теперь мог проводить больше времени с Уильямом Генри и Пег и вместе с тем приближаться к своей мечте – дому в Клифтон-Хилле. Его сын уже начинал ходить; соблазны Брод-стрит манили его к открытой двери таверны, в Уильяме Генри пробуждалась тяга к приключениям. К счастью, до сих пор ножки вели его по дорожкам цветника, а не по тротуарам, пропитанным вонью Фрума.
Но первым, кто встретил Ричарда дома, были не Пег и не Уильям Генри: мистер Джеймс Тислтуэйт вскочил из-за стола и заключил Ричарда в объятия.
– Пусти меня, Джимми! Твои пистолеты могут выстрелить!
– Ричард, Ричард! А я уж думал, что больше не увижу тебя!
– Не увидишь меня? Но почему? Даже если бы я работал с рассвета до заката – а на это я не согласился, – зимой мы продолжали бы видеться, – возразил Ричард, высвобождаясь и протягивая руки к подковылявшему к нему Уильяму Генри. Затем подошла и Пег с виноватой улыбкой на лице и поцеловала мужа в губы. Усевшись за стол рядом с Джимми Тислтуэйтом, Ричард почувствовал себя так, словно его мир вновь стал прежним. Пропасть между ним и близкими исчезла бесследно.
Он отхлебнул пиво из принесенной Диком кружки, наслаждаясь чуть горьковатым привкусом, но не вожделея его. Сын сдержанного трактирщика, Ричард тоже был сторонником умеренности во всем, пил только пиво и не злоупотреблял им. И за это, помимо естественной привязанности, сеньор Томас Хабитас ценил своего мастера. Для работы требовались уверенные, ловкие пальцы и чистый, ничем не замутненный разум, а найти мужчину, не питающего пристрастия к спиртному, было не так-то просто. Почти все горожане пили слишком много, чаще всего – ром или джин. За три пенса можно было купить полпинты рома или почти целую пинту джина, в зависимости от его качества. Злоупотребление спиртным не считалось преступлением, хотя существовали законы, карающие почти все прочие злоупотребления. Благодаря налогу на продажу спиртного казна быстро пополнялась, и потому правительство только поощряло любителей выпить.
В Бристоле продавали и выпивали больше рома, чем джина; джин считался напитком бедняков. Монополия на ввоз сахара на всю территорию Британских островов принадлежала Бристолю, и потому он же стал признанным производителем рома. По крепости эти ром и джин почти не отличались, но ром был гуще и вызывал более длительное опьянение, за которым не следовало мучительное похмелье.
Мистер Тислтуэйт пил только лучший ром и считал «Герб бочара» своим вторым домом потому, что Дик Морган покупал ром у мистера Томаса Кейва из Редклиффа. Ром Кейва не имел себе равных.
К приходу Ричарда мистер Тислтуэйт уже успел захмелеть, что обычно случалось с ним к трем часам дня. Ему недоставало Ричарда, он пришел к выводу, что отныне Ричард будет появляться в таверне не раньше пяти, к тому времени, как самому Джимми придется уходить. Мистер Тислтуэйт взял себе за правило покидать таверну ровно в пять – из чувства самосохранения: он знал, что, задержавшись здесь хотя бы на минуту, к вечеру он окажется в сточной канаве на Брод-стрит.
Убедившись, что отныне он будет видеться с Ричардом каждый день, мистер Тислтуэйт неуклюже поднялся и собрался уходить.
– Знаю, еще слишком рано, но меня образумил твой приход, Ричард, – объявил он, нетвердым шагом направляясь к двери. – Впрочем, не знаю почему, – продолжал он, выходя на Брод-стрит. – Ума не приложу почему – ведь ты всего-навсего сын трактирщика! Загадка, загадка. – Его голова, увенчанная лихо сдвинутой набок треуголкой, просунулась в приоткрытую дверь. – Неужели взгляд захмелевшего человека способен проникнуть в будущее? Верю ли я в предчувствия? Ха! Зовите меня Кассандрой, ибо я готов подражать этой глупой старухе. Хо-хо, пусть воздух Беотии ворвется в мои аттические легкие!
– Совсем спятил, – подытожил Дик. – Безумен, как мартовский заяц.
Война против тринадцати американских колоний продолжалась; к изумлению граждан Бристоля, англичане одержали столько побед, что со дня на день следовало ожидать капитуляции колонистов. Но о капитуляции до сих пор не было ни слуху ни духу. Все знали, что колонисты успешно вторглись в Бостон и выбили оттуда сэра Уильяма Хоу, однако сэр Уильям поспешно ретировался в Нью-Йорк, явно намереваясь разделять и властвовать, оттеснив Джорджа Вашингтона в Нью-Джерси и заняв прочную позицию между северными и южными колониями. Его брат адмирал Хоу разгромил молодой американский флот в сражении при Нассау, и Британия отвоевала титул владычицы морей.
До тех пор колониальное правительство Пенсильвании сохраняло нейтралитет и пыталось примирить враждующие стороны – монархистов и мятежников; но теперь, когда, по мнению бристольцев, поражение американцев стало неизбежным, Пенсильвания отреклась от монархии и решительно примкнула к мятежникам! Этот ход казался бессмысленным, особенно бристольским квакерам, кровным родственникам пенсильванцев.
В августе тысяча семьсот семьдесят шестого года газеты сообщили, что Континентальный конгресс принял выдвинутый Томасом Джефферсоном проект Декларации независимости и подписал его, не дожидаясь согласия Нью-Йорка. Президент конгресса Джон Хэнкок первым поставил свою подпись – размашистый росчерк, которому позавидовало бы его чучело, по-прежнему болтающееся на вывеске «Американской кофейни». После того как измученная армия генерала Вашингтона одобрила Декларацию, Нью-Йорк ратифицировал ее. Независимость была воспринята единодушно, хотя жители Манхэттена продолжали сочувствовать монархистам. На флаге Континентального конгресса теперь красовалось тринадцать полос, красные чередовались с белыми.
Мирные переговоры на Стейтен-Айленде были прерваны, когда колонисты наотрез отказались отменить Декларацию независимости, и вскоре сэр Уильям Хоу вторгся в Нью-Джерси с английскими солдатами и десятью тысячами гессенских наемников, которыми король пополнил свою армию. Никто не мог устоять перед натиском англичан; однако Вашингтон маршем пересек Делавэр по пути в Пенсильванию, а затем, несмотря на суровую зиму, проделал обратный путь и разгромил гессенцев, праздновавших победу в Трентоне. После второй, менее значимой победы в Принстоне армия мятежников отступила за холмы Морристауна, а измотанный боями генерал Хоу вернулся в Манхэттен вместе со своим заместителем, лордом Корнуоллисом. Семье последнего принадлежал Корнуоллис-Хаус на Клифтон-Хилле, и потому бристольцы приняли поражение лорда близко к сердцу.
* * *
Для Ричарда тысяча семьсот семьдесят шестой год прошел под знаком мушкетов и денег; в Бристольском банке у него скопилось 400 фунтов, а благодаря двенадцати шиллингам в день, которые он отдавал отцу, двери «Герба бочара» были открыты, даже когда большинство подобных заведений надолго захлопнули их. Лишения терпели и средний, и низший классы. Страшные времена!
Уровень преступности достиг небывалых высот, сопровождаясь особым симптомом злополучной, досадной американской войны: преступников и должников больше не отправляли в тринадцать колоний и не продавали там как бесплатную рабочую силу. Освященный временем и весьма удобный, этот обычай некогда позволил правительству ввести самые суровые во всей Европе меры наказания и одновременно сократить расходы на содержание тюрем. На каждого повешенного француза приходилось десять англичан, на каждого немца – пятнадцать. Иногда вешали и женщин. Но подавляющее большинство тех, кто был признан виновным в менее тяжких преступлениях, нежели разбой, убийства или поджоги, продавали подрядчикам, которые на судах – многие из них были приписаны к Бристолю – перевозили каторжников в тринадцать колоний и выгодно перепродавали их как белых рабов. Разница между белыми и черными рабами заключалась в том, что рабство первых, по крайней мере теоретически, рано или поздно должно было окончиться. Но зачастую свобода оставалась для них недосягаемой, особенно для женщин. Молль Флендерс[6] просто повезло.
Белых рабов вывозили преимущественно в тринадцать колоний потому, что владельцы плантаций в Вест-Индии предпочитали рабов-негров. Они были убеждены, что чернокожие привыкли к жаре и лучше приспособлены к работе и, кроме того, они в меньшей степени походили на хозяев и хозяек плантаций. С началом войны вывоз каторжников за пределы Англии прекратился, но английские суды не переставали сурово карать тех, кто был признан виновным даже в незначительных преступлениях. Английские законы не предусматривали защиту прав только аристократии – они защищали права всех граждан, сумевших сколотить хоть какое-нибудь состояние. Тюрьмы переполнились, замки и старые крепости были превращены в места временного заключения, в ворота которых непрестанно вливался поток осужденных.
В это смутное время Дункану Кэмпбеллу, лондонскому подрядчику и спекулянту шотландского происхождения, пришло в голову превратить в тюрьмы старые корабли, которые уже отслужили свое. Он приобрел одно такое судно, «Блюститель», поставил его на якорь у берега Темзы, близ Королевского арсенала, и разместил в нем двести каторжников. Новый закон запрещал привлекать осужденных к работам, надзор за которыми осуществляло правительство, поэтому обитателям «Блюстителя» пришлось чистить русло важного судоходного пути и строить новые доки – за такую работу свободные люди предпочитали не браться, если им не предлагали высокую плату. Каторжники же работали за пищу и жилье, которым служил трюм «Блюстителя». Вскоре Кэмпбелл понял, что гамак – неподходящее ложе для осужденных, закованных в кандалы. Поэтому он приказал соорудить в трюме нары и сумел разместить на борту «Блюстителя» еще сто узников. Правительство его величества короля Великобритании благосклонно отнеслось к нововведениям Кэмпбелла и охотно возместило ему убытки. Каторжники могли ютиться в трюмах кораблей, пока не закончится война и не возобновится их перевозка в колонии. Какое удобство!
Любой хозяин таверны знал, чем объясняется большинство мелких преступлений: чаще всего их совершали под воздействием спиртного. В условиях безработицы ром и джин стали драгоценными для тех, в ком еще теплился луч надежды. Шелковая одежда, носовые платки и безделушки были привилегией более влиятельных горожан. Мужчины, женщины и даже дети, вынужденные просить милостыню, топили ярость и досаду в спиртном, едва у них появлялась лишняя монета, а захмелев, воровали шелковые платки и украшения – вещи, которые не принадлежали им и не могли принадлежать. Имущество тех, кому повезло. И в Лондоне, и в Бристоле краденые вещи можно было без труда обменять на еще один стакан рома, еще несколько часов блаженного забвения. А когда такие воришки попадались, суд приговаривал их к смертной казни, к четырнадцати, а чаще всего – к семи годам тюремного заключения или каторги. В текстах приговоров часто повторялось слово «ссылка». Ссылка куда? Ответить на этот вопрос было невозможно, и он оставался без ответа.
Ричард надеялся, что и тысяча семьсот семьдесят седьмой год пройдет под знаком мушкетов и денег, но в самом начале года, пока Вашингтон с остатками своей армии пережидал суровую зиму близ Морристауна, на Морганов из «Герба бочара» обрушился сокрушительный удар. Мистер Джеймс Тислтуэйт вдруг объявил, что покидает Бристоль.
Дик рухнул на стул – это случалось с ним крайне редко, за стойкой он обычно стоял, опираясь на нее загрубевшими локтями.
– Уезжаешь? – слабо переспросил он. – Уезжаешь?
– Да, – напористо отозвался мистер Тислтуэйт, – уезжаю, черт возьми!
Пег и Мэг расплакались; Ричард велел им унести перепуганного Уильяма Генри наверх и хорошенько выплакаться, а затем обернулся к взбудораженному мистеру Тислтуэйту.
– Джимми, ты же здешний старожил! Ты не можешь просто взять и уехать!
– Никакой я не старожил! Я уезжаю!
– Сядь, Джимми, сядь! К чему эта борцовская поза? Мы тебе не враги, – нахмурившись, уговаривал Ричард. – Присядь и объясни, в чем дело.
– Ага! – воскликнул мистер Тислтуэйт, последовав его совету. – Наконец-то ты выглянул из раковины! Неужели я так много значу для тебя?
– Кошмар, – пробормотал Ричард. – Отец, принеси мне пива, а Джимми – лучшего рома от мистера Кейва.
Дик мгновенно выполнил его просьбу.
– Ну, так в чем же дело? – вновь спросил Ричард.
– Я сыт по горло, Ричард, только и всего. В Бристоле мне больше нечего делать. Кого здесь высмеивать? Старого епископа Ньютона? Нет, я не поступлю так с человеком, которому хватает остроумия называть методизм незаконным отпрыском католицизма. Что еще я могу сказать в адрес корпорации? Разразиться градом сарказмов – после того, как я назвал сэра Абрахама Айзека Элтона волевым блюстителем закона, Джона Вернона – подобострастным стражем того же закона, а Роулса Скудамора – человеком, для которого нет ничего святого? Я обличал Дэниела Харсона за ортодоксальность, а Джона Пауэлла – за лизоблюдство. Я исчерпал золотую жилу Бристоля и теперь намерен поискать новую. Поэтому я уезжаю в Лондон!
Можно ли тактично намекнуть, что бристольский светоч затеряется в тумане города, по величине в двадцать раз превосходящего Бристоль?
– Лондон так велик, – заметил Ричард.
– Там у меня найдутся друзья, – возразил мистер Тислтуэйт.
– А может, передумаешь?
– Ни за что.
– В таком случае, – слегка оживился Дик, – пью за твою удачу и желаю тебе здоровья, Джимми. – Он приподнял губу, обнажая зубы. – По крайней мере теперь мне не придется тратиться на перья и чернила.
– Ты напишешь нам, как устроился? – спросил Ричард немного погодя, к тому времени как воинственность мистера Тислтуэйта уступила место приливу сентиментальной жалости.
– Если ты напишешь мне. – Бристольский бард шмыгнул носом и смахнул слезу. – О, Ричард, как жесток мир! И я намерен изобразить его зверства на огромном полотне, какого не может предоставить мне Бристоль.
Позднее тем вечером Ричард усадил Уильяма Генри на колени и вгляделся ему в лицо. В свои два с половиной года мальчик был крепким и рослым, и отец втайне считал, что ему достался лик строгого ангела. Взгляд приковывали не только его огромные и необычные глаза – поистине необычные, поскольку такой оттенок эля с красным перцем встречался крайне редко, – но и очертания скул, и безупречность кожи. Где бы он ни появлялся, люди оборачивались ему вслед и восхищались его красотой, которую замечали не только любящие родители. По всем меркам Уильям Генри был очаровательным ребенком.
– Мистер Тислтуэйт уезжает, – сообщил Ричард сыну.
– Далеко?
– Да, в Лондон. Теперь мы долго не увидим его, если увидим вообще.
Глаза малыша не наполнились слезами, но их выражение изменилось – Ричард уже знал, что оно означает тайные муки ранимой души.
– Он больше нас не любит, папа?
– Напротив, очень любит. Но в Бристоле ему стало негде развернуться, и мы здесь ни при чем.
Прислушиваясь к их разговору, Пег билась о прутья собственной тайной клетки, подобной тюрьме, в которой томилась душа Уильяма Генри. Однажды отказав Ричарду в том, что принадлежало ему по праву, она со временем вновь стала покорной, и если Ричард и заметил, что она принимает его ласки скорее по привычке, чем по велению сердца, то предпочел молчать. Пег вовсе не разлюбила его: отчуждение было вызвано угрызениями совести и ее бесплодием. Чрево Пег стало сморщенным и пустым, способным порождать лишь ежемесячные недомогания, а судьба отдала ее в жены человеку, который слишком любил детей. Такому мужчине не пристало ограничиваться единственным отпрыском, даже таким, как Уильям Генри.
– Дорогой, – заговорила Пег, когда они с Ричардом лежали в постели, слушая храп из соседней комнаты и сонное дыхание спящего Уильяма Генри, – боюсь, больше у меня никогда не будет детей.
Вот так. Тайное стало явным.
– А ты обращалась к кузену Джеймсу-аптекарю?
– Это ни к чему, он ничем мне не поможет. Такой уж сотворил меня Бог, я точно знаю.
Ричард заморгал и судорожно сглотнул.
– У нас уже есть Уильям Генри.
– Знаю. Он крепкий, на редкость здоровый ребенок. Но именно поэтому мне и хотелось поговорить с тобой, Ричард. – Пег высвободилась из объятий мужа и села.
Ричард тоже сел, обхватив руками колени.
– Я слушаю, Пег.
– Я не хочу переселяться в Клифтон.
Ричард щелкнул огнивом, зажег свечу и поднял ее так, чтобы видеть лицо жены – округлое, миловидное, искаженное беспокойством, с затравленными глазами.
– Пег, мы должны перебраться в Клифтон ради благополучия нашего единственного сына!
Пег заломила руки, вдруг став удивительно похожей на сына, – она не могла выразить словами свои чувства.
– Ради Уильяма Генри я и завела этот разговор. Мне известно, что нам хватит денег на покупку славного коттеджа на холмах, но там я буду одинока, в случае необходимости мне будет не к кому обратиться.
– Мы можем позволить себе нанять служанку, Пег. Я же говорил.
– Да, но слуги – это не родные. А здесь рядом твои родители, Ричард. – Пег скрипнула крепкими, выбеленными жесткой водой зубами. – Мне часто снятся страшные сны. Я вижу, как Уильям Генри бежит к берегу Эйвона и падает в воду – потому, что я занята, я пеку хлеб, а служанка носит воду из колодца. И этот сон я вижу каждую ночь, снова и снова!
В увлажнившихся глазах Пег заплясал отблеск свечи.
Ричард поставил свечу на сундук для одежды и привлек к себе жену.
– Пег, Пег, это всего лишь сновидения. Я тоже часто вижу их, дорогая. Но в моих кошмарах Уильяма Генри сбивает с ног разъяренная толпа, он умирает от дизентерии или проваливается в открытый колодец. В Клифтоне ничего подобного с ним не случится. А чтобы ты не тревожилась, мы наймем для него няньку.
– Тебе снятся разные сны, – всхлипывала Пег, – а мне – один и тот же. Каждую ночь Уильям Генри падает с берега в Эйвон, напуганный тем, что я никак не могу разглядеть.
Ричард держал жену в объятиях, пока она не успокоилась и не уснула, а потом лег, глядя на колеблющееся пламя свечи и борясь со своим горем. Он знал, что родные сговорились. Его мать и отец переубедили Пег: Мэг обожала Уильяма Генри и любила племянницу, как родную дочь, а Дик, должно быть, решил, что, переселившись в Клифтон, Ричард перестанет платить ему двенадцать шиллингов в день – у хозяина собственного дома и без того немало расходов. Внутренний голос советовал Ричарду настоять на своем и увезти жену и ребенка на зеленые холмы Клифтона, поближе к чистому воздуху. Но то, что Дик Морган считал слабостью Ричарда, на самом деле было способностью понимать окружающих и сочувствовать им, особенно близким. Если Ричард настоит на переезде в Клифтон – а он уже подыскал просторный, прочный, не слишком старый коттедж с отдельной кухней на заднем дворе и комнатой для слуг на чердаке, – так вот, если он настоит на своем, жизнь в Клифтоне будет Пег не в радость. Она заранее возненавидела свой будущий дом. Как странно – ведь она дочь фермера! Ричарду и в голову не приходило, что его жене городская жизнь нравится больше, чем ему, коренному горожанину. Губы Ричарда задрожали, но даже под покровом темноты он не мог позволить себе расплакаться. Он просто решил смириться с тем, что в Клифтон они не поедут.
«Отец небесный, моя жена считает, что Уильям Генри утонет в Эйвоне, если мы переселимся в Клифтон. А я содрогаюсь при мысли, что жизнь в Бристоле погубит его. Прошу тебя, умоляю – спаси и сохрани моего сына! Оставь мне мое единственное дитя! Его мать уверяет, что больше у нас не будет детей, и я верю ей…»
– Мы останемся здесь, в «Гербе бочара», – сообщил он Пег, поднявшись с постели до рассвета.
Просияв, она в порыве облегчения обняла его.
– О, спасибо тебе, Ричард, спасибо!
Некоторое время Англия успешно вела войну в Америке, несмотря на то что ряд членов парламента от партии тори откололся от правительства в знак протеста против политики короля. Джентльмену Джону Бэргойну было приказано уничтожить всех мятежников в северном Нью-Йорке, и он продемонстрировал мастерство тактика, захватив форт Тайкондерога на озере Шамплейн – почти неуязвимую твердыню бунтарей. Но от истоков реки Гудзон озеро отделяли обширные леса, по которым войска Бэргойна двигались со скоростью около мили в день. Он упустил удачу, как и одно из подразделений его армии, потерпевшее поражение при Беннингтоне. Хорейшо Гейтс принял командование армией мятежников и получил в свое распоряжение блистательного Бенедикта Арнольда. Дважды вступив в сражение при Бемис-Хайтс, Бэргойн был разбит наголову и капитулировал в Саратоге.
Вести из Саратоги потрясли всю Англию. Капитуляция! Поражение при Саратоге перевесило все былые победы, на такой исход не рассчитывали ни лорд Норт, ни король. Для простых англичан капитуляция при Саратоге означала, что Англия проиграла войну, что американским мятежникам присуще то, чего лишены французы, испанцы и голландцы.
Если бы сэр Уильям Хоу двинулся к верховьям Гудзона навстречу Бэргойну, положение могло бы разительно измениться, но Хоу вместо этого предпочел вторгнуться в Пенсильванию. Он разгромил Джорджа Вашингтона при Брэндиуайне, а затем преуспел в захвате Филадельфии и Джермантауна. Американский конгресс бежал в Пенсильванию, в Йорк, который отразил натиск англичан и одержал победу. Жители Йорка просто не могли отдать свою столицу врагу, они были готовы сражаться до последнего! Что толку было в захвате Филадельфии, если правительство мятежников уже успело покинуть ее? Подобных событий еще не видывал свет.
Хотя завоевания Хоу в Пенсильвании приблизительно совпали по времени с кампаниями Бэргойна в Нью-Йорке, первые не могли конкурировать в глазах англичан с капитуляцией в Саратоге. С этого момента парламент всерьез засомневался в том, что Англия способна выиграть эту войну. Правительство лорда Норта заняло оборонительную позицию, слишком обеспокоенное событиями в Ирландии, сокращением международной торговли и разговорами о призыве добровольцев для войны с французами, союзниками американцев. Все в Лондоне понимали, что это означает! Если ирландцы решат воевать, то их противниками станут англичане. Следовательно, с ирландцами предстояло заключить перемирие, ведь армия находится на расстоянии трех тысяч миль от Англии. Но поскольку тон в палате задавали тори, осуществить этот замысел было нелегко.
Между тем экономический спад в Бристоле ощущался все острее. Французские и американские каперы продолжали бороздить моря и преуспевали в отличие от английских каперских судов; королевский флот по-прежнему находился по другую сторону океана. Всегда готовые нажиться при помощи каперов, многие бристольские богачи вкладывали кругленькие суммы в превращение торговых судов в тяжеловооруженные плавучие крепости. Английские каперы действовали на редкость успешно во времена Семилетней войны с Францией, поэтому никто не мог и помыслить о том, что теперь удача отвернется от них.
«Однако, – писал Ричард мистеру Джеймсу Тислтуэйту во второй половине тысяча семьсот семьдесят восьмого года, – наши вкладчики серьезно просчитались. Бристоль снарядил двадцать один каперский корабль, но лишь «Тартар» и «Александер» вернулись с добычей – французским «Остиндийцем» стоимостью в сто тысяч фунтов. Морская торговля сократилась настолько, что городской совет утверждает, будто доходов, приносимых портом, не хватает даже на жалованье мэру.
Город кишит грабителями. Даже на постоялый двор «Белые леди» у заставы Ост опасно выезжать по воскресеньям. Мистера и миссис Морис Тревильян из знатного корнуэльского семейства ограбили прямо возле их особняка на Парк-стрит! У них отняли золотые часы, несколько дорогих украшений и все деньги.
Короче, Джимми, положение отчаянное».
Мистер Тислтуэйт ответил на письмо Ричарда с поразительной быстротой. Некие враждебно настроенные бристольские сплетники распускали слухи, будто в Лондоне Джимми Тислтуэйту не повезло. Поговаривали, что ему пришлось заниматься литературной поденщиной для мелких издателей и даже продавать писчие принадлежности.
«Ричард, как я был счастлив получить твое письмо! Мне недостает тебя, а письмо отчасти заполнило эту пустоту.
Единственная разница между пиратом и капером – каперское свидетельство за подписью его величества, которому достается львиная доля добычи. Междоусобица вылилась в мировую войну. Английские форпосты подвергаются нападкам во всех уголках земного шара – впрочем, разве у шара есть углы? – даже в самых отдаленных.
Меня не удивило то, что лишь два каперских корабля вернулись домой с добычей. Тем более таких, как «Александер» и «Тартар», – у них подходящий размер и оснастка. Сто двадцать человек экипажа и шестнадцать орудий. Идеальное сочетание. И потом, невольничьи суда быстры и маневренны. Должны же они приносить пользу теперь, когда вывоз каторжан прекратился!
Если Бристоль в отчаянном положении, то Ливерпуль очутился на краю гибели. По размерам он не уступает Бристолю, но благотворительных учреждений в Ливерпуле вчетверо меньше. В приходах Ливерпуля насчитываются тысячи безработных, а поскольку пожертвования не поступают, их не на что кормить. Они в буквальном смысле мрут с голоду, а лорд Пенрин и его ливерпульская родня в жизни не слышали слова «благотворительность». Вот что случается с городами, жители которых разбогатели на торговле рабами.
Но и на востоке, в Лондоне, страдают миллионы душ, Ричард. Ост-Индская компания оказалась в стесненных обстоятельствах, к тому же она опасается французов, пользующихся поддержкой союзников-янки. Соединенные Штаты Америки! Чересчур пышный титул для союза крохотных колоний, объединившихся в силу необходимости, которая вскоре исчезнет. Могу предсказать, что в ближайшее время каждая маленькая колония двинется своим путем, а Соединенные Штаты Америки превратятся в утопию, существующую лишь в умах горстки блестящих, просвещенных, талантливых людей. Американские колонисты выиграют войну, в чем я никогда не сомневался, но затем их союз распадется на тринадцать обособленных государств, связанных лишь договором о взаимопомощи.
И еще один слух, который наверняка заинтересует тебя. Говорят, мистер Генри Крюгер, член парламента от Бристоля и сторонник американцев, получает пенсию в размере тысячи фунтов в год от короля – за сведения о делах янки. Парадокс, не так ли? В Бристоле возмущались, называя Крюгера шпионом янки, а он все это время служил Англии!
И в заключение, дорогой мой Ричард, признаюсь, что лондонский воздух тоже оказался воздухом Беотии, к которому не приспособлены мои аттические легкие. Но я живу неплохо и слишком часто напиваюсь допьяна – впрочем, здешний ром не сравнить с напитком Томаса Кейва».
Отложив письмо, Ричард задумался: судя по последнему абзацу, бристольские сплетники недалеки от истины. Бедняга Джимми! Возможности Бристоля ограничены; он надеялся отыскать новые в гигантском Лондоне, однако вскоре убедился, что город кишит собственными сатириками и не нуждается в бристольцах.
Письма, которые Джимми продолжал исправно присылать Ричарду, содержали уже известные ему новости, но Ричард не мог заставить себя признаться в этом в ответных письмах.
– О, Джимми! – воскликнул Ричард в конце тысяча семьсот восьмидесятого года, получив еще одно послание мистера Тислтуэйта. – До чего ты докатился!
«Все в этом мире пошло кувырком, Ричард. Сэр Уильям Клинтон, наш новый главнокомандующий, покинул Филадельфию, чтобы удержать Манхэттен и прилегающие области Нью-Йорка. Этим он отчасти напомнил мне лисенка, который прячется в нору задолго до того, как услышит собачий лай. Французы официально признали Соединенные Штаты Америки и выставили себя на посмешище, поскольку меховая шапка посла Бенджамина Франклина проедена молью. Вся Европа взбудоражена тем, что русская императрица Екатерина ведет переговоры о вооруженном нейтралитете с Данией, Швецией, Пруссией, Австрией и Сицилией. Эти страны объединяет лишь страх перед англичанами и французами.
Я написал блестящую статью – и она имела успех! – о пяти тысячах пятистах «сыновьях свободы»[7], взятых в плен при захвате Чарлстона сэром Генри Клинтоном. Они были потрясены мощью нашего флота! Неплохо, верно? В основе статьи лежит конкретный факт: американские офицеры не осмеливаются подвергать порке своих солдат или матросов! Воображаю себе, каково пришлось «сынам свободы», когда английская кошка-девятихвостка начала прохаживаться по их спинам!
Кроме того, я выступил в защиту генерала Бенедикта Арнольда, дезертирство которого рассматриваю как естественное следствие этой чертовски затянутой войны. Уверен, и ему, и его товарищам-перебежчикам надоело вести борьбу за выживание. Комфорт, которым окружено английское командование, и его жалованье наверняка вызывают зависть многих американских офицеров высокого ранга – не говоря уже об английском профессионализме. Любой опытный и здравомыслящий командир испытывает досаду при виде своих оборванных, разутых солдат, раздраженных неплатежами и достаточно независимых, чтобы послать его ко всем чертям вместе с его приказами. Но не будем злословить!
Я поставил сто фунтов к десяти на то, что мятежники победят. Значит, в конце концов я разбогатею на целую тысячу фунтов. Наконец-то! Господи, Ричард, когда же кончится эта проклятая война! Парламент и король губят Англию».
Но события, развернувшиеся по другую сторону океана, за три тысячи миль от Англии, заботили Ричарда гораздо меньше, чем происходящее у него дома. Беспокойство ему внушало поведение Пег.
Причин было более чем достаточно: Пег не надеялась иметь других детей, Уильям Генри стал ее единственным утешением, а Ричард целыми днями пропадал в мастерской и не мог избавить ее от мрачных мыслей и тоски.
«Неужели с возрастом мы вынуждены навсегда расстаться с мечтами молодости? Может, их разрушает сама жизнь? И именно это случилось с Пег и со мной? Раньше я часто мечтал о коттедже в Клифтоне, среди заросшего цветами сада, о маленьком пони, чтобы ездить в Бристоль, о повозке, чтобы возить семью в Дердхэм-Даун на пикники, о дружбе с доброжелательными соседями, о десятке детишек, о тревогах и радостях, которые они доставляют родителям, постепенно взрослея. Я был уверен, что Господь благ и милосерден, добр ко мне и ко всем людям. Но мне уже тридцать два года, а мои мечты остались мечтами. У меня есть маленькое состояние в Бристольском банке и единственный ребенок, и я обречен провести в отцовском доме всю жизнь. Мне никогда не стать себе хозяином, ибо моя жена, которую я слишком люблю, чтобы обидеть, страшится перемен. Она боится потерять свое единственное чадо. Как объяснить ей, что этот страх – искушение Божие? Давным-давно я понял, что неприятности приходят к тем, кто слишком много веселится, и что лучший способ избежать их – вести тихую жизнь, не привлекая к себе внимания».
Его любовь к Уильяму Генри неуловимо изменилась при виде болезненной привязанности Пег к сыну. Мысли о том, что ребенок заболеет или заблудится, стали для нее постоянным источником страха. Если Уильям Генри переходил с шага на бег, даже в таверне, Пег останавливала его и спрашивала, куда он так торопится. Когда Дик брал Уильяма Генри на ежедневную прогулку, Пег увязывалась за ними, и мальчик был обречен идти за руку с дедушкой и матерью, которые ни на минуту не спускали с него глаз. Стоило ребенку приблизиться к пристани и начать считать корабли (а он уже умел считать до ста), Пег поспешно уводила его прочь, упрекая Дика в беспечности. Но хуже всего было то, что мальчик не сопротивлялся, даже не пытался завоевать независимость, в чем обычно преуспевают шестилетние мальчишки.
– Я поговорил с сеньором Хабитасом, – сказал Ричард однажды долгим летним вечером, когда «Герб бочара» уже закрылся. – Поток заказов для мастерской пока не иссякает, но мы настолько вошли в ритм работы, что могли бы уделить внимание новому ученику. – Он сделал глубокий вздох и взглянул в глаза Пег. – Отныне я буду брать Уильяма Генри с собой в мастерскую.
Он хотел объяснить, что это ненадолго, что мальчик отчаянно нуждается в новых впечатлениях и лицах, что ему присущи терпение и способности к механике, которые так высоко ценятся людьми, собирающими оружие. Но он не успел выговорить ни слова.
Пег разрыдалась.
– Нет, нет, нет! – пронзительно выкрикнула она с таким ужасом, что Уильям Генри вздрогнул, съежился, сполз со стула и уткнулся головой в отцовские колени.
Дик стиснул кулаки и хмуро уставился на них, поджав губы, а Мэг схватила со стойки кувшин с водой и выплеснула его содержимое в лицо Пег. Та умолкла, хватая ртом воздух.
– Я же просто предложил, – объяснил Ричард отцу.
– Лучше бы ты промолчал, Ричард.
– Но я думал… ну, ну, Уильям Генри! – Ричард обнял сына, усадил его на колени и взглядом пресек возражения Дика. Дик считал, что его внук уже слишком взрослый, чтобы льнуть к отцу. – Все хорошо, Уильям Генри, все хорошо.
– А мама? – пролепетал побледневший ребенок, глаза которого стали громадными.
– Мама разволновалась, но вскоре она успокоится. Видишь? Бабушка знает, что делать. Просто мне следовало промолчать. – Ричард поглаживал сына по спине, сдерживая желание рассмеяться – не от веселья, а от горечи. – Вечно я все делаю не так, отец, – добавил он. – Но я не хотел огорчить Пег.
– Знаю, – отозвался Дик и дернул за хвост деревянного кота. – Вот, выпей, – велел он, подавая Ричарду кружку. – Знаю, ты не любишь ром, но сейчас он тебе не повредит.
К собственному изумлению, Ричард обнаружил, что ром и впрямь помог ему, успокоил нервы и приглушил боль.
– Что же мне делать, отец? – спросил он немного погодя.
– Во всяком случае, не брать Уильяма Генри к Хабитасу.
– Значит, она не просто разволновалась?
– Боюсь, что так, Ричард. Но баловать его все-таки не следует.
– Кого? – вдруг вмешался Уильям Генри.
Мужчины переглянулись.
– Тебя, Уильям Генри, – решительно ответил Ричард. – Ты уже вырос, мама напрасно так беспокоится за тебя.
– Знаю, папа, – кивнул Уильям Генри, сполз с отцовских колен, подошел к матери и погладил ее по плечу. – Мама, не волнуйся. Я уже большой.
– Он еще совсем малыш! – выпалила Пег после того, как Ричард отнес ее наверх и уложил в постель. – Ричард, как тебе такое пришло в голову? Взять ребенка в оружейную мастерскую!
– Пег, мы же только собираем ружья, а не стреляем из них, – терпеливо напомнил Ричард. – А Уильям Генри уже подрос, ему необходимы… – он замялся, подыскивая слово, – новые впечатления.
Пег отвернулась.
– Вздор! Зачем ребенку, живущему в таверне, новые впечатления?
– Здесь он каждый день видит одно и то же, – возразил Ричард, старательно пряча досаду. – Его окружают пьянство, хмельные слезы, неосторожные замечания, драки, сквернословие, похоть и отвратительная суета. Ты думаешь, что рядом с тобой все это не повредит ребенку, но не забывай: я тоже сын трактирщика, я хорошо помню, как мне претила жизнь таверны. Откровенно говоря, я обрадовался, когда меня отдали учиться в школу Колстона, а еще больше – когда стал учеником оружейника. Уильяму Генри будет полезно побыть среди трезвых, здравомыслящих людей.
– К Хабитасу ты его не возьмешь! – выпалила Пег.
– Как мне поступать, я решу сам, Пег, и без твоих советов. Но теперь я вижу, – продолжал он, садясь на кровать и кладя ладонь на плечо жены, – что нам давно пора было поговорить. Нельзя до бесконечности держать Уильяма Генри в пеленках только потому, что он наш единственный ребенок. Сегодня я понял, что ему необходимо предоставить больше свободы. Ты должна привыкнуть к тому, что Уильям Генри вырос – на следующий год мы отдадим его в школу Колстона, несмотря на все твои возражения.
– Я не отпущу его! – вскричала Пег.
– Придется. А если ты станешь противиться, Пег, значит, ты заботишься не о нашем сыне, а о самой себе.
– Знаю, знаю, знаю! – пробормотала она, закрыв лицо ладонями и раскачиваясь из стороны в сторону. – Но что я могу поделать? Кроме него, у меня больше ничего нет – и никогда не будет!
– У тебя есть я.
Минуту Пег молчала.
– Да, – наконец согласилась она. – У меня есть ты. Но это разные вещи, Ричард. Если с Уильямом Генри что-нибудь случится, я умру.
Солнце уже зашло; тонкие серые лучики света проникали сквозь щели в перегородке и паутиной ложились на лицо Ричарда Моргана, который неотрывно смотрел на жену. «Да, это не одно и то же», – думал он.
В школе Колстона получали образование сыновья большинства бристольцев, принадлежащих к среднему классу. Эта школа была отнюдь не единственной в городе: все религиозные конфессии, кроме римско-католической, имели свои благотворительные школы, в особенности много их принадлежало англиканской церкви. Но только в двух школах ученики были обязаны носить форму: мальчики из Колстона – синие сюртуки, а девочки из женской школы – красные платья. Обе школы были устроены при англиканской церкви, но девочкам не так повезло: их учили только читать, но не писать, зато много времени уделяли вышивке шелковых жилетов и сюртуков для знати. За эту работу классным дамам платили, а ученицам – нет. Среди бристольских мужчин было больше умеющих писать и считать, чем в любом другом английском городе, в том числе и в Лондоне. Дети из состоятельных семей получали совсем иное образование.
Сто учеников Колстонской школы находились на полном пансионе; этой участи не избежал и Ричард. Во время учебы в школе и ученичества в мастерской, с семи до девятнадцати лет, он виделся с родителями только по воскресеньям и на каникулах. Разве Пег могла согласиться на такое? К счастью, Колстонская школа предлагала и другой режим обучения: за кругленькую сумму ребенок процветающего горожанина мог посещать школу с семи утра до двух часов дня с понедельника по субботу. Разумеется, в праздники уроков не было – ни один школьный учитель не желал лишаться выходных дней, установленных англиканской церковью и самим покойным мистером Колстоном.
Для Уильяма Генри, семенящего рядом с дедом (Мэг пришлось устроить настоящий скандал, чтобы отговорить Пег сопровождать сына), первое утро в школе было важным событием, началом совершенно новой жизни, и он сгорал от любопытства. Он был бы рад побывать и в оружейной мастерской, но крепостные стены, которыми окружила его мать, оставались неприступными, хотя мальчик уже давно устал от однообразия. Более пылкий и порывистый ребенок не раз попытался бы взять эти стены штурмом, но Уильям Генри унаследовал отцовские терпение и сдержанность. Его девизом стало слово «ждать». И вот теперь наконец ожидание кончилось.
Колстонская школа для мальчиков немногим отличалась от двух десятков других благотворительных заведений, называемых домами призрения, больницами или работными домами: она выглядела мрачно, была неопрятной, стекла в ее окнах никогда не мыли, штукатурка потрескалась, балки расслоились. Сырость пропитывала ее от фундамента до дымоходов времен Тюдоров, внутренние помещения не предназначались для учебы, а вонь расположенного неподалеку Фрума вызывала тошноту у всех, кроме коренных бристольцев.
На школьном дворе резвилась толпа мальчишек, половина которых была одета в синие форменные сюртуки. Как приходящий ученик, Уильям Генри не был обязан носить форму. Кроме него, на положении приходящих учеников находилось несколько сыновей олдерменов или членов гильдии купцов, не желавших признаваться, что их отпрыски учатся в благотворительном заведении.
Рослый тощий мужчина в черном костюме и накрахмаленном белом галстуке священника приблизился к Дику и Уильяму Генри, обнажая в улыбке гнилые почерневшие зубы.
– Преподобный Причард, – с поклоном произнес Дик.
– Мистер Морган. – Переведя взгляд на Уильяма Генри, священник слегка приподнял брови. – Это сын Ричарда?
– Да, это Уильям Генри.
– Тогда идем, Уильям Генри. – И преподобный Причард зашагал по двору, не оглядываясь.
Уильям Генри торопливо последовал за ним, ошарашенный хаосом, царившим во дворе.
– Вам повезло, – заметил наставник приходящих учеников, – ваш день рождения совпал с началом учебы, мастер Уильям Генри Морган. Для начала вы изучите алфавит и таблицы сложения. Вижу, вы принесли с собой грифельную доску. Отлично.
– Да, сэр, – отозвался Уильям Генри, чьи манеры были безупречны.
Это были его последние осознанные слова – до самого обеда мальчик пребывал в смятении. Он совсем растерялся. Сколько правил, и все до единого совершенно бессмысленны! Встать прямо. Сесть. Опуститься на колени. Читать молитву. Повторять слова. Как задавать вопросы, когда их задавать нельзя. Кто что сделал и с кем. Когда случилось то, а когда – это…
Занятия проходили в просторной комнате, вмещающей сотню учеников школы Колстона; несколько наставников переходили от одного класса к другому или распекали один класс, не заботясь о том, чем занимаются другие. Уильяму Генри Моргану необычайно повезло: как только начались трудные времена, его дедушка, не занятый привычными делами, принялся учить его алфавиту и даже простым действиям арифметики. Если бы не домашние уроки, первый день в школе ошеломил бы мальчугана.
Преподобный Причард присутствовал в комнате, но не давал уроки. Уильяма Генри определили в класс, наставником которого был мистер Симпсон, и вскоре мальчику стало ясно, что среди подопечных у мистера Симпсона есть любимчики и те, кого он терпеть не может. Этот поджарый мужчина с сальной кожей и брезгливым выражением лица недолюбливал мальчишек, которые громко шмыгали носом и вытирали нос кулаком, или тех, на пальцах которых виднелись липкие коричневые пятна, означающие, что их обладатели пользуются руками при отправлении естественных надобностей.
Уильям Генри охотно выполнял приказы наставника – сидеть смирно, не вертеться, не раскачиваться на скамье, не вытирать нос, не шмыгать, не болтать. Поэтому мистер Симпсон обратил на него внимание лишь на минуту, чтобы спросить его имя и сообщить, что, поскольку в Колстонской школе уже есть два Моргана, Уильяма Генри будут называть Морган Третий. Другой мальчик, которому задали тот же вопрос и дали тот же ответ, сглупил и запротестовал, вовсе не желая быть Картером-младшим. За это он получил четыре сильных удара тростью: один за то, что забыл произнести «сэр», второй – за дерзость, а еще два – на всякий случай.
Трость внушала страх, с таким орудием Уильям Генри еще не успел познакомиться. В сущности, за семь лет жизни его ни разу даже не отшлепали. Поэтому он мысленно поклялся, что никогда не даст наставникам Колстона повод подвергнуть его порке. Часы пробили одиннадцать, ученики расселись на скамьях за длинными столами в школьной столовой, и тут Уильям Генри узнал, кто из них лучше всего знаком с тростью – болтуны, непоседы, грязнули, тупицы, наглецы и те, кто просто не мог удержаться от скверных поступков.
Ни в классе, ни в столовой Уильям Генри старался не приближаться к товарищам, но вскоре обратил внимание на мальчика, сидящего неподалеку, – он казался жизнерадостным, но не слишком дерзким, и потому его ни разу не наказывали и не бранили. Взглянув на незнакомца, Уильям Генри улыбнулся так, что один из наставников затаил дыхание и замер.
Едва увидев улыбку новичка, маленький незнакомец оттолкнул с дороги соученика. Тот шлепнулся на пол, был поднят за ухо и уведен к столу наставников, стоящему на помосте в глубине громадной гулкой комнаты.
– Я Монктон-младший, – сообщил мальчик, улыбаясь так, что Уильям Генри увидел дырку на месте выпавшего зуба. – Учусь здесь с февраля.
– Морган Третий, поступил сегодня, – шепотом отозвался Уильям Генри.
– Его преподобие уже объявил, что в столовой можно говорить громче. Должно быть, твой отец богат, Морган Третий.
Уильям Генри оглядел синий сюртук Монктона-младшего и задумчиво склонил голову.
– Вряд ли, Монктон-младший. Во всяком случае, он не слишком богат. Он учился здесь и тоже носил синий сюртук.
– Вот оно что! – Поразмыслив, Монктон-младший кивнул. – Твой отец еще жив?
– Да. А твой?
– Нет, как и моя мать. Я сирота. – Монктон-младший склонил голову, его ярко-голубые глаза влажно блеснули. – А как тебя нарекли при крещении, Морган Третий?
– У меня два имени – Уильям Генри. А как зовут тебя?
– Джонни. – На лице Монктона-младшего появилось заговорщицкое выражение. – Я буду звать тебя Уильямом Генри, а ты меня – Джонни, но только когда нас никто не слышит.
– А разве это запрещено? – спросил Уильям Генри, продолжающий постигать школьные правила.
– Нет, просто не одобряется. А я терпеть не могу быть младшим!
– А мне не нравится быть третьим. – Уильям Генри виновато перевел взгляд на помост, где его товарища по скамье угощали розгами – орудием пострашнее трости, тем более что порка занимала больше времени и наказанный был вынужден или стоять до конца дня, или беспокойно ерзать на табурете. Встретившись глазами с учителем, сидящим рядом с мистером Симпсоном, Уильям Генри заморгал и потупился, сам не зная почему.
– Кто это такой, Джонни?
– Рядом с директором? Старина Рок, мистер Причард.
– Нет, с другой стороны, рядом с мистером Симпсоном.
– Мистер Парфри. Он преподает латынь.
– А у него есть прозвище?
Монктон-младший ухитрился так завернуть вверх губу, что достал ею до кончика вздернутого носа.
– Если и есть, то мы его не знаем. Латыни учат старших.
Тем временем мистер Парфри и мистер Симпсон беседовали об Уильяме Генри.
– Вижу, Нед, в твоем стаде появился Ганимед.
Мистер Эдвард Симпсон мгновенно понял, о ком идет речь.
– Морган Третий? Видел бы ты его глаза!
– Непременно посмотрю. Но даже отсюда видно, как он обаятелен. Воистину Ганимед – эх, стать бы Зевсом!
– К тому времени, Джордж, как ты начнешь мучить его латынью, он станет старше на два года и будет таким же неряшливым, как они все, – отозвался мистер Симпсон, привередливо ковыряя еду, которая, кстати, была более съедобной, чем пища для учеников. В семье мистера Симпсона болезни передавались из поколения в поколение, сокращая жизни.
Эта беседа вовсе не свидетельствовала о тайных пороках, а просто была симптомом незавидной участи учителей. Джордж Парфри мечтал стать Зевсом, но так же тщетно он мог бы грезить об удаче Роберта Наджента, ныне графа Наджента. Среди школьных учителей было немало потомков обедневшей знати. Для мистера Симпсона и мистера Парфри работа в школе Колстона стала неслыханной синекурой: им платили фунт в неделю – но не во время каникул, – а также круглый год предоставляли стол и жилье. Поскольку экономы Колстона закупали отличную еду (директор слыл истинным эпикурейцем), а каждый учитель имел собственную комнату, у них не было причин искать новое место – разумеется, если им не предлагали работу в Итоне, Хэрроу или Бристольской средней школе. Брак лишь осложнял положение наставника, о нем не могло быть и речи, пока учителя не добивались особого разрешения или повышения в должности; впрочем, браки не запрещались, но никто и не помышлял о том, чтобы поселить жену и детей в учительской комнатушке при школе. И кроме того, ни мистер Симпсон, ни мистер Парфри не питали пристрастия к прекрасному полу. Они предпочитали себе подобных, а именно – друг друга. Однако чувства таились лишь в душе бедняги Неда Симпсона, а Джордж Парфри всецело принадлежал себе, не отвечая ему взаимностью.
– Может, сходим к горячим источникам в воскресенье, после службы? – с надеждой спросил мистер Симпсон. – Воды мне полезны.
– При условии, что я смогу взять с собой краски, – отозвался мистер Парфри, по-прежнему не отрывая глаз от Уильяма Генри Моргана, который с каждой минутой оживлялся и хорошел. Мистер Парфри скорчил гримасу. – Ума не приложу, чем тебе могут помочь эйвонские помои, но если ты не станешь мешать мне наслаждаться покоем возле скал Сент-Винсента, я составлю тебе компанию. – Он вздохнул. – О, как бы я хотел написать портрет этого ангелочка!
Направляясь в школу за Уильямом Генри, Ричард боролся с тревогой. Что, если перепуганный малыш будет умолять отца не отправлять его завтра в школу?
Но его опасения оказались напрасными. Ричард сразу отыскал взглядом сына, который со смехом бежал по двору, перебрасываясь шутками со своим ровесником в синем сюртуке, светловолосым и болезненно худым пареньком.
– Папа! – Уильям Генри бросился к отцу, товарищ последовал за ним. – Папа, это Монктон-младший, но я зову его Джонни, когда нас никто не слышит. Он сирота.
– Как дела, Монктон-младший? – приветливо спросил Ричард, на которого нахлынули воспоминания о собственной учебе в Колстоне. Он тоже был Морганом-младшим, а когда ему минуло одиннадцать, его переименовали в Моргана-старшего. И только лучший друг звал его Ричардом. – Я спрошу у преподобного Причарда, можно ли пригласить тебя к нам на обед в воскресенье, после церковной службы.
Ричарду казалось, что прежний Уильям Генри бесследно исчез, а рядом с ним очутился маленький незнакомец. Новый Уильям Генри никак не мог идти спокойно – он приплясывал и подпрыгивал, что-то напевая себе под нос.
– Значит, в школе тебе понравилось, – с улыбкой заключил Ричард.
– Там замечательно, папа! Можно бегать и кричать!
На глаза Ричарда навернулись слезы, он поспешно сморгнул их.
– Но, надеюсь, не в классе.
Уильям Генри укоризненно взглянул на него.
– Папа, в классе я сущий ангел! Меня еще ни разу не били тростью. А многих мальчиков то и дело колотят, а один лишился чувств, когда получил тридцать ударов. Тридцать – это ужасно много. Но я понял, что надо делать, чтобы меня не били.
– Правда? И что же?
– Вести себя тихо и писать как следует.
– Да, Уильям Генри, этот прием мне хорошо известен. А старшие мальчики не обижали вас на переменах?
– Когда застали нас в уборной?
– А они по-прежнему ловят малышей в уборной?
– Нас поймали. Но я нарисовал на стене уборной каракули большой какашкой – Джонс-старший покакал мне прямо на ладонь, хотя почти все свалилось, – и меня отпустили. Джонни говорит, что больше меня не тронут. Обижают только тех, кто ревет и пытается удрать. – И он высоко подпрыгнул. – А пальцы я вытер о сюртук. Видишь?
Сжав губы, Ричард осмотрел бурое пятно на новеньком сером сюртуке Уильяма Генри и несколько раз судорожно сглотнул. «Только не смейся, Ричард, ради Бога, не смейся!»
– На твоем месте, – помедлив, начал он, – я не стал бы рассказывать об этом маме. И не показывай ей, обо что вытер руки. А я попрошу бабушку отчистить пятно.
Когда Ричард ввел сына в «Герб бочара», на его лице застыло торжествующее выражение, которое заметил лишь его отец. Пег запричитала, схватила присмиревшего Уильяма Генри в объятия и осыпала его лицо поцелуями. Но мальчуган вырвался.
– Мама, не надо! Я уже большой мальчик. Дедушка, сегодня мне было так весело! Я десять раз обежал вокруг двора, упал и разбил коленку, написал целую строчку букв «А» на грифельной доске, а мистер Симпсон сказал, что я не по годам прилежен и скоро он переведет меня в следующий класс. А что толку? Следующий класс учит тоже он и в той же комнате. Мама, с коленкой ничего не случилось! Не волнуйся!
Остаток дня Ричард сколачивал доски, чтобы отгородить для Уильяма Генри собственную комнату в глубине спальни, где уже давно стояла его кровать. За работой он успокоился; судя по шуму из зала, Уильям Генри рассказывал каждому новому посетителю таверны, как он провел первый день в школе. Он болтал без умолку – Уильям Генри, от которого прежде нельзя было добиться и двух слов подряд!
По отношению к Пег Ричард ощущал жалость, умеренную ледяным ветром здравого смысла. Уильям Генри вылетел из гнезда, вернуть прошлое невозможно. Но как он сумел всего-навсего за один день забыть о привычках, складывавшихся годами? Один день просто не мог принести столько новых мыслей, из-за которых поведение мальчика в корне изменилось. Значит, Уильям Генри все-таки отнюдь не святой. Слава Богу, он обычный мальчишка.
Все это Ричард пытался объяснить Пег, но безуспешно. Несмотря на все уговоры, Пег наотрез отказывалась смириться с тем, что ее сын ожил и теперь радуется знакомству с большим миром. Утешения она искала в слезах, погружаясь в мрачную пучину подавленности, которая приводила в отчаяние Ричарда. Он устал от рыданий жены, не имел представления о всей глубине ее горя, о том, как остро она сознает, что не сумела выполнить важнейшую задачу, возложенную на женщину, – рожать детей. Успокаивая жену, Ричард ни разу не потерял терпение, но день, когда он застал Пег с кружкой рома, оказался для него серьезным испытанием.
– Здесь тебе не место, – ласково произнес он. – Позволь мне купить дом в Клифтоне, пожалуйста.
– Нет, нет, нет! – закричала она.
– Дорогая, мы женаты уже четырнадцать лет, все это время ты была мне не только женой, но и другом, однако мое терпение на исходе. Не знаю, что с тобой происходит, но ром тебе не поможет.
– Оставь меня в покое!
– Не могу, Пег. Отец недоволен, но это еще не самое худшее. Уильям Генри достаточно подрос, чтобы понимать, что мама ведет себя странно. Прошу тебя, будь умницей ради нашего сына.
– Уильяму Генри нет до меня дела, почему же я должна беспокоиться о нем? – возразила она.
– Пег, это неправда!
И так продолжалось до бесконечности: ни уговоры, ни терпение Ричарда, ни раздражение Дика не могли образумить Пег. Впрочем, она перестала пить ром, когда Уильям Генри напрямик спросил ее, почему она пошатывается. Прямота сына изумила ее.
– Уж не знаю почему, – позднее сказал Дик Ричарду. – Ведь Уильям Генри – сын трактирщика.
В конце февраля тысяча семьсот восемьдесят второго года мистер Джеймс Тислтуэйт прислал с курьером письмо Ричарду.
«Пишу тебе в ночь на двадцать седьмое, дружище. Я стал богаче на тысячу фунтов, выплаченных банком моей беспомощной жертвы. Все кончено! Сегодня парламент проголосовал за прекращение наступательных военных действий против тринадцати колоний, вскоре войска будут отозваны.
Я склонен винить во всем меховую шапку Франклина. Лягушатники оказались преданными союзниками, особенно адмирал де Грасс и генерал де Рошамбо, а значит, примирение с ними возможно, если мы сумеем привыкнуть к образу мысли французов. Джордж Вашингтон и лягушатники долго сжимали кольцо вокруг Йорктауна, но лично я думаю, что последней каплей для парламента стала капитуляция лорда Корнуоллиса. Да, понимаю – Клинтон слишком хорошо проводил время в Нью-Йорке, чтобы броситься на выручку Корнуоллису, известно мне и то, что французский флот помог Вашингтону и сухопутной армии лягушатников захватить Йорктаун, но этим не смыть такой позор, как капитуляция. Бэргойн опять проиграл. Лондон пристыжен.
Оповести об этом всех, Ричард, поскольку мой курьер доберется до Бристоля первым, и не забывай упоминать, что твой осведомитель – Джеймс Тислтуэйт, бывший бристолец.
Хочешь знать, как я намерен распорядиться тысячей фунтов? Куплю большую бочку рома у Томаса Кейва – в такую бочку вмещается сто пять галлонов! А еще побываю в «Зеленой корзине» на Хаф-Мун-стрит и накуплю кучу самых тонких кондомов от миссис Филлипс. Все лондонские потаскухи больны сифилисом и триппером, а миссис Филлипс снабжает нас самым ценным изобретением в мире – разумеется, не считая рома. Завернув в него свою сахарную палочку, я смогу развлекаться напропалую, ничем не рискуя».
На следующий год, в марте тысяча семьсот восемьдесят третьего, сеньору Томасу Хабитасу пришлось отпустить Ричарда из мастерской. К тому времени в Бристольском банке у Ричарда скопилось три тысячи фунтов, из них он не потратил ни единого пенни. На что ему было тратить эти деньги? Пег наотрез отказывалась переселиться в Клифтон, а отец, которого Ричард уговаривал арендовать постоялый двор «Вороная лошадь» в Клифтоне, твердил, что ему хорошо и в «Гербе бочара». Дик откровенно объяснил, что тратил далеко не каждый грош из тех двенадцати шиллингов в день, которые Ричард платил ему последние семь лет. Дик мог позволить себе переждать трудные времена на прежнем месте, на Брод-стрит, ни в чем не нуждаясь.
Война в Америке завершилась, спустя некоторое время был заключен мирный договор, но процветание не вернулось. Отчасти виной тому были беспорядки в парламенте, где Чарлз Джеймс Фокс и лорд Норт подняли шум из-за концессий, которые лорд Шелберн якобы незаконно предоставил американцам. Никто не заботился о таких мелочах, как управление страной. В Вестминстере то и дело бушевали скандалы, члены временных правительств вели закулисные игры, а истина заключалась в том, что ни один из них, включая полупомешанного короля, не знал, как быть с военным долгом в размере двухсот тридцати двух миллионов и с сокращением доходов.
Среди бристольских матросов начали вспыхивать голодные бунты. Матросам платили тридцать шиллингов в месяц, притом только во время рейсов. На берегу они не получали ни фартинга. Положение стало таким отчаянным, что мэр сумел уговорить судовладельцев платить матросам по пятнадцать шиллингов в месяц даже во время простоя кораблей. В тысяча семьсот семьдесят пятом году пошлину мэру уплачивали пятьсот двадцать девять судов, к тысяча семьсот восемьдесят третьему году их количество сократилось до ста двух. Поскольку большинство этих кораблей было приписано к Бристолю и стояло на якоре у причалов и доков, а также ниже по течению реки, несколько тысяч матросов стали силой, с которой приходилось считаться.
Десять тысяч из сорока тысяч жителей Ливерпуля существовали только за счет скудных благотворительных фондов города, а в Бристоле местный налог в пользу бедных достиг ста пятидесяти процентов. У корпорации и гильдии купцов не осталось другого выхода, кроме распродажи имущества. Новые строгие правила были введены, чтобы остановить приток крестьян в Бристоль, где при церквах их хотя бы кормили. Тех, кого уличали в мошенничестве, публично пороли у позорных столбов и выгоняли из города, но тем не менее численность населения города росла быстрее, чем уровень воды в Эйвоне в час прилива.
– Ты слышал, Дик? – спросил кузен Джеймс-аптекарь, зайдя в таверну по дороге домой из лавки. Он помахал рукой, разгоняя завесу дыма. – О недовольстве осужденных из Ньюгейта? Их больше не в состоянии кормить на два пенса в день – ведь четырехфунтовая булка стоит шестнадцать пенсов!
– Тех, кто еще ждет приговора, кормят на пенни в день, – напомнил Дик.
– Я зайду к булочнику Дженкинзу и попрошу послать в тюрьму столько хлеба, сколько понадобится. А еще сыра и требухи.
Дик хитро усмехнулся:
– Значит, Джим, ты перестал сыпать шиллинги в их протянутые руки?
Кузен Джеймс-аптекарь покраснел.
– Да, ты был прав, Дик. Все полученные деньги они пропивали.
– И всегда будут пропивать. А отправив им хлеб, ты поступишь разумно. Только позаботься о том, чтобы твоему примеру последовали другие.
– Как живет Ричард с тех пор, как он остался без работы? Я давно его не видел.
– Неплохо, – коротко отозвался отец Ричарда. – А причина, по которой он прячется, лежит наверху, в постели.
– Навеселе?
– Нет, что ты! Она завязала после того, как Уильям Генри напрямик спросил ее, зачем она пьет ром. – Дик пожал плечами. – Когда Уильяма Генри нет дома, она лежит в постели и смотрит в никуда.
– А когда Уильям Генри дома?
– Она ведет себя пристойно. – Хозяин таверны нахмурился и сердито сплюнул в опилки. – Ох уж эти женщины! Странные они существа, Джим.
Перед мысленным взором кузена Джеймса-аптекаря возникли лица его истерички-жены и двух дурнушек дочерей, старых дев. Он криво усмехнулся и кивнул.
– Я часто думаю о том, зачем Бог наделяет иных людей лошадиными лицами, – заметил он.
Дик расхохотался.
– Вспомнил о девочках, Джим?
– Они уже давно не девочки, их последние надежды обратились в дым. – Он поднялся. – Жаль, что я не застал Ричарда. Я надеялся увидеть его здесь, как в прежние времена, пока он не вернулся к Хабитасу.
– Прежние времена миновали – надо ли напоминать об этом? Оглядись вокруг! Таверна пуста, пристань кишит оборванными матросами. А как добродетельны стали наши прихожане, городская беднота, каким праведным негодованием они пылают! Они забрасывают камнями несчастных, привязанных к позорным столбам, вместо того чтобы сочувствовать им. – Дик грохнул кулаком по столу. – Зачем нам понадобилось вести войну за три тысячи миль от дома? Почему мы просто не предоставили колонистам вожделенную свободу? Надо было пожелать им удачи и заняться своими делами или начать войну с Францией. Страна погибла, и все во имя идеи. Притом не нашей идеи.
– Ты не ответил мне. Если у Ричарда нет работы, где же он? И где Уильям Генри?
– Ушли гулять вдвоем, Джимми. Как всегда, в Клифтон. Они идут вверх по Пайп-лейн, затем по Фрог-лейн, через Брэндон-Хилл к Клифтон-Хиллу, подолгу смотрят на коров и овец у Клифтонского пруда и возвращаются обратно по берегу Эйвона, где бросают в воду камушки и смеются без умолку.
– Об этом рассказал тебе Уильям Генри?
– Ричард ничего мне не рассказывает, – мрачно отозвался Дик.
– У вас с ним нет ничего общего, – вздохнул кузен Джеймс – аптекарь, направляясь к двери. – Такое случается. Благодари Бога за то, что Ричард и Уильям Генри похожи друг на друга, как горошины из одного стручка. Это… – он опять вздохнул, – прекрасно.
В следующее воскресенье, после душеспасительной проповеди кузена Джеймса-священника, Ричард и Уильям Генри пешком отправились к горячим источникам Клифтона.
Лет двадцать назад высшее общество предпочитало бристольские воды Бату; постоялые дворы Дауэри-плейс, Дауэри-сквер и Хотуэллс-роуд переполняли элегантные приезжие в роскошном облачении, джентльмены в пудреных париках и расшитых кафтанах, в башмаках на высоких каблуках, ведущие под руку увешанных драгоценностями дам. Здесь устраивались балы и званые вечера, приемы и рауты, концерты и прочие увеселения, даже театральные представления в старом клифтонском театре на Вуд-Уэллс-лейн. За короткое время это подобие Воксхолл-Гарденз повидало немало маскарадов, интриг и скандалов, авторы романов отправляли своих героинь в Хотуэллс, а известные врачи расхваливали целебные свойства местных вод.
А потом курорт начал утрачивать свою прелесть – слишком медленно, чтобы совсем исчезнуть, но достаточно быстро, чтобы зачахнуть. Его сотворила мода, и она же развенчала его. Элегантные приезжие устремились в Бат или Челтенхэм, а Бристолю осталось только вывозить из города минеральные воды в бутылках.
Это вполне устраивало Ричарда и Уильяма Генри, ибо за все воскресенье им попалось не больше десятка гуляющих. Мэг снабдила их холодным обедом – жареной курицей, хлебом, маслом, сыром и ранними яблоками, присланными ее братом с бедминстерской фермы. Ричард уложил снедь в солдатский мешок, туда же отправил флягу легкого пива и закинул мешок за плечо. Отец и сын отыскали уединенное местечко за квадратной громадой Хотуэллс-Хауса, который возвышался на плоской каменной скале высоко над уровнем прилива, в конце ущелья, прорезанного водами Эйвона.
Уголок и вправду был живописным: скалы Сент-Винсент и утесы ущелья изобиловали красными, сливовыми, розовыми, коричневыми, серыми и беловатыми тонами, воды реки имели оттенок голубоватой стали, а кроны деревьев скрывали из виду даже трубы медеплавильного завода мистера Кодрингтона.
– Папа, ты умеешь плавать? – спросил Уильям Генри.
– Нет. Потому мы и сидим здесь, а не на берегу реки, – отозвался Ричард.
Уильям Генри окинул реку задумчивым взглядом; как раз начинался прилив, поток бурлил, быстро поднимаясь.
– Вода движется, будто живая.
– Можно сказать и так. Она голодна, никогда не забывай об этом. Вода способна утащить тебя и поглотить целиком, и больше ты никогда не увидишь солнца. Поэтому старайся не приближаться к ней, ясно?
– Да, папа.
Покончив с обедом, отец и сын растянулись на траве, подложив под головы свернутые сюртуки. Ричард прикрыл глаза.
– Симпсона больше нет, – вдруг произнес Уильям Генри.
Его отец приоткрыл один глаз.
– Неужели ты не можешь помолчать хотя бы минуту?
– Сейчас – нет. Симпсона больше нет.
Смысл его слов наконец-то дошел до Ричарда.
– Ты хочешь сказать, больше он не будет вас учить? Что ж, этого и следовало ожидать – ты ведь уже перешел в третий класс.
– Папа, он умер! Летом, пока мы были на каникулах. Джонни говорит, что он был серьезно болен. Директор попросил епископа взять его в один из приютов, но епископ ответил, что приюты предназначены не для больных, а для… забыл это слово.
– Для нуждающихся?
– Да, для нуждающихся! Его увезли в больницу Святого Петра. Джонни рассказывал, что Симпсон страшно кричал.
– Я бы тоже не стал молчать, если бы меня увозили в больницу Святого Петра, – с чувством отозвался Ричард. – Бедняга… Но почему ты до сих пор молчал?
– Я забыл, – уклончиво ответил Уильям Генри, перевернулся с боку на бок, вонзая каблуки в траву, глубоко вздохнул, хлопнул в ладоши, снова перевернулся и начал выкапывать из земли приглянувшийся ему камень.
– Пора идти, сынок, – произнес Ричард, поднимаясь, заталкивая оба сюртука в солдатский мешок и взваливая его на плечо. – Может, поднимемся на Грэнби-Хилл и осмотрим грот мистера Голдни?
– Да, папа, пожалуйста! – воскликнул Уильям Генри, вскакивая на ноги.
«Эти двое выглядят так, словно им нет дела до остального мира, – размышлял мистер Джордж Парфри, скрытый из виду живой изгородью. – И должно быть, миру тоже нет до них никакого дела». Мальчик был приходящим учеником школы; его одежда и одежда Ричарда отнюдь не поражала великолепием, но мистер Парфри обратил внимание на добротную тонкую ткань, необтрепанные, аккуратные полы, блеск серебряных пряжек на башмаках и независимые манеры отца и сына.
Разумеется, мистер Парфри знал отца Моргана Третьего; в Колстонской школе слухи распространялись мгновенно, в комнате для наставников платным ученикам все усерднее перемывали косточки, поскольку больше говорить было не о чем. Партнером Ричарда Моргана был еврей, который сколотил состояние на американской войне. Мистер Парфри редко встречал более миловидных мальчиков, чем Морган Третий, который к тому же был ничем не испорчен и не избалован. По правде говоря, он даже не сознавал, что красота способна помочь ему разбогатеть.
Должно быть, мужчина рядом с Морганом Третьим – это его отец. Они слишком похожи, чтобы быть дальними родственниками. На коленях мистера Парфри лежал альбом, на одной из страниц которого он успел нарисовать отца и сына, отдыхающих близ Эйвона. Рисунок удался. Сам Джордж Парфри был привлекательным человеком, и в молодости именно смазливость помешала ему стать учителем рисования дочерей какого-нибудь богача. Ни один богач в здравом уме не согласился бы нанять юного красавца в учителя своим наследницам – ведь девицам так легко вскружить голову.
Сердце Джорджа Парфри никому не принадлежало, но, как ни странно, ему недоставало бедняги Неда Симпсона; остальные учителя Колстонской школы уже давно разбились на пары и не собирались изменять прежним друзьям. С тех пор как Неда увезли в больницу, где он вскоре и умер, Джордж Парфри тосковал в одиночестве. Ни директор, ни епископ, ни преподобный мистер Причард не одобряли «греческую» любовь – у каждого была жена и, если верить слухам, любовница. Все, кто заводил тайные связи в стенах Колстонской школы, подвергали себя чудовищной опасности. К учителям относились пренебрежительно, их способностями и познаниями никто не интересовался. Их брали на работу по рекомендации попечительского или церковного комитета, влиятельного священника, олдермена, члена парламента. Никто из этих видных лиц не одобрял однополую любовь, даже тщательно скрываемую от посторонних глаз. Все решали спрос и предложение. Матросы могли напиваться до полусмерти, чертыхаться и ввязываться в драки, не пропускать ни одной юбки в каждом порту – от Бристоля до Вампоа и все-таки пользовались репутацией добросовестных работников, а их пьянство, драчливый нрав и распутство не беспокоили владельцев кораблей. То же самое относилось к юристам и счетоводам. А школьные учителя считались неходовым товаром. Никаких попоек, драк и, Боже упаси, плотской любви! Особенно в благотворительной школе.
Мистер Парфри подумывал о том, чтобы поискать другое место, но вскоре понял, что ему не на что рассчитывать. Его мирок слишком мал, чересчур тесен. Его карьера завершится в Колстонской школе, после чего епископ милостиво согласится поместить его в приют. Джорджу Парфри уже минуло сорок пять лет, большую часть жизни он провел в благотворительном заведении Колстона.
Он уложил альбом в саквояж и покинул берег Эйвона, продолжая размышлять о Моргане Третьем и его отце. Как ни странно, отец обладал миловидностью сына, однако не приковывал к себе взгляды.
После того как каникулы Уильяма Генри кончились, а у Ричарда прибавилось свободного времени, ему было сделано заманчивое предложение. Кузен Джеймс-аптекарь посоветовал ему разумно распорядиться тремя тысячами фунтов – ни к чему оставлять деньги в банке квакеров, если их можно вложить в солидное дело, убеждал предприимчивый представитель клана Морганов.
С мистером Томасом Латимером Ричард познакомился, зайдя вместе с Уильямом Генри в мастерскую к Хабитасу. За семь лет изготовления «смуглых Бесс» сеньор Хабитас скопил кругленькую сумму и мог бы удалиться от дел, но он слишком любил свое ремесло, чтобы забросить его. Хабитас поместил в «Бристольском журнале» Феликса Фэрли объявление о том, что он изготавливает на заказ охотничьи ружья, и вскоре у него появились первые состоятельные клиенты и возможность развеять скуку.
Представив гостей друг другу, Хабитас объяснил, что мистер Латимер – мастер совсем иного рода: он делает насосы.
– Преимущественно ручные, но сейчас суда переходят на насосы с цепным приводом, и я получил контракт Адмиралтейства на изготовление самих цепных приводов, – жизнерадостно добавил мистер Латимер. – Ручным насосом можно перекачать самое большее тонну воды за неделю, а насос с цепным приводом перекачивает ту же тонну воды за считаные минуты. Не говоря уже о том, что его основой служит простая деревянная конструкция, которую способен изготовить корабельный плотник! Чтобы завершить работу, ему потребуется всего лишь медная цепь.
Ричард слушал внимательно, мистер Томас Латимер сразу завоевал его расположение. С виду он вовсе не походил на инженера, был невысоким, полноватым и улыбчивым – никаких нахмуренных бровей Вулкана или стальных мышц кузнеца!
– Я приобрел медеплавильный завод Уосборо на Нэрроу-Уайн-стрит, – объяснил Латимер. – Говорю об этом только потому, что там находится одна из трех пароатмосферных машин Уосборо.
Разумеется, Ричард знал, что такое пароатмосферная машина. После того как его сын снова начал ходить в школу и с семи до двух часов Ричард оказался предоставленным самому себе, он узнал много нового об этом замечательном изобретении.
Пароатмосферная машина, прозванная «огненной», была изобретена Ньюкоменом в начале века для откачки воды из угольных шахт Кингсвуда и приведения в движение водяных колес на медеплавильных заводах Уильяма Чампиона, расположенных на берегу Эйвона, близ шахт. Потом Джеймс Уатт изобрел отдельный конденсатор пара, повысив производительность машины Ньюкомена настолько, что ему удалось заинтересовать своим изобретением бирмингемского железного и стального магната Мэтью Болтона. Уатт стал партнером Болтона, им двоим принадлежала монополия на производство паровых машин – благодаря ряду судебных процессов, устраняющих конкурентов; ни одному изобретателю не удавалось включить запатентованный паровой конденсатор Уатта в свою конструкцию.
А затем Мэтью Уосборо, человек лет двадцати пяти, познакомился с юношей из Бристоля по фамилии Пикар. Уосборо создал механизм, состоящий из блоков и маховика, Пикар изобрел кривошип, и с помощью этих трех устройств возвратно-поступательное движение паровой машины удалось преобразовать в циркуляционное. Теперь движущая сила перемещалась не туда и обратно, а по кругу.
– Водяные колеса вращаются и заставляют вращаться механизмы, – объяснял Томас Латимер, проводя обливающегося потом Ричарда между плавильными печами, горнами, токарными станками, прессами, среди дыма и шума. – А эта штука, – продолжал Латимер, указывая рукой, – способна заставить механизмы вращаться самостоятельно.
Ричард уставился на пыхтящее чудовище в окружении работающих станков, которые превращали медные чушки в полезные детали кораблей. Железо на судах не применялось: соленая морская вода разъедала его.
– Может, выйдем отсюда? – прокричал Ричард, у которого заложило уши.
– Соединив блоки и маховик с кривошипом, Уосборо и Пикар в буквальном смысле слова упразднили водяное колесо, – продолжил Латимер, едва они вышли на берег Фрума недалеко от Уира, излюбленного места прачек. – Это блестящее изобретение, благодаря ему отпала необходимость строить предприятия на берегах рек. Если уголь обходится дешево, как здесь, в Бристоле, пар работает лучше воды – при наличии циркуляционного двигателя.
– Но почему же я никогда не слышал об Уосборо и Пикаре?
– Потому что Джеймс Уатт подал на них в суд – за применение в паровой машине запатентованного им парового конденсатора. Кроме того, Уатт обвинил Пикара в похищении у него идеи кривошипа, а это явный вздор. Уатт решил проблему циркуляционного движения с помощью реечной передачи, назвав ее «движением Солнца и планет», однако это чертовски сложное и медленно действующее устройство. Едва увидев патент на кривошип Пикара, он понял, что ошибался, но не захотел признать поражение.
– Понятия не имел, что инженеры так ожесточенно соперничают друг с другом. И что же было дальше?
– Так и не сумев получить правительственный подряд на строительство мельницы в Дептфорде, Уосборо умер от отчаяния – ему было всего двадцать восемь лет, а Пикар бежал в Коннектикут. Но мне удалось обойтись без парового конденсатора Уатта, поэтому я намерен начать производство машин Уосборо – Пикара прежде, чем истечет срок их патентов и Уатт приберет их к рукам.
– Трудно поверить, что умнейший человек мира способен на такое, – заметил Ричард.
– Джеймс Уатт, – без улыбки отозвался Томас Латимер, – испорченный, расчетливый шотландец без особых способностей, зато с громадным самомнением! Если какое-нибудь изобретение и существует, то оно должно принадлежать Уатту – послушать его, так Бог служит у него в подмастерьях, а мастерская находится на небесах. Ха!
Ричард окинул взглядом медлительные воды Фрума и плавающий на поверхности мусор. От него мигом засорятся ковши водяного колеса, понял он.
– Преимущества пара перед водой мне понятны, – произнес он. – Промышленность просто не в состоянии развиваться, пока ей требуется мощь воды посреди городов. Циркуляционное движение – шаг в будущее, мистер Латимер.
– Зовите меня Томом. Вы только вдумайтесь, Ричард! Уосборо мечтал установить одну из паровых машин на корабле – это позволило бы ему плыть прямым, как стрела, курсом и не зависеть от морских течений и попутных ветров. Паровой двигатель приводил бы в движение лопасти усовершенствованных гребных колес по обоим бортам судна, посылая его вперед. Замечательно!
– И вправду замечательно, Том.
Вернувшись домой, Ричард пересказал услышанное немногочисленной аудитории, состоящей из его отца и кузена Джеймса-аптекаря.
– Латимер ищет вкладчиков, – заключил Ричард, – и я подумываю о том, чтобы вложить мои три тысячи фунтов в его предприятие.
– Ты потеряешь деньги, – мрачно предупредил Дик.
Но кузен Джеймс-аптекарь не согласился с ним.
– Вести об изобретениях Латимера вызвали немалый интерес, Ричард; рекомендации этого человека превосходны, хотя в Бристоле он обосновался недавно. Я сам намерен вложить тысячу фунтов в это дело.
– Значит, вы оба спятили, – с непоколебимым упрямством заявил Дик.
Склонившись над учебниками, Уильям Генри сидел за бывшим столом мистера Джеймса Тислтуэйта и готовил уроки; он уже перешел с грифельной доски на чернила и бумагу, и ему хватало неиссякаемого терпения, присущего Ричарду, чтобы каллиграфически выводить буквы, не оставляя клякс – извечного проклятия большинства мальчишек.
«Надо заработать денег, – размышлял Ричард, – и отправить Уильяма Генри учиться в Оксфорд. Тогда в двенадцать лет ему не понадобится становиться учеником какого-нибудь юриста, аптекаря или оружейника, чтобы провести целых семь лет в рабстве. Мне повезло с Хабитасом, но сколько молодых подмастерьев довольны своими хозяевами? Нет, я не хочу такой судьбы моему единственному ребенку. После Колстонской школы он поступит в Бристольскую среднюю школу, а потом и в Оксфорд. Или в Кембридж. Ему нравится учить уроки, и я заметил, что ему, как и мне, вовсе не трудно прочесть книгу. Он любит учиться».
Пег вместе с Мэг заканчивали готовить ужин, а Ричард расхаживал между занятых столов, забирая пустые кружки и принося наполненные. В таверне царило оживление; Пег, похоже, наконец-то образумилась. Изредка она улыбалась, старалась не слишком опекать Уильяма Генри, а в постели иногда сама прижималась к Ричарду, напоминая о супружеском долге. Но прежняя любовь исчезла без следа. Сохранились лишь воспоминания о былых мечтах, которые быстро угасали. Только юноша способен покорить вершины разума, думал Ричард. А он в свои тридцать пять лет уже не молод. Его сыну исполнилось девять, наступало его время мечтать.
Наряду с десятком бристольцев Ричард вложил деньги в разработку нового двигателя; никто из вкладчиков мистера Томаса Латимера, в том числе и кузен Джеймс-аптекарь, не проявлял ни малейшего интереса к самому медеплавильному заводу, где изготавливали цепи из плоских, соединенных крюками звеньев, предназначенные для новых корабельных насосов.
– На Рождество мы прекращаем работу, – сообщил мистер Томас Латимер Ричарду, который из любопытства посещал завод Уосборо чуть ли не каждый день. Наступало туманное, печальное время года.
– Странно… – отозвался Ричард.
– О, платить рабочим нам не придется! Просто я заметил, что на Рождество работа почти не движется. Слишком много рома. Впрочем, не знаю, что празднуют эти бедолаги, – вздохнул Латимер. – Жизнь не стала лучше – даже после того, как канцлером казначейства был назначен младший Уильям Питт.
– А что он может поделать, Том? Единственный способ уплатить военный долг – повысить прежние налоги и ввести новые. – Ричард криво усмехнулся. – Разумеется, ты мог бы обрадовать рабочих, выплатив им рождественское пособие.
Жизнерадостность не изменила мистеру Латимеру.
– Ни в коем случае! Иначе меня осудят все предприниматели Бристоля!
Сам Ричард приятно провел Рождество в «Гербе бочара», тем более что Уильям Генри не ходил в школу, а таверну заполнили посетители. Мэг и Пег готовили восхитительные пудинги и кувшины густого соуса к ним, на вертеле жарились куски оленины, а Дик подавал праздничный напиток – горячее сладкое вино с пряностями. Ричард преподнес родным подарки: второго кота, серого, изливающего джин – Дику, зеленые шелковые зонтики – Мэг и Пег, а Уильяму Генри достались связка книг, стопка лучшей писчей бумаги, отличный кожаный мяч, набитый пробкой, и целых шесть карандашей из камберлендского графита.
Дик довольно разглядывал кота, Мэг и Пег взволнованно ахали.
– Какая роскошь! – воскликнула Мэг, открывая зонтик и любуясь переливами тонкой нефритово-зеленой ткани. – О, Пег, какие мы теперь щеголихи! Нам позавидует даже кузина Энн! – Она сделала пируэт и поспешно закрыла зонтик. – Уильям Генри, только не вздумай играть в мяч в таверне!
Разумеется, Уильям Генри счел мяч лучшим подарком, но обрадовался и карандашам.
– Папа, научи меня точить их – я хочу, чтобы они прослужили как можно дольше, – сияя, попросил он. – Мистер Парфри будет в восторге! Таких карандашей нет даже у него!
Все родные уже знали, что Уильям Генри избрал мистера Парфри своим кумиром: о достоинствах этого учителя мальчик рассказывал каждый день с тех пор, как в октябре начал брать уроки латыни. Очевидно, этот человек умел учить, ибо с первого же дня завоевал уважение Уильяма Генри, и не только его. Даже Джонни Монктон соглашался, что мистер Парфри – учитель что надо.
– Пусть восхищается сколько угодно, но не отбирает их, – ответил Ричард, вкладывая в руку сына маленький сверток. – А это подарок для Джонни. Жаль, что директор школы не согласился отпустить пансионеров по домам на Рождество, – тогда мы пригласили бы Джонни поужинать с нами. В утешение передай ему подарок.
– Это карандаши! – мгновенно сообразил Уильям Генри.
– Да, карандаши.
Улучив минуту, Пег крепко обняла Уильяма Генри и прижалась губами к его широкому белому лбу. Словно понимая, что это единственный подарок, который может преподнести ему мать, Уильям Генри вытерпел объятия и даже ответил на поцелуй.
– Наш папа самый лучший, правда? – спросил он.
– Да, – подтвердила Пег, тщетно ожидая, что ее назовут самой лучшей мамой. Год назад равнодушие сына вкупе с подобным замечанием вызвало бы в душе Пег прилив ненависти к Ричарду, но с недавних пор она поняла, что ее ненависть ничего не изменит. Значит, остается только соглашаться с мужем и угождать ему. Уильям Генри обожает его. О чем еще может мечтать женщина? Ее сын и муж нашли общий язык.
В самом начале нового, тысяча семьсот восемьдесят четвертого года Ричард отправился на Нэрроу-Уайн-стрит, посетить завод мистера Латимера.
Похожее на амбар строение на Нэрроу-Уайн-стрит было сложено из обтесанных глыб известняка, почерневших от копоти; по его фасаду располагался ряд громадных, окованных железом дверей, из которых обычно вырывались грохот, жар и клубы дыма.
Как странно! Все двери были заперты. Праздник для рабочих Латимера, которым не платили с самого Рождества, выдался слишком длинным. Пройдя вдоль здания, Ричард подергал все двери по очереди, но безуспешно, а потом обогнул завод со стороны узкого переулка и нашел одну открытую дверь. Внутри строения его встретила гробовая тишина; печи были потушены, горны пусты, огромная паровая машина застыла неподвижно в окружении станков.
Покинув завод, Ричард направился к Фруму, воды которого выглядели такими же серыми и хмурыми, как зимнее небо.
– Ричард! Ричард!
Обернувшись, он увидел, что к нему спешит кузен Джеймс-аптекарь, ломая руки.
– Дик сказал, что ты здесь… Ричард, какой ужас!
Ричард уже все понял, но все-таки спросил:
– В чем дело, кузен Джеймс?
– Латимер пропал! Сбежал с нашими деньгами!
Дубовый причальный столб, сохранившийся, должно быть, еще со времен древних римлян, торчал у берега реки. Прислонившись к нему, Ричард закрыл глаза.
– Значит, он болван. Его поймают.
В ответ кузен Джеймс-аптекарь разрыдался.
– Кузен Джеймс, полно! Это еще не конец света, – принялся утешать его Ричард, обнимая за плечи, подводя к каменной глыбе и усаживая на нее. – Прошу тебя, не плачь!
– Не могу! Во всем виноват только я! Если бы не я, ты сохранил бы деньги. Я могу позволить себе расплачиваться за собственную глупость, но то, что ты потерял все, несправедливо!
Не чувствуя никакой боли, кроме беспокойства за любимого родственника, Ричард смотрел на Фрум, ничего не видя. Потеря денег не шла ни в какое сравнение со смертью малышки Мэри. Деньги – это дело наживное.
– Я живу своим умом, кузен Джеймс, и тебе следовало бы знать, что меня невозможно втянуть в рискованную затею вопреки моей воле. Никто не виноват в случившемся, ни ты, ни я. Вытри глаза и подробно объясни, что произошло, – попросил Ричард, протягивая Джеймсу носовой платок.
Кузен Джеймс-аптекарь извлек из кармана свой платок, вытер лицо и постепенно успокоился.
– Своих денег мы больше не увидим, Ричард, – сообщил он. – Латимер завладел ими и бежал в Коннектикут, где вместе с Пикаром намерен изготавливать паровые машины. После войны патенты Уатта были признаны в Америке недействительными.
– Да он далеко не глуп! – воскликнул Ричард. – Но нельзя ли наложить арест на завод Уосборо и вернуть наши деньги, продав цепи, изготовленные для Адмиралтейства?
– Боюсь, нет. Завод Уосборо не принадлежит Латимеру. Его тесть, богатый глостерский сыродел, приобрел его в качестве приданого для жены Латимера. Его тестю также принадлежит дом на Дав-стрит.
– Тогда идем домой, – решил Ричард, – в «Герб бочара». Тебе не повредит кружка рома, кузен Джеймс.
Надо отдать Дику должное: он промолчал, ни разу не произнеся неизбежного «я же говорил вам!». Переведя взгляд со спокойного лица Ричарда на подавленное лицо кузена Джеймса-аптекаря, Дик мудро промолчал.
– Важно только то, – произнес Ричард, – что теперь мне нечем платить за учебу Уильяма Генри.
– Неужели ты не зол? – нахмурившись, спросил Дик.
– Нет, отец. Если бы мне была уготована судьбой только потеря денег, я бы порадовался этому. А если бы я лишился Пег? – У него перехватило дыхание. – Или Уильяма Генри?
– Да, я понимаю, понимаю. – Дик протянул руку и крепко пожал пальцы сына. – А что касается учебы Уильяма Генри, остается лишь радоваться тому, что у нас есть таверна. Он окончит школу Колстона, на это нам хватит средств. Целых три года нам не о чем беспокоиться.
– А тем временем я должен найти работу. «Герб бочара» приносит слишком небольшой доход, чтобы прокормить не только твою семью, но и мою. – Ричард поднес ладонь отца к щеке. – Отец, я искренне благодарен тебе.
– О-о-о! – Этим восклицанием Дик скрыл смущение при виде неподобающего мужчине проявления признательности. – Вспомнил! Тому Кейву как раз нужен работник! Человек, умеющий паять, ковать и крепить медь. Отправляйся к нему, Ричард. Возможно, это не самый блестящий выход, но фунт в неделю – гораздо лучше, чем ничего.
Владеть винокуренным заводом в Бристоле было все равно что иметь собственный монетный двор: какими бы трудными ни становились времена, сколько бы человек ни теряли работу, спрос на ром никогда не падал настолько, чтобы влиять на его цену. Ром был не только излюбленным напитком бристольцев: его бочками грузили на все корабли, чтобы избежать матросских бунтов. За ежедневную порцию рома матросы соглашались питаться черствыми галетами и тухлой солониной, не возражая даже против телесных наказаний.
Завод мистера Кейва с виду напоминал крепость. Он занимал почти целый квартал на Редклифф-стрит, близ причалов, откуда на завод доставляли сахар из Вест-Индии и грузили бочонки разных размеров на лихтеры, едва за груз успевали расплатиться. Заводские погреба были обширны и неприступны и подобно большинству городских погребов простирались далеко за пределы самого строения. В сущности, под Бристолем образовался целый лабиринт катакомб, поэтому на городские улицы не допускались тяжело груженные повозки, а товары вывозили на санях, поскольку вес распределялся на полозья более равномерно, нежели на колеса.
Перегонные аппараты размещались в просторной комнате на первом этаже, освещенной пламенем печей. В целом зрелище напоминало металлический лес: округлые медные стволы покоились на фундаментах из обожженного кирпича, листвой служили крепко сколоченные дубовые бочки в форме усеченного конуса. Весь завод пропах дымом, перебродившим суслом, патокой и кружащими голову парами рома. Этот запах был ненавистен Ричарду; изо дня в день вдыхая пары рома, он не испытывал ни малейшего желания променять кружку пива на лучший из напитков мистера Кейва.
Сам Томас Кейв редко появлялся на заводе: здесь безраздельно правил надсмотрщик Уильям Торн. Подобострастный с Кейвом и безжалостный с рабочими, Торн был человеком того сорта, какому, по мнению Ричарда, самое место на галере вроде судна «Александер». Торн с явным удовольствием избивал подмастерьев плеткой, превращая жизнь работников Кейва в настоящий ад. Смерив Ричарда взглядом и ограничившись рядом кратких распоряжений, Торн перестал обращать на него внимание.
– Сиди в глубине комнаты, – напоследок велел ему Торн. – Здесь тебе не место, я терпеть не могу тех, кто всюду сует свой нос. Хозяин здесь я, а ты делай, что велено.
Ричард старался не покидать свое рабочее место – но не из страха перед Торном, а потому, что не желал враждовать с ним. Трубы медных перегонных аппаратов изгибались, соединялись, образовывали петли и тянулись в разные стороны; бесчисленные клапаны, краны и скобы были бронзовыми. Следовательно, завод нуждался в человеке, который умел заделывать места стыков, пока не возникла утечка, притом не прерывая работы аппаратов. И все-таки работу некоторых аппаратов временами приходилось приостанавливать, пока шел ремонт металлических деталей, – в этом и заключалась работа Ричарда. Это был утомительный, вызывающий отупение труд, однако он поглощал мысли Ричарда целиком.
В первый же день он узнал худшее слово, какое только было в лексиконе Торна: акциз.
Правительство его величества короля Англии издавна облагало пошлиной спиртные напитки, ввозимые из-за границы, существовали также таможенные сборы, а контрабанда, весьма распространенная на побережье Корнуолла, Девона и Дорсета, каралась повешением. Но вскоре правительство сообразило, что доход казны можно увеличить, обложив налогами спиртные напитки, производимые в Англии; эти налоги и назывались акцизами. Джин и ром гнали только на заводах, имеющих особые разрешения. За работой заводов следил служащий акцизного управления, поскольку акциз уплачивали за каждую каплю спиртного, выжатого из перебродившего сусла.
– И все это, – пришел Ричард к выводу, проработав на заводе первую неделю, – для того, чтобы матросы на кораблях реже поднимали бунты, а подданные на суше забывали о своих лишениях! Какое все-таки чудо – человеческий разум, способный наживаться на чужой глупости!
– Ричард! – воскликнул потрясенный Дик. – Ей-богу, ты говоришь, словно квакер! Благодаря спиртному мы зарабатываем себе на хлеб!
– Знаю, отец, но я волен думать так, как хочу, а я думаю, что правительству выгодно пристрастие народа к спиртному.
– Послушал бы тебя Джимми Тислтуэйт! – фыркнул Дик.
– Знаю, знаю – он в два счета опроверг бы мои доводы, – отозвался Ричард. – Успокойся, отец! Я просто шучу.
– Пег, приструни своего мужа!
Пег обернулась с такой изумительной улыбкой на лице, что у Ричарда перехватило дыхание – как она изменилась! Неужели бедам, череда которых началась в его семье, когда Пег отказалась переселяться в Клифтон, пришел конец? С тех пор как Ричард потерял все деньги и стало ясно, что «Герб бочара» – их единственное пристанище, Пег излучала неподдельную радость и спокойствие.
Внезапно она выронила пустую кружку и с недовольным возгласом наклонилась за ней. И тут же воздух рассек вопль такой муки, что все собравшиеся в таверне вздрогнули; Пег выпрямилась, схватилась обеими руками за голову и рухнула на пол. Вокруг нее сразу же столпилось столько людей, что Дику пришлось проталкиваться сквозь толпу, чтобы опуститься на пол рядом с Ричардом, который держал голову Пег на коленях. Мэг присела с другой стороны, Уильям Генри взял мать за руку.
– Все напрасно, Ричард. Она мертва.
– Нет! Этого не может быть! – Ричард схватил жену за руку. – Пег, Пег, любимая! Очнись! Пег, поднимайся!
– Мама, мама, очнись! – вторил ему Уильям Генри, на глазах которого сверкали слезы. – Мама, очнись, и я обниму и поцелую тебя! Пожалуйста, ответь!
Но Пег лежала неподвижно, и никакими уговорами и пощипываниями не удавалось привести ее в чувство.
– У нее удар, – объявил вызванный кузен Джеймс-аптекарь.
– Это невозможно! – воскликнул Ричард. – Она еще слишком молода!
– И с молодыми людьми случаются удары. Так бывает всегда – сначала резкий взрыв боли, а потом потеря сознания и смерть.
– Нет, она жива, – упрямо твердил Ричард. Он никак не мог поверить в смерть любимой жены. Ведь она – часть его самого! – Не может быть, чтобы она умерла!
– Поверь мне, Ричард, она умерла. Она не подает никаких признаков жизни. Я приложил к ее губам зеркало, и оно не затуманилось. Я прослушивал ее сердце – оно замерло. Глаза закатились, – убеждал кузен Джеймс-аптекарь. – Смирись с волей Божией, Ричард. Позволь отнести Пег наверх и приготовить ее к погребению.
Мэг помогла аптекарю обмыть Пег, переодеть ее в воскресную одежду – платье из расшитого розового батиста, нарумянить ей губы и щеки, завить и уложить по последней моде волосы, натянуть лучшие чулки и обуть покойницу в воскресные туфли на высоких каблуках. Руки Пег сложили на груди, глаза давно были закрыты; она казалась совсем юной и мирно спящей.
Ричард долго сидел рядом с женой – так, чтобы не видеть лица пристроившегося тут же Уильяма Генри. Посмотрев друг на друга, они разрыдались бы от горя. Двое суток, до тех пор пока Пег не переложили в гроб и не увезли на кладбище при церкви Святого Иакова, комнату освещали лампы и свечи. За неимением более точного выражения эту смерть можно было назвать естественной. Собравшиеся родственники оказывали последние почести покойной, целовали ее еще пухлые губы, приносили соболезнования вдовцу, а потом спускались в таверну и рассаживались за поминальным столом. Никто из родных Ричарда и не думал проводить ночи у гроба; бристольские протестанты встречали смерть строго и молчаливо.
Долгие ночи Ричард маялся без сна в обществе родных и друзей, из-за перегородки не слышался храп – только сдавленные рыдания, шепот утешения и вздохи. Никто в доме не спал, кроме Уильяма Генри, который, наплакавшись, забылся беспокойным сном. Потрясение было так велико, что Ричард впал в оцепенение, но под толщей боли и скорби его мучили горечь и сожаления. «Если уж тебе было суждено умереть, Пег, почему это не произошло раньше, пока я не успел вложить деньги? Тогда я мог бы увезти Уильяма Генри в Клифтон и больше не изнывать от вони рома. Я был бы сам себе хозяин».
На вторую ночь, в холодные предутренние часы Уильям Генри проснулся и босиком, в одной ночной рубашке подошел к отцу. Комнату освещало только слабое пламя свечей и ламп, поэтому покойница, лежащая на постели, выглядела такой же безмятежной и прекрасной, как в последние минуты жизни. Поднявшись, Ричард принес теплое одеяло и две пары носков, заставил сына надеть их, потеплее укутал его ноги.
– Она кажется такой счастливой, – пробормотал Уильям Генри, утирая слезы.
– В момент смерти она была счастлива, – объяснил Ричард сдавленным голосом. Его глаза остались сухими. – Она улыбалась, Уильям Генри.
– Значит, я должен радоваться за нее, папа?
– Да, сынок. Неожиданной, но прекрасной смерти незачем бояться. Теперь мама на небесах.
– Я так скучаю по ней, папа!
– Я тоже, и это неудивительно. Ведь она всегда была рядом с нами. Теперь же нам придется научиться жить без нее, а это нелегко. Но не забывай, какой счастливой она выглядела. Казалось, горе ни на миг не касалось ее. Так оно и было, Уильям Генри.
– Зато у меня есть ты, папа. – Кутаясь в одеяло, Уильям Генри придвинулся ближе к отцу, положил кудрявую головку ему на плечо и всхлипнул. – У меня есть ты. Я не сирота.
Утром кузен Джеймс-священник отпел Маргарет Морган, родившуюся в тысяча семьсот пятидесятом году, горячо любимую жену Ричарда Моргана и мать Уильяма Генри. Ее похоронили рядом с ее дочерью Мэри. Найти цветы в конце января не удалось, могилу украсили вечнозелеными листьями. Ричард не плакал, да и Уильям Генри, казалось, смирился с потерей. Только Мэг всхлипывала, оплакивая племянницу и невестку. Господь дал, Господь и взял. Такова жизнь.
Смерть Пег сблизила Уильяма Генри с отцом, но Ричард работал шесть дней в неделю, с рассвета до сумерек, поэтому виделся с сыном лишь по воскресеньям да по вечерам, перед сном. На винокуренном заводе царили свои порядки, Томас Кейв ничем не напоминал Томаса Хабитаса. Привилегиями на винокуренном заводе пользовался только Уильям Торн, который иногда исчезал на несколько часов, а потом возвращался с хитрой ухмылкой на лице. Ричард заметил, что пока Уильям Торн отсутствовал, Томас Кейв с тревогой ждал его, но не выказывал недовольства. Скорее, он выражал нетерпение. Это выглядело странно. Не будь Ричард так озабочен своими делами и погружен в скорбь, он, несомненно, заметил бы нечто большее и сделал свои выводы, однако он предпочитал отдаваться работе и искать в ней утешения.
Время от времени на винокуренном заводе появлялся чиновник из акцизного управления. Уильям Торн лично сопровождал гостя и хмуро встречал любопытные взгляды.
Второй частый посетитель не имел никакого отношения к производству рома; казалось, у него не было ничего общего с Торном, однако этих двоих связывали необычные отношения. Джон Тревильян Сили Тревильян был богат, тщеславен и непроходимо глуп. Букли белоснежных от пудры париков он перевязывал черными лентами, пудрил и подкрашивал ничего не выражающее лицо, носил расшитые бархатные сюртуки и роскошные жилеты, а каблуки его были так высоки, что он передвигался на цыпочках, опираясь на трость с янтарным набалдашником. Запах духов, исходящий от него, на время пересиливал вонь рома.
Само собой, Торн и не подумал познакомить мистера Тревильяна с Ричардом, но Сили, как называл его Торн, сам остановился перед новым работником и окинул его благосклонным взглядом. Видимо, он восхитился обнаженными мускулистыми руками бывшего оружейника, мрачно решил Ричард, когда мистер Тревильян, насмотревшись на него, обернулся к Торну. Ричард хорошо знал, кто такой Джон Тревильян Сили Тревильян: старший сын мистера и миссис Морис Тревильян с Парк-стрит, той самой богатой пары, которую ограбили неподалеку от парадной двери их собственного дома. Эта корнуэльская семья, занимающаяся в Бристоле торговлей, состояла в родстве с очень древним кланом лондонских купцов по фамилии Сили, разбогатевших еще в двенадцатом веке. Все бристольцы знали, что местный Сили – холостяк с сомнительными пристрастиями, праздный и безмозглый бездельник, живущий на содержании у младшего брата.
Но после нескольких визитов мистера Тревильяна Ричард усомнился в справедливости суждений бристольцев: за глупостью, жеманством и бессодержательными беседами Сили скрывались ум и проницательность. Он отлично разбирался в перегонных аппаратах и других тонкостях винокуренного дела. Но маска глупца приносила ему немалую пользу: поскольку мистер Тревильян снискал репутацию простака, при нем говорили о самых рискованных сделках, не удосуживаясь даже понизить голос. И впоследствии горько сожалели об этом.
Завершая рассказ о мистере Сили Тревильяне, упомянем, что в апреле он появился на заводе под руку с мистером Томасом Кейвом. Ричард насторожился. Сили проявлял явный интерес к заводу, судя по тому, как раболепствовал перед ним старый Том Кейв. Однако Сили не значился в списке вкладчиков или владельцев, иначе Ричард знал бы об этом; Сили был тайным партнером, получавшим свою долю прибыли, но не платившим налоги.
Постепенно Ричард оправился от удара судьбы и сожалел только о том, что уделяет слишком мало времени Уильяму Генри. Воскресенья приобрели для него особую ценность. Ричард водил сына на прогулки, знакомя его со всеми кварталами Бристоля, и все же их излюбленным уголком оставался Клифтон, где, словно насмехаясь над Ричардом, по-прежнему стоял выбранный им коттедж. Будь воля Ричарда, он перестал бы бывать в Клифтоне, но это место обожал Уильям Генри.
– Вчера мистер Парфри выдумал новый каламбур, – сообщил Уильям Генри, прыгая на одной ноге.
Подавив вздох, Ричард приготовился выслушать очередной дифирамб блестящему учителю, который сумел превратить нудное изучение латыни в увлекательную мнемоническую игру. Благодаря мистеру Парфри Уильям Генри знал латынь лучше, чем Ричард в его годы.
– Какой? – поинтересовался Ричард, зная, что сын ждет вопроса.
– Caesar adsum iam forte – У Цезаря был джем к чаю[8].
– И как же это перевести?
– «Случайно в этот момент Цезарь оказался рядом».
– Отлично! А он остроумен, твой мистер Парфри.
– Да, он такой веселый, папа! На уроках мы то и дело смеемся, а директор и мистер Причард недовольны. Думаю, им не нравится, что мистер Парфри редко пускает в ход трость.
– Странно, что мистер Парфри до сих пор служит у Колстона, – сухо заметил Ричард.
– Дело в том, что все мы хорошо знаем латынь, – объяснил Уильям Генри. – Мы должны ее знать! Иначе мистер Парфри получит выговор от директора. Папа, он мне так нравится! Он все время улыбается…
– В таком случае, Уильям Генри, тебе очень повезло.
В конце мая разрозненные кусочки мозаики встали на свои места.
Уильям Торн проделал свой обычный фокус с исчезновением, и его подданные, хлопотавшие вокруг перегонных аппаратов, тоже исчезли, словно мыши, учуявшие сыр, – дрожа от страха, но твердо вознамерившись завладеть добычей. Когда речь шла о работниках мистера Кейва, добычей был ром. Но не качественный ром, который хранили в бочках, – его смешивал не кто иной, как сам мистер Кейв, – а продукт вторичной перегонки. Никто не замечал, если уровень такого рома в емкости немного снижался.
Не нуждаясь ни в роме, ни в обществе, Ричард продолжал заниматься своим делом. Огромная комната изобиловала закоулками и нишами, которые не позволяли определить ее форму, и особенно справедливо это было для той части помещения, доступ в которую Ричарду был закрыт. Он и не нарушил бы запрет, если бы не услышал характерное шипение жидкости, вытекающей из трубы под давлением. Он тщательно осмотрел ряд парных перегонных аппаратов и запутанную сеть труб, но ничего не обнаружил, а когда приблизился к последней паре в крайнем ряду, то пришел к выводу, что шипение доносится откуда-то из глубины комнаты. Прижавшись спиной к горячей кирпичной стене печки, он протиснулся между левым и правым аппаратом, наклоняя голову, чтобы не удариться об отводящие трубы.
Только теперь он заметил трубы, которых не должно было быть, и замер. Целую минуту он стоял неподвижно, дожидаясь, когда глаза привыкнут к полутьме, а потом присмотрелся и увидел несколько труб, затянутых фестонами паутины и материалом, который на первый взгляд мог сойти за пеньковую обшивку. Каждая труба была выведена в емкость с конечным продуктом перегонки, но не со дна, а сбоку – при этом жидкость вытекала лишь при определенном уровне. На злополучных трубах не оказалось ни единого клапана; как только происходило наполнение до уровня присоединения трубы, жидкость начинала утекать куда-то в глубину комнаты.
Там, за фальшивой перегородкой, двумя рядами были расставлены бочки по пятьдесят галлонов. Негромко присвистнув, Ричард подсчитал, сколько не облагаемого налогом спиртного утекает сюда каждый день, – неудивительно, что Уильям Торн всегда сам сливал жидкость! Только опытный винокур удивился бы медлительности аппаратов мистера Кейва, а таких мастеров в доме номер сто тридцать семь по Редклифф-стрит не было. Если не считать Уильяма Торна. И Томаса Кейва. Значит, и он замешан в этом деле?
Снова протиснувшись между печкой и аппаратом, Ричард обнаружил источник шипения: из крохотного отверстия в протершейся медной обшивке вытекала тонкая струйка жидкости. Торн застал Ричарда в тот момент, когда Ричард наклонился, чтобы заткнуть отверстие.
– Эй, что ты там делаешь? – изменившись в лице, воскликнул Торн.
– Выполняю свою работу, – невозмутимо отозвался Ричард. – Но боюсь, тут уже ничем не поможешь. Вскоре вам придется заменить эту пару аппаратов.
– Черт! Сколько раз я твердил Тому, что пора вложить часть прибыли в покупку новых аппаратов, и все без толку! – Торн отошел, покрикивая на подчиненных, не проявлявших должной расторопности: кот вернулся быстрее, чем рассчитывали мыши.
Тем вечером, возвратившись в «Герб бочара», Ричард не стал делиться своим открытием с Диком. Вначале следовало узнать, к примеру, сколько человек втянуто в этот заговор. Разумеется, Торн и, возможно, Кейв. А Джон Тревильян Сили Тревильян? Иначе зачем этому праздному аристократу понадобилось так часто бывать на ничем не примечательном заводе?
Когда же мошенники вывозят незаконно произведенный ром? Ричард задумался. Несомненно, ночью, и скорее всего в воскресенье. В такое время на улицах не встретишь даже матросов и грабителей.
Потихоньку покинуть «Герб бочара» ночью в следующее воскресенье оказалось очень просто: Ричард спал в одиночестве, Дик и Мэг похрапывали, а Уильям Генри не просыпался даже в грозу. Ярко светила луна, небо было безоблачным – Ричарду несказанно повезло! Как только он приблизился к Редклифф-стрит, одинокий колокол пробил полночь. Спрятавшись в темном сарае, принадлежащем мастеру, который изготавливал трубы, Ричард настроился на терпеливое ожидание.
Два часа. Мошенники предусмотрительно рассчитали время: еще через два часа начнет светать. Их было трое – Торн, Кейв и Сили Тревильян. Узнать последнего оказалось нелегко: вместо жеманного аристократа Ричарду предстал стройный, энергичный мужчина в черном, с коротко подстриженными волосами и в высоких сапогах.
Кейв прибыл на своем старом жеребце, Торн и Сили – в санях, запряженных парой битюгов, и вскоре все трое стали разгружать из повозки четыре дюжины явно пустых бочонков. Кейв отпер заднюю дверь, которой никто не пользовался, бочонки внесли внутрь строения. Спустя минуту Торн появился, с усилием катя полную бочку; Кейв встретил его у саней и помог поставить бочку на них. Торн и Тревильян по очереди выкатывали бочки и ставили их на попа с ловкостью, выдающей многолетнюю практику.
Подозрительная тройка справилась с работой за какой-нибудь час; несомненно, пустые бочки были поставлены на место наполненных. Но как часто их меняли? Вряд ли каждое воскресенье – это было слишком рискованно, но если Ричард не ошибался в расчетах, то по крайней мере каждые три недели.
Томас Кейв вскочил в седло и ускакал вверх по Редклифф-стрит, двое его сообщников сели в сани, и те бесшумно заскользили на восток, к Темплу. Ричард последовал за ними. У реки бочонки вновь повалили на бок и перекатили на плоскодонную баржу, где их расставлял человек, незнакомый Ричарду. Однако и Торн, и Сили явно хорошо знали его. Покончив с погрузкой, мошенники распрягли одного из битюгов и привязали его к барже. Незнакомец вскарабкался на спину битюга и погнал его по утоптанному бечевнику в сторону Бата, увлекая за собой баржу, которой умело правил Сили. Проводив баржу взглядом, Уильям Торн хлестнул битюга и уехал в санях.
«Теперь я знаю все, – заключил Ричард. – Ром увозят в окрестности Бата, где Сили и незнакомец либо продают его, либо грузят на суда, идущие в Солсбери или Эксетер, а громадную не облагаемую акцизом прибыль делят на четыре части. Но я готов поручиться, что львиная доля прибыли достается Сили Тревильяну».
Как же ему быть? Поразмыслив по пути домой, Ричард решил, что пришло время рассказать обо всем отцу.
Когда Ричард вошел в «Герб бочара», Дик и Мэг уже взялись за работу, а Уильям Генри еще спал. Родители Ричарда заговорщицки переглянулись, заметив, что постель Ричарда пуста. Но разве вдовец мог догадаться, как было истолковано его отсутствие?
– Мама, выйди, – бесцеремонно начал Ричард. – Мне надо поговорить с отцом.
Посмеиваясь, Дик приготовился услышать рассказ о мужских потребностях и какой-нибудь хорошенькой девице, увиденной Ричардом вчера утром у церкви Святого Иакова, а вместо этого узнал о вопиющем преступлении.
– Что же мне делать, отец?
Дик отвел глаза и пожал плечами:
– Как у порядочного человека, у тебя есть только один выход. Тайно отправляйся к сборщику акциза в акцизное управление. Его зовут Бенджамин Фишер.
– Отец, но тогда пострадают твое дело и твоя дружба с Томасом Кейвом!
– Вздор! – отрезал Дик. – В Бристоле найдется немало производителей хорошего рома, а я знаю их всех. И кроме того, я вожу дружбу со всеми. Том Кейв – скорее давний знакомый, нежели друг, Ричард. Я не бываю у него в гостях, он не навещает меня. И потом, – он усмехнулся, – я давно знал, что он мошенник. Разве ты никогда не замечал, как бегают его глаза? Он никогда не смотрит прямо в лицо собеседнику.
– Да, – горестно подтвердил Ричард, – я заметил. И все-таки я не питаю к нему такой неприязни, как к Торну. А Сили… – он сделал такой жест, словно отталкивал нечто отвратительное, – подонок. Какое лицемерие! Только очень умный человек способен прикинуться простофилей.
– Сегодня тебе незачем работать, – заявил Дик, подталкивая сына к лестнице. – Переоденься в лучшую воскресную одежду, возьми мою новую шляпу и отправляйся в акцизное управление – и никому ни слова, слышишь? И не о чем так сокрушаться. Даже если эти прохвосты утаивают вполовину меньше рома, чем ты думаешь, ты достоин щедрой награды. Ее хватит, чтобы дать образование Уильяму Генри.
Подбадривая себя этой мыслью, Ричард, облаченный в темный воскресный костюм и лучшую шляпу Дика, зашагал к Куин-стрит. Акцизное управление занимало часть квартала между площадью и Принс-стрит – улицей, на которой стоял дом мистера Томаса Кейва. Вскоре Ричард обнаружил, что чиновники акцизного управления – бездельники, мающиеся с похмелья, особенно по понедельникам. Они казались вялыми, равнодушными и предпочитали, чтобы их не беспокоили. Ричарду понадобилось несколько часов, чтобы подняться по иерархической лестнице управления. Видя скучающие лица чиновников, Ричард отделывался уклончивыми ответами и выражал твердое намерение встретиться с самим старшим сборщиком акциза, занимающим высшую ступень в управлении.
Наконец около трех часов пополудни Ричарда удостоили аудиенции. К тому времени он успел проголодаться, его терпение иссякало.
– У вас есть пять минут, – заявил мистер Бенджамин Фишер, сидя за столом.
Ричарду не пришлось гадать, бывает ли сборщик акциза сам на винокуренных заводах. Он уставился на Ричарда сквозь маленькие круглые стекла очков, в которых явно не нуждался, чтобы читать документы, сложенные аккуратными стопками на столе. Этот близорукий человек редко вставал из-за письменного стола. Значит, он не разбирался в вопросах производства спиртных напитков так же хорошо, как его подчиненные. Но с другой стороны, он вряд ли брал взятки – в отличие от его подчиненных, временами бывающих на винокуренных заводах.
Ричард коротко изложил суть своего дела.
– Сколько рома, по-вашему, эти люди утаивают за неделю? – спросил Бенджамин Фишер, выслушав Ричарда.
– Если его вывозят каждые три недели, значит, около восьмисот галлонов в неделю.
Это в корне меняло дело! Мистер Фишер выпрямился, отложил перо и отодвинул лист бумаги, на котором делал пометки. Его глаза, два бледно-голубых шарика за толстыми линзами, выпучились.
– Мистер Морган, да это же вопиющее преступление! А вы не могли ошибиться в расчетах?
– Разумеется, мог, сэр. Но если они меняют бочки каждые три недели, в неделю выходит восемьсот галлонов. Вчера было первое июня, и я уверен, что бочонки, доставленные на завод, совершенно пусты – один мужчина легко катил такой бочонок, точно мяч. А обратно они с трудом выкатывали такие же бочки. Полагаю, в следующий раз они вывезут ром двадцать второго июня. Спрятавшись возле завода около полуночи, вы поймаете всех троих с поличным, – сообщил Ричард, уверенный в своей правоте.
– Благодарю вас, мистер Морган. Советую вам вернуться к работе и вести себя как ни в чем не бывало, а мы известим вас о дальнейшем ходе событий. От имени его величества выражаю вам искреннюю благодарность.
Ричард уже направился к двери, когда сборщик акциза окликнул его.
– Если они и вправду утаивают столько рома, значит, вознаграждение за поимку мошенников составит восемьсот фунтов, из которых пятьсот причитается вам. Разумеется, после того, как вина преступников будет доказана.
Не удержавшись, Ричард спросил:
– А кто получит остальные триста?
– Те, кто арестует виновных, мистер Морган.
На этом разговор закончился. Ричард отправился домой.
– Ты был прав, отец, – сказал он Дику. – Если я не ошибся, мне причитается пять восьмых от вознаграждения в размере восьмисот фунтов.
Дик скептически усмехнулся.
– Триста фунтов – слишком щедрая награда десятку чиновников управления, которые всего-навсего арестовали виновных.
Ричард рассмеялся.
– Папа, какой ты, оказывается, наивный! Чиновникам, которые арестуют преступников, дадут самое большее пятьдесят фунтов на всех. А остальные двести пятьдесят наверняка попадут в карман мистера Бенджамина Фишера.
Вечером в воскресенье двадцать второго июня десять чиновников акцизного управления взломали заднюю дверь винокуренного завода Кейва, ворвались в пустое помещение и обнаружили четыре дюжины бочек емкостью пятьдесят галлонов каждая, наполненных ромом из труб, незаконно отведенных от перегонных аппаратов.
Когда в два часа ночи мистер Томас Кейв подъехал к заводу верхом, а мистер Уильям Торн и Джон Тревильян Сили Тревильян – в санях, их взгляду предстали опечатанные двери.
– Нас выследили! – воскликнул мистер Торн оскалившись.
Кейв содрогнулся в ужасе.
– Сили, что же нам делать?
– Поскольку ром исчез, предлагаю разъехаться по домам, – хладнокровно отозвался Сили.
– Почему же нас не взяли под стражу? – допытывался Кейв.
– Потому что им ни к чему неприятности, Том. Увидев, сколько здесь было припрятано рома, они поняли, что имеют дело с дерзкими преступниками, а наказание за такую провинность – смертная казнь. Чиновники акцизного управления предпочли не рисковать. Кому охота получить пулю в живот?
– Но нас должны были предупредить заранее!
– Да, должны были, – мрачно подтвердил Сили. – Значит, дело дошло до высших чинов и здесь замешаны посторонние.
– Ричард Морган! – выпалил Торн, ударяя кулаком по ладони. – Нас выследил этот мерзавец!
– Ричард Морган? – Тревильян нахмурился. – Тот чертовски привлекательный парень, который чинит трубы?
Торн изумленно воззрился на него, повыше приподняв фонарь.
– Сили, ты не перестаешь удивлять меня, – с расстановкой произнес он. – Кого же ты все-таки предпочитаешь – женщин или мужчин?
– Мои пристрастия тебя не касаются, Билл. Ступай домой и придумай что-нибудь, чтобы оправдаться перед сборщиком. Вся вина будет возложена на тебя.
– С какой стати? Обвинят всех нас!
– Вряд ли, – беспечно возразил Сили Тревильян, усаживаясь в сани. – Значит, он ничего не знает, Том?
– О чем? – встрепенулся Торн.
Мистер Кейв только покачал головой и вздрогнул.
– Том оформил патент на твое имя, – объяснил Сили. – В сущности, уже давно. Я решил, что так будет лучше, и он согласился со мной. Что касается меня, я не имею никакого отношения к заводу Кейва. – И он взмахнул вожжами.
Уильям Торн застыл как вкопанный, не в силах пошевелиться.
– Куда ты? – слабо спросил он.
На лице Сили сверкнули белоснежные зубы.
– Разумеется, в Темпл – предупредить нашего сообщника.
– Подожди меня!
– Ступай домой, Билл, – велел мистер Сили Тревильян.
И сани заскользили прочь, оставив Торна наедине с Кейвом.
– Как ты мог так поступить со мной, Том?
Кейв облизнул пересохшие губы.
– Сили настаивал, – промямлил он. – Билл, я не мог с ним спорить.
– И ты решил, что это удачная мысль. Трусливый подонок! – с горечью выпалил Торн.
– Во всем виноват Сили, – твердил Томас Кейв. – Обещаю, я не брошу тебя в беде. Я помогу тебе оправдаться. – Задыхаясь, он сумел забраться в седло. Торн не сделал ни малейшей попытки помочь ему.
– Ловлю тебя на слове, Том. Но сейчас гораздо важнее прикончить Ричарда Моргана.
– Нет! – перебил Кейв. – Что угодно, только не это! Чиновники из акцизного управления сразу все поймут! Стоит убить их осведомителя, и нам всем крышка!
– А если дело дойдет до суда, меня наверняка повесят – так в чем же разница? – Торн сорвался на крик. – Уж лучше позаботиться о том, чтобы суд не состоялся! Это и в твоих интересах, и в интересах Сили! Если мне грозит смертная казнь, Ричард Морган поплатится! А я утащу за собой и тебя, и Сили – всех нас отправят на каторгу! Слышишь? Всех до единого!
Мистер Бенджамин Фишер вызвал Ричарда в акцизное управление рано утром на следующий день, двадцать третьего июня.
– Я бы не советовал вам возвращаться на работу, мистер Морган, – заявил сборщик акциза, на щеках которого пылали два ярких пятна. – Мои болваны подчиненные нагрянули на завод Кейва днем и не застали там злоумышленников, только конфисковали ром.
– Черт! – выпалил Ричард.
– Негодовать бессмысленно, сэр. Я согласен с вами, но делу этим не поможешь. Акцизное управление вправе только подать в суд на владельца патента – за хранение незаконно изготовленного рома.
– На Тома Кейва? Но ведь он далеко не зачинщик!
– Томас Кейв даже не владелец патента. Он принадлежит Уильяму Торну.
Ричард снова ахнул.
– А Сили Тревильян?
Всем видом выражая отвращение, мистер Фишер стиснул пальцы и подался вперед.
– Мистер Морган, у нас есть улики только против Уильяма Торна. – Он надел очки и скорчил гримасу. – У мистера Тревильяна имеются связи, в городе его считают дружелюбным, безобидным простаком. Я сам допрошу его, но вынужден предупредить, что, если дело дойдет до суда, поверят скорее ему, а не вам. Мне очень жаль, однако пока не появятся новые улики, мистер Тревильян чист перед законом. Не уверен даже, – закончил он со вздохом, – что нам удастся добиться смертного приговора для Уильяма Торна, хотя его наверняка ждут семь лет каторги.
– Почему же ваши подчиненные не поймали их с поличным?
– Всему виной трусость. – Мистер Фишер снял очки и принялся усердно протирать их. – Еще рано, но мистер Томас Кейв уже ждет внизу – должно быть, хочет замять дело, предложив заплатить крупный штраф. Именно ему доставались деньги, мистер Морган, я же вижу, что Уильяма Торна подставили, чтобы направить нас по ложному следу. Акцизное управление вправе возместить убытки только за счет владельца патента. Это касается и вашего вознаграждения.
Покидая управление, Ричард столкнулся в вестибюле с Томасом Кейвом, но не сказал ни слова. Поскольку идти на завод было бессмысленно, Ричард вернулся в «Герб бочара».
– Итак, я потерял работу, а двое из трех преступников вышли сухими из воды, – сообщил он Дику. – О, если бы я знал!
– Томас Кейв наверняка выкупит Торна, – рассудил Дик и вдруг оживился: – Не унывай, Ричард. Что бы ни случилось, ты получишь свои пятьсот фунтов!
Но слова отца не принесли Ричарду утешения. Он предпочел бы увидеть мистера Джона Тревильяна Сили Тревильяна на эшафоте. Почему, Ричард и сам не знал, но с отвращением вспоминал оскорбительный взгляд, которым Сили наградил его при первой встрече. «Для этого самодовольного, жеманного щеголя я – ничтожество, и я ненавижу его. Да, ненавижу. Впервые в жизни меня переполняет прежде неведомое мне чувство, теперь я узнал, что означает слово “ненависть”».
В минуты испытаний он тосковал о Пег. Боль утраты была остра, но притуплялась, стоило вспомнить о последних годах споров, слез, пьянства. Однако пока Ричард блуждал по Бристолю в поисках работы, образ Пег последних лет померк, был вытеснен образом девушки, на которой он женился семнадцать лет назад. Ему так нравилось прижиматься к ней, тихо перешептываться по ночам, искать утешения в плотской любви, которая сливалась с возвышенной любовью, со страстью и с дружбой. А теперь Ричарду не с кем было даже поделиться своими бедами: Дик оставался на его стороне, но неизменно считал сына слишком мягкотелым и бесхребетным. А мать работала в таверне и за кухарку, и за судомойку. Через несколько лет он сможет беседовать с Уильямом Генри как с равным, но по ночам его все равно будет мучить одиночество. И избавиться от него не удастся, пока Уильям Генри не повзрослеет. Ричард просто не мог привести в дом мачеху для своего единственного обожаемого чада, а потаскухи были не теми женщинами, у которых он стал бы искать даже самого простого, животного удовлетворения.
В понедельник, последний день июня, Ричард покинул дом на рассвете, наступившем очень рано из-за летнего солнцестояния, и направился в Киншем, деревушку на берегу Эйвона. Стараниями владельца медеплавильного завода Уильяма Чампиона эта деревушка разрослась и стала грязнее, чем прежде. Чампион запатентовал новый способ извлекать цинк из каламина и шлама, и до Ричарда донесся слух, что он ищет добросовестного работника, умеющего обрабатывать цинк. Почему бы не попытать удачу? Самое худшее, что его ждет, – отказ.
Уильям Генри отправился в школу без четверти семь, как обычно, хмурясь потому, что директор объявил учебным последний день июня, пришедшийся на понедельник. Услышав жалобы мальчугана, бабушка добродушно дернула его за ухо. Уильям Генри понял намек и удалился. Завтра начинались двухмесячные каникулы – как для обладателей синих сюртуков, так и для приходящих учеников. Те, у кого были дом и родители, покидали Колстонскую школу до начала сентября, а сироты, подобно Джонни Монктону, проводили все лето в школе, где временно вводились менее строгие правила.
Отец объяснил, почему они будут редко видеться в ближайшие два месяца, и Уильям Генри отлично понял его. Он сознавал, что отец старается только ради него, и потому его неотступно терзали угрызения совести. Если Уильям Генри и корпел над книгами, а он прилагал всяческие старания, то лишь для того, чтобы порадовать отца, который ценил образование выше, чем способен оценить его девятилетний мальчик.
У ворот Колстонской школы Уильям Генри застыл в изумлении: ворота были увиты черными лентами! Мистер Хобсон, наставник младшего класса, встретил мальчугана у ворот и взял его за плечо.
– Возвращайся домой, парень, – велел он, заставляя Уильяма Генри повернуться.
– Домой, мистер Хобсон?
– Да. Сегодня ночью директор скончался во сне, поэтому занятия отменяются. Твоему отцу пришлют извещение о похоронах, Морган Третий. А теперь ступай.
– Нельзя ли мне повидаться с Монктоном-младшим, сэр?
– Сегодня нет. До свидания, – твердо ответил мистер Хобсон и слегка подтолкнул Уильяма Генри в спину.
У Стоун-бриджа малыш остановился и нахмурился. Какая досада! Папа ушел в Киншем, дедушка и бабушка заняты привычными делами – что же ему делать целый день без Джонни?
Впервые в жизни Уильяму Генри представился случай заняться тем, чем он пожелает, никого не ставя в известность. В таверне думали, что он в школе, а из школы его отправили домой. Идти в таверну мальчугану не хотелось. Приняв решение, Уильям Генри сбежал с моста, но направился не к дому, а к Клифтону.
Первый привал он сделал на крутом склоне Брэндон-Хилла. Уильям Генри карабкался вверх, воображая себя солдатом-«круглоголовым» из армии Кромвеля, осаждающей Бристоль. Застыв на вершине холма, он долго разглядывал дымоходы печей для обжига извести и болотистые низины, а затем обернулся к руинам роялистского форта на Сент-Майкл-Хилле. Вскоре игра наскучила мальчугану, и он запрыгал с камня на камень, пока не выбрался на тропу, а затем проскакал на одной ножке до Джейкобз-Уэлл, некогда служившего единственным источником воды в Клифтоне. Колодец окружали дома, не вызывавшие в ребенке никакого любопытства. Он промчался мимо церкви Святого Андрея, покувыркался на пружинистом дерне Клифтон-Грин и решил дойти до Манилла-Хауса, последнего в ряду особняков, взбегающих на холм.
– Здорово, журавлик! – послышался дружелюбный оклик из-за изгороди, примыкавшей к поместью Бойса.
– Здравствуйте, сэр.
– А как же уроки?
– Директор школы умер, – коротко объяснил Уильям Генри и взобрался на невысокую изгородь. – А вы кто?
– Ричард, конюх.
– Моего папу тоже зовут Ричард. А меня – Уильям Генри.
Конюх подал мальчику загрубевшую ладонь.
– Рад познакомиться.
Следующие два часа Уильям Генри ходил по пятам за Ричардом, гладил лошадей, заглядывал в пустые денники, таскал воду и сено и болтал без умолку. Конюх угостил его кружкой легкого пива и ломтем хлеба с сыром. Подкрепившись, Уильям Генри помахал новому другу на прощание и направился вверх по склону холма.
Манилла-Хаус был так же пуст, как Фримантл-Хаус, Дункан-Хаус и Мортимер-Хаус. Куда же идти теперь?
Разговаривая сам с собой, Уильям Генри услышал за спиной топот копыт, обернулся и увидел всадника со знакомым приятным лицом.
– Мистер Парфри!
– Боже милостивый! – ахнул Джордж Парфри. – Что ты здесь делаешь, Морган Третий?
Уильям Генри густо покраснел.
– Я просто гуляю, сэр, – смущенно объяснил он. – Занятий сегодня нет, а папа ушел в Киншем…
– Почему же ты не дома, Морган Третий?
– Сэр, меня зовут Уильям Генри.
Мистер Парфри нахмурился, пожал плечами и протянул руку.
– Я помню, Уильям Генри. Ладно, забирайся в седло. Я прокачу тебя, а потом отвезу домой.
Неслыханная удача! За всю свою жизнь мальчуган ни разу не ездил верхом. Он устроился в седле перед мистером Парфри; ему показалось, что земля так далеко внизу, что у него закружилась голова. Он очутился в совершенно новом мире, словно взобрался на самую верхушку дерева! Как плавно и мерно перебирал ногами жеребец! Какой чудесной оказалась поездка с другом – ничем не хуже прогулок с папой! Уильям Генри таял от восторга.
Они рысью проскакали по Дердхэм-Даун, распугивая овец, и смеялись не переставая. Мистер Парфри охотно отвечал на вопросы ученика, а Уильям Генри обнаружил, что его учитель знаком не только с латынью. Они подъехали к краю ущелья Эйвона, где мистер Парфри обратил внимание спутника на оттенки камней и объяснил, что железо придает серовато-белому известняку сочные ржаво-розовые и сливовые тона. Учитель указывал хлыстиком на цветущие растения среди летней травы и уверенно произносил их названия, а потом принялся учить Уильяма Генри различать цветы.
Наконец тропа, вьющаяся по краю ущелья, привела их к Хотуэл-Хаусу, который возвышался на берегу Эйвона.
– Здесь мы и перекусим, – решил мистер Парфри, помогая мальчику спуститься на землю. – Ты проголодался?
– Да, сэр!
– Если за стенами Колстонской школы я зову тебя Уильямом Генри, то и ты должен называть меня дядей Джорджем.
В зале для питья минеральных вод было немноголюдно – несколько мужчин, страдающих чахоткой, диабетом и подагрой, пожилая дама и две молодые женщины-калеки. Лучшие времена курорта остались позади, позолота потускнела, обои отклеивались, в драпировках скопилась пыль, а кресла на колесах давно нуждались в новой обивке. Но мрачный арендатор Хотуэл-Хауса, изнуренный постоянной войной с бристольцами из-за цен, установленных на минеральную воду, по-прежнему готовил обед для редких посетителей. Уильяму Генри, привыкшему к сытной еде в «Гербе бочара», здешняя пища показалась нектаром и амброзией только потому, что ее вкус был иным – и потому, что рядом сидел замечательный спутник. Покончив с обедом, мистер Парфри предложил прогуляться, а потом вернуться в город. Пожилая дама и молодые калеки на прощание осыпали Уильяма Генри градом похвал; он вытерпел их восклицания и ласки, как терпел покойную мать, чем окончательно покорил Джорджа Парфри.
Джордж Парфри тоже не сомневался, что нашел идеального компаньона. В сущности, день выдался на редкость удачным, хотя и начался с известия о смерти директора школы. Преподобный Причард, длинное смуглое лицо которого ничем не выдавало тайную радость (он надеялся стать новым директором), был слишком поглощен своими мыслями, чтобы помнить об учителях. Священник только оповестил служащих школы о случившемся и поручил Гарри Хобсону отправлять домой приходящих учеников.
«Отлично, – мысленно заключил мистер Парфри, – значит, сегодня мы отдыхаем. Если я останусь в школе, Причард или кто-нибудь другой найдет мне работу. А если я улизну, никто и не вспомнит о моем существовании».
Единственной роскошью, которую он себе позволял, был конь. Разумеется, не собственный – мистер Парфри испытывал стесненность в средствах. По воскресеньям он за умеренную плату брал коня в конюшне неподалеку от Сент-Майкл-Хилла. Придя в конюшню с коробкой красок и альбомом, мистер Парфри обнаружил, что по понедельникам выбор лошадей здесь гораздо богаче. Вороной красавец, привлекший внимание мистера Парфри, мирно похрустывал сеном и, несомненно, надеялся отдохнуть после беспокойных воскресных поездок. Но не тут-то было! Спустя десять минут мистер Парфри уже сидел в седле и рысью направлялся через Кингсдаун в сторону Ост-роуд. Прекрасный наездник, он умело правил горячим жеребцом и предвкушал излюбленное времяпрепровождение.
Еще недавно его охватывала привычная подавленность, но тосковать в такой чудесный день не хотелось, поэтому мистер Парфри отмахнулся от чувства одиночества и предчувствий старости и залюбовался окрестными пейзажами. Поднимаясь по Клифтон-Хиллу к Дердхэм-Даун, он заметил впереди Моргана Третьего. А вот и попутчик! Видимо, маленький сорванец тоже решил устроить себе праздник. Почему бы не составить ему компанию? Мистер Парфри поспешил ответить на щекотливый вопрос, убеждая себя, что окажет мальчику услугу, присмотрев за ним.
Уильям Генри. Двойное имя шло мальчугану, а время должно было только подтвердить правильность выбора. Все учителя признавали одаренность Моргана Третьего, хотя у некоторых его миловидность вызывала предубеждение. Не избежал этого и Парфри, но едва Морган Третий начал изучать латынь, его наставник убедился, что лицо мальчика всего лишь отражает душевную красоту, позволяя разглядеть ее, как солнце сквозь закопченное стекло. Но до сегодняшнего дня мистер Парфри и не подозревал о том, что Уильям Генри способен на шалости, ибо в классе он вел себя, как подобает ангелу. Пока спутники пересекали Дердхэм-Даун, мальчик объяснил, что на занятиях он просто стремится избежать порки и не желает вызывать недовольство учителей.
Как растолковать ему, что он неизменно будет привлекать взгляды? Как ни странно, отцу Уильяма Генри, весьма привлекательному мужчине, недоставало живости его сына. Люди не оборачивались вслед Ричарду Моргану, от его взгляда у них не перехватывало дыхание, в то время как Уильям Генри Морган производил подобное впечатление каждый день и должен был производить его впредь – до глубокой старости. Его речь, обычная для мальчика таких лет, выдавала продуманное воспитание, но поскольку он вырос в таверне, он наверняка был знаком с худшими из пороков, повидал и драки, и похоть, и пьяные выходки. Но эти зрелища не испортили его; Уильям Генри излучал поразительную чистоту.
Вдвоем они вышли из Хотуэл-Хауса и, не сговариваясь, направились к тому месту, где Уильям Генри однажды устроил пикник вместе с отцом, а Джордж Парфри наблюдал за ними из-за кустов. Этот уголок располагался поодаль от воды на том же берегу Эйвона, на котором раскинулся почти весь Бристоль. Поросшая травой лужайка растянулась между скалами Сент-Винсент и еще одной, более низкой каменной грядой. В лесу это место назвали бы поляной.
Хотя с тех пор, как на этом же месте лежали отец и сын Морганы, прошло девять месяцев, лужайка ничуть не изменилась; воды Эйвона находились на том же уровне, приближался прилив; трава имела прежний оттенок, на скалах плясали солнечные блики. Время будто остановилось, позволяя спутникам шагнуть одной ногой в будущее, а другую оставить в прошлом. Настоящее перестало существовать, время застыло.
Джордж Парфри открыл альбом и достал кусок угля.
– Можно мне посмотреть, дядя Джордж? – спросил Уильям Генри.
– Нет, потому что я буду рисовать тебя. Ты должен сидеть смирно и забыть о том, что я на тебя смотрю. Сосчитай ромашки. Когда я закончу набросок, ты увидишь его.
Уильям Генри замер под пристальным взглядом Джорджа Парфри.
Поначалу рука с зажатым в пальцах углем двигалась проворно и уверенно, но с каждой минутой на бумагу ложилось все меньше штрихов, и наконец рука художника замерла. Парфри просто смотрел на маленького натурщика. Его заворожила не только красота мальчика, но и мысли о том, как сложится его судьба.
«Я неверно выбрал время, я просчитался. Я по уши влюблен в невинного ребенка, который младше меня на тридцать пять лет. К тому времени, как я сумею пробудить в нем чувства, я сам совсем состарюсь. Сюжет, достойный пера Шекспира. Когда Уильям Генри станет Гамлетом, я буду уже Лиром».
Лента, стягивающая волосы мальчугана, давно развязалась, и темная масса кудрей обрамляла лицо подобно густому дыму, подхваченному ветром. Кожа напоминала атлас, персик и слоновую кость, прямой римский нос выглядел столь же аристократично, как и высокие скулы, а уголки полных чувственных губ подрагивали, предвещая улыбку. Но все это не шло ни в какое сравнение с глазами!
Словно почувствовав перемену в Джордже Парфри, Уильям Генри вскинул голову и уставился на него в упор, а его загадочная улыбка вдруг показалась ошеломленному Парфри приглашением той части души Уильяма Генри, о существовании которой мальчик и сам не подозревал. Солнце светило Уильяму Генри в глаза, отражаясь от окатанных водой камней, и темные глубины этих глаз ожили, их пронизал свет, на фоне которого плясали золотистые искры.
Джордж Парфри ничего не смог с собой поделать: все произошло прежде, чем он успел опомниться. Преодолев расстояние, отделяющее его от Уильяма Генри, Парфри поцеловал его в губы. После этого он обнял мальчика – он просто не сумел удержаться – и принялся ласкать губами его лоб, щеки и шею, вызывая трепет худенького тела.
– Какая красота! – благоговейно шептал Парфри. – Какая красота!
Мальчик порывисто высвободился, вскочил на ноги и стрельнул взглядом из стороны в сторону, не зная, куда бежать. Он еще не успел испугаться, все его мысли были поглощены бегством.
Обезумев, Парфри поднялся, простирая руки и не понимая, что он преградил Уильяму Генри единственный путь к спасению.
– Уильям Генри, прости! Я не хотел обидеть тебя, я никогда тебя не обижу! Ради Бога, прости! – простонал Парфри, разводя руки в мольбе о прощении.
Его слова пробудили в мальчике ужас. Уильям Генри увидел протянутые к нему руки, но не услышал мольбы и метнулся в противоположную сторону. Прямо перед ним бурлили и плескались голубовато-серые воды Эйвона, потоком вырываясь из тесного ущелья. Мистер Парфри шагнул ближе, пытаясь схватить мальчика за край сюртука, улыбка на его лице перестала походить на улыбку. В «Гербе бочара» Уильям Генри научился понимать такие гримасы, ибо, улучив минуту, многие мужчины улыбались ему вот так, нашептывая гнусные предложения. Уильям Генри знал, что эта улыбка фальшива, но не понял, чем она вызвана.
Вскинув голову, он уставился на слепящее солнце.
– Папа-а-а! – С громким криком он бросился в реку.
Эйвон был опасен даже для опытного пловца, а Парфри не умел плавать. Словно обезумев, он забегал по берегу между двух скал, высматривая в бушующих водах хоть что-нибудь – маленькую руку, край одежды. Но он ничего не увидел. Ни ветки, ни листочка, ни Уильяма Генри. Мальчик камнем ушел на дно, не пытаясь бороться.
О чем думал при этом ребенок? Что он увидел, стоя на берегу реки? Почему так перепугался? Неужели он и вправду предпочел ледяные объятия воды? Знал ли он, что делает, прыгая в воду? Или просто потерял способность рассуждать? Он позвал на помощь отца – вот и все. И прыгнул. Не оступился, не упал, а прыгнул в воду сам.
Через полчаса Парфри отвернулся от реки. Уильям Генри Морган ни разу не всплыл на поверхность. Он утонул.
«Он погиб, это я убил его. Я думал о себе, и только о себе, я ждал приглашения и убедил себя в том, что его взгляд был манящим. Но ему было всего девять лет от роду. Девять! Я отверженный. Отщепенец. Я убил ребенка».
Он разыскал коня, с трудом взобрался в седло и направился в сторону Бристоля, не обратив внимания на заинтересованные взгляды пожилой дамы и двух молодых калек. Как странно! Куда же девался миловидный мальчуган?
Оставив коня у ворот Колстонской школы, Парфри прошел по коридорам, никого не замечая, хотя его провожали настороженными взглядами. В своей комнатушке он положил альбом на стол, видя лицо Уильяма Генри в каждом углу, вынул из кармана ключик и отпер деревянную шкатулку, в которой хранил дорогие ему вещи, не желая, чтобы их увидел пронырливый Причард. Под пестрой коллекцией вещиц – двумя прядями волос, полированным агатом, потрепанной книгой, миниатюрой – таилась еще одна шкатулка. В ней Парфри держал маленький пистолет и все необходимое, чтобы заряжать его. Такой пистолет можно было спрятать в женской муфте.
Зарядив оружие, Парфри подошел к столу, присел на жесткий стул, окунул перо в чернильницу, машинально стряхнул с кончика лишнюю каплю чернил и написал в альбоме:
«Я виновен в смерти Уильяма Генри Моргана».
Подписавшись, он выстрелил себе в висок.
Переполох в «Гербе бочара» поднялся задолго до двух часов, когда Уильям Генри обычно возвращался домой из школы: весть о смерти директора облетела город в мгновение ока. Занятия отменили, но Уильям Генри не вернулся домой. Как только усталый и обескураженный Ричард переступил порог таверны в три часа пополудни, взволнованные бабушка и дедушка встретили его известием о пропаже внука.
От ужаса у Ричарда свело язык и челюсти, но физическая усталость мгновенно улетучилась. Он попытался заговорить, открыл и вновь закрыл рот и, наконец, пробормотал, что немедленно отправится на поиски Уильяма Генри.
– Ты иди к Колстонской школе, – решил Дик, развязывая передник, – а я пойду к Редклиффу. Мэг, запри двери таверны.
Постепенно к Ричарду возвращался дар речи.
– Он наверняка отправился в Клифтон, отец. Я пройду через Брэндон-Хилл, а ты – через канатную мастерскую. Встретимся у Хотуэл-Хауса.
Сердце Ричарда колотилось вдвое быстрее обычного, во рту пересохло, однако он шел стремительно, останавливаясь лишь затем, чтобы расспросить случайных прохожих. У Брэндон-Хилла прохожие попадались ему все реже, жители домов близ Джейкобз-Уэлл не видели темноволосого мальчика.
Возле имения Бойса ему вдруг повезло: конюх Ричард по-прежнему возился во дворе у конюшни.
– Да, сэр, сегодня рано утром я видел одного смазливого дьяволенка. Он помог мне накормить и напоить лошадей, потом мы вместе перекусили, и он направился вверх по Клифтон-Хиллу один-одинешенек.
У Ричарда ни разу не мелькнуло подозрение, что конюх лжет: он выглядел дружелюбным малым, который порадовался обществу маленького бродяги, не задумавшись о том, что ему следовало бы пинком отправить Уильяма Генри домой.
Сбивчиво поблагодарив конюха, Ричард быстро зашагал вверх по Клифтон-Хиллу, откуда открывался обширный вид. Но долины между холмами были пустынны, если не считать пасущихся овец, и хотя Ричард обыскал все окрестные рощи, Уильяма Генри там не оказалось.
К шести часам он вошел в Хотуэл-Хаус и обнаружил, что Дик уже ждет его, изводясь от нетерпения.
– Ричард, он пообедал здесь! Приехал верхом с каким-то мужчиной лет тридцати пяти – довольно привлекательным, по словам миссис Харрис, пожилой дамы, которая их видела. Уильям Генри и незнакомец вели себя, как давние друзья – смеялись и шутили так, словно знакомы уже много лет. Они пешком ушли в сторону скал Сент-Винсент. А час спустя миссис Харрис и еще две женщины видели, как мужчина уехал один, кривясь так, как будто он болен. Уильяма Генри с ним не было.
Поблизости вертелся арендатор Хотуэл-Хауса, встревоженный случившимся. Меньше всего ему был нужен скандал, поэтому он вложил в руку Ричарда стакан минеральной воды, не требуя никакой платы, и отступил, продолжая напряженно прислушиваться.
Не чувствуя ни горечи, ни вони тухлых яиц, Ричард одним глотком осушил стакан. Он дрожал всем телом, его одежду пропитал пот, в глазах застыл ужас.
– Идем, – коротко бросил он отцу и вышел.
Судя по всему, Уильям Генри и его спутник побывали на давно знакомой Ричарду поляне: трава была примята, недалеко от берега валялся пучок увядающих ромашек. Ричард и Дик звали Уильяма Генри, пока не охрипли, но не дождались ответа, а потом принялись обыскивать каждую трещину в камне, каждый каменный карниз и нишу. Но ничего не нашли. Начался отлив, воды Эйвона отхлынули от берега.
Дик даже не пытался убедить Ричарда прекратить поиски, но когда стало темнеть, взял сына за плечо и слегка встряхнул.
– Пора возвращаться в таверну, – произнес Дик. – Утром мы вернемся сюда вместе с помощниками и продолжим поиски.
– Отец, он здесь! Он не уходил отсюда! – срывающимся голосом выпалил Ричард.
«Не упоминай про реку! Не вздумай заронить ему в голову эту мысль!»
– Если он здесь, мы найдем его утром. А сейчас пойдем домой, Ричард. Пойдем.
До Бристоля они добрели молча – Ричард горел, как в лихорадке, Дика объял ледяной ужас.
Хотя двери «Герба бочара» были закрыты, возле стойки сидели трое мужчин, глядя в стол, – кузен Джеймс-священник, кузен Джеймс-аптекарь и преподобный мистер Причард. На столе лежал раскрытый альбом.
– Уильям Генри! – воскликнул Ричард. – Где Уильям Генри?
– Сядь, Ричард, – предложил кузен Джеймс-аптекарь, на которого, как на главу клана, неизменно возлагалась печальная обязанность передавать дурные вести. Кузен Джеймс-священник помогал ему, готовый тут же утешить пострадавшего.
– Да говори же! – процедил Ричард сквозь зубы.
– Уильяма Генри учил латыни некий Джордж Парфри, – бесстрастным тоном начал кузен Джеймс-аптекарь, заставляя себя смотреть прямо в полубезумные глаза Ричарда. – Сегодня днем Парфри застрелился. Он оставил записку. – И Джеймс перевернул альбом.
Прочесть несколько слов не составило труда, хотя всю страницу покрывали пятна крови. «Я виновен в смерти Уильяма Генри Моргана».
У Ричарда подкосились ноги. Он упал на колени, побелев как бумага.
– Не может быть… – еле выговорил он. – Не может быть…
– Может, Ричард. Этот человек застрелился. – Кузен Джеймс-аптекарь придвинулся к Ричарду и пригладил его взлохмаченные волосы.
– Ему показалось! Должно быть, Уильям Генри убежал!
– Сомневаюсь. Если верить словам Парфри, он убил Уильяма Генри. И поскольку вы не нашли ребенка, значит, Парфри бросил его труп в Эйвон.
– Нет, нет, нет! – Закрыв лицо ладонями, Ричард закачался, как маятник.
– А что скажете вы? – не скрывая неприязни, спросил Дик у мистера Причарда.
Причард облизнул бледные губы.
– Мы услышали выстрел и обнаружили Парфри с раной в виске. Альбом лежал рядом с ним. Я отправился прямо к преподобному Моргану, – он указал на кузена Джеймса-священника, – а потом мы вдвоем пришли сюда. Я… не знаю, что и сказать… а что тут скажешь! Мистер Морган, вы не можете себе представить, как велики мои скорбь и раскаяние! Но Парфри прослужил в Колстонской школе десять лет, имел незапятнанную репутацию, ученики обожали его. Ума не приложу, что же все-таки произошло.
По-прежнему стоя на коленях, Ричард слышал голоса так, словно они доносились издалека. Дик рассказывал о поисках в Клифтоне, о событиях в Хотуэл-Хаусе, о примятой траве и пучке ромашек на мысу близ Эйвона.
– Наверное, Уильям Генри упал в реку и утонул, – решил мистер Причард. – И все-таки предсмертная записка Парфри выглядит странно, словно он был свидетелем смерти, а не совершил убийство.
– Он сам признал свою вину, – вмешался кузен Джеймс-аптекарь. – Будь он проклят!
Голоса то утихали, то вновь слышались громче, их перебивали всхлипы Мэг, сидящей в углу в позе скорбящей Гекубы.
– Он не умер, – произнес Ричард после паузы, которая, как казалось ему, затянулась на целый час. – Я знаю, Уильям Генри жив.
– Завтра мы поднимем на поиски половину Бристоля – обещаю тебе, Ричард, – заверил кузен Джеймс-аптекарь. Он умолчал о том, что искать мальчика придется у берегов Эйвона и Фрума, особенно во время отлива. К берегам часто прибивало трупы кошек, собак, лошадей, овец и коров, а иногда в иле находили утонувших мужчин, женщин и детей, словно рвоту, извергнутую рекой.
Ричарда отвели наверх, уложили в постель и раздели; подошвы его башмаков протерлись до дыр – сегодня ему пришлось прошагать почти тридцать миль. Но когда кузен Джеймс-аптекарь попытался дать ему лауданум, Ричард оттолкнул стакан.
Нет, Уильям Генри не мертв. Он ни за что не подошел бы к воде. Ричард часто объяснял сыну, что Эйвон опасен, и Уильям Генри внимательно слушал и согласно кивал. Как и Дик, и кузен Джеймс, и мистер Причард, Ричард знал, что могло произойти на берегу: видимо, Парфри начал оказывать мальчику недвусмысленные знаки внимания, а Уильям Генри убежал. Но только не в сторону реки! Чтобы такой проворный, умный мальчик совершил необдуманный поступок – немыслимо! Нет, он наверняка вскарабкался на скалу и убежал; должно быть, сейчас он спит, свернувшись клубком, где-нибудь в Дердхэм-Даун, решив вернуться домой завтра. Он до смерти перепуган, но жив.
Так Ричард утешал себя, отгоняя страшную истину, которую уже поняли все остальные, и радовался тому, что Пег не дожила до этой трагедии. Поистине Господь добр. Он мгновенно вознес Пег на небеса и закрыл ей глаза прежде, чем в них отразилось отчаяние.
По призыву мэра за поиски Уильяма Генри взялось несколько тысяч горожан. Каждый матрос, стоящий на вахте, вглядывался в прибрежный ил, свешивался за борт, всматриваясь в жирные бесформенные кучи между причальных свай и отбросов пятидесятитысячного города. Но тщетно. Те, у кого были лошади, побывали в Пилле, в Блэз-Касл, в Кингсвуде, в каждой деревушке на расстоянии нескольких миль от Клифтона и Дердхэм-Даун; остальные обшаривали берега реки, переворачивая обломки бочек и плавучий торф, заглядывая повсюду, куда могло занести труп. Но никто не нашел Уильяма Генри.
– Прошла уже неделя, – мрачно заявил Дик, – а мы не нашли никаких следов. Мэр советует нам прекратить поиски.
– Понимаю, отец, – вздохнул Ричард. – Но я не сдамся. Ни за что.
– Прошу тебя, смирись! Подумай о том, каково сейчас твоей матери.
– Я не могу смириться и никогда не смирюсь.
Был ли отказ от слепого смирения лучше океана слез, которые он пролил после смерти маленькой Мэри? По крайней мере, выплакавшись, Ричард успокоился. А теперь он страдал сильнее, чем после утраты Пег или Мэри.
– Если бы Ричард потерял всякую надежду найти Уильяма Генри, – рассуждал кузен Джеймс-аптекарь за кружкой рома, – ему было бы незачем жить. Все его близкие умерли, Дик! Пусть у него останется хотя бы надежда. И я, и преподобный Джеймс молимся о том, чтобы тело не нашли. Это поможет Ричарду выжить.
– Разве это жизнь? – возразил Дик. – Это земной ад.
– Для тебя и Мэг – да. А для Ричарда – продолжение надежды и способ существования. Не разубеждай его.
Ричард не нашел и работу, но настоятельной необходимости в поисках не возникало, поскольку дела его отца шли неплохо. Дик владел «Гербом бочара» уже десять лет, дольше, чем большинство трактирщиков Бристоля. Хотя Дик не надеялся, что его заведение будут посещать члены «Общества непоколебимых» или «Юнион-клуба», даже в страшные годы спада таверна сохранила своих посетителей. Едва горожанин находил работу или возвращался на прежнюю, он приводил свою семью в излюбленную таверну. Поэтому летом тысяча семьсот восемьдесят четвертого года «Герб бочара» процветал – конечно, не так, как в тысяча семьсот семьдесят четвертом году, но работы хватало и Дику, и Мэг, и Ричарду. Кроме того, платить за обучение Уильяма Генри теперь не приходилось.
Прошло два месяца. В сентябре двери Колстонской школы вновь открылись для приходящих учеников, но новым директором стал отнюдь не мистер Причард. Исчезновение Уильяма Генри Моргана и самоубийство учителя латыни Джорджа Парфри лишили его всяких шансов занять руководящий пост. Поскольку возложить ответственность за случившееся на покойного директора было невозможно, позорное пятно появилось на репутации преподобного мистера Причарда. В особняке епископа ему пришлось долго отвечать на щекотливые вопросы самых влиятельных бристольцев.
Вскоре после начала занятий в Колстонской школе Ричард получил письмо от сборщика акциза мистера Бенджамина Фишера, который просил его зайти в управление немедленно.
– Вероятно, вас удивляет то, что мы до сих пор не взяли под стражу Уильяма Торна, – начал мистер Фишер, как только Ричард появился у него в кабинете. – К этой мере мы прибегнем лишь в крайнем случае, а пока наши усилия направлены на то, чтобы получить с мистера Томаса Кейва пеню в размере тысячи шестисот фунтов и обойтись без судебного разбирательства. Однако, – продолжал он с легкой улыбкой удовлетворения, – всплыли обстоятельства, которые заметно осложнили дело. Присядьте, мистер Морган. – Он прокашлялся. – Я слышал о том, что случилось с вашим сыном. Искренне сочувствую вам.
– Спасибо, – равнодушно откликнулся Ричард и сел.
– Мистер Морган, вам что-нибудь говорят имена Уильям Инселл и Роберт Джонс?
– Нет, сэр.
– Очень жаль. Оба они работали на винокуренном заводе Кейва одновременно с вами.
– Обслуживали перегонные аппараты?
– Да.
Нахмурившись, Ричард попытался вспомнить восемь или девять лиц, которые мелькали в полутемной комнате, и пожалел о том, что сторонился рабочих даже во время отсутствия Торна. Нет, он не вспомнил ни Инселла, ни Джонса.
– К сожалению, я просто не знаком с ними.
– Не важно. Вчера Инселл пришел ко мне и признался, что утаивал сведения – видимо, из страха перед Торном. Примерно в то же время, когда вы обнаружили отводные трубы и бочонки, Инселл подслушал разговор Торна, Кейва и мистера Сили Тревильяна. Они говорили о незаконном роме, не стесняясь в выражениях. Инселл был занят своей работой, его ни в чем не заподозрили, но ему стало ясно, что эти трое обманывают акцизное управление. Поэтому я намерен привлечь к ответственности Кейва, Тревильяна и Торна, а управление сможет получить свои деньги, наложив арест на имущество Кейва.
Оцепенение Ричарда начало рассеиваться, он откинулся на спинку стула и довольно улыбнулся.
– Отличные вести, сэр.
– Мистер Морган, ничего не предпринимайте, пока дело не дойдет до суда. Нам придется провести расследование, прежде чем взять под стражу всех троих, но позвольте вас заверить: рано или поздно это произойдет.
Два месяца назад эта новость заставила бы Ричарда бегом вернуться в «Герб бочара», не помня себя от радости, но сегодня вызвала в нем лишь мимолетную вспышку удовольствия.
– Я не помню ни Инселла, ни Джонса, – сообщил он отцу, – но они подтвердили мои показания.
– Уильям Инселл сидит вон там. – Дик указал в угол зала. – Он пришел поговорить с тобой и решил подождать.
Одного взгляда на лицо Инселла хватило Ричарду, чтобы освежить память. Инселл был совсем молодым, добродушным и трудолюбивым парнем. К сожалению, именно его Торн избрал козлом отпущения и дважды подверг порке, но Инселл даже не подумал сопротивляться. Впрочем, в его покорности не было ничего странного. Сопротивляясь, он наверняка лишился бы работы, а в трудные времена работа ценилась слишком высоко, чтобы терять ее. Ричарду ни разу даже не грозили поркой, ему не приходилось делать мучительный выбор между унижением и работой. Подобно Уильяму Генри, он умел избегать телесных наказаний, не выказывая подобострастия; кроме того, Ричард был опытным ремесленником, а не чернорабочим. А бедолага Инселл идеально подходил на роль жертвы. Он был ни в чем не виноват. Так распорядилась судьба.
Ричард отнес две полпинты рома на угловой стол и присел рядом с Инселлом. В последнее время его привычки изменились, но никто из родных ни словом не упоминал об этом: Ричард стал все чаще искать утешения в кружке рома.
– Как дела, Уилли? – спросил он, пододвигая одну кружку мистеру Инселлу.
– Я не мог не прийти, – сообщил Инселл.
– Что случилось? – Ричард с нетерпением ждал, когда обжигающая жидкость приглушит его душевную боль.
– Торн узнал, что я побывал в акцизном управлении.
– И неудивительно – ты же явился туда открыто. А теперь успокойся. Выпей рома.
Инселл жадно припал к кружке, чуть не поперхнувшись лучшим неразбавленным ромом Дика, но вскоре перестал дрожать. Опустошив свою кружку, Ричард заново наполнил обе.
– Я потерял работу, – признался Инселл.
– Тогда почему же ты боишься Торна?
– Этот человек – убийца! Он разыщет меня и прикончит!
Втайне Ричард считал, что на убийство скорее способен Сили Тревильян, но не стал спорить.
– Где ты живешь, Уилли?
– В Клифтоне. Возле Джейкобз-Уэлл.
– А какое отношение имеет к делу Роберт Джонс?
– Я рассказал ему о подслушанном разговоре. Мистер Фишер из акцизного управления заинтересовался Джонсом, но решил, что как свидетель я гораздо важнее.
– И он прав. Торн знает, что ты живешь возле Джейкобз-Уэлл?
– Вряд ли.
– А Джонс? – Ричард вдруг вспомнил Роберта Джонса – подхалима, прихвостня Торна. Несомненно, от него Торн и узнал о случившемся.
– Я не говорил ему.
– Тогда успокойся, Уилли. Если тебе нечем заняться, приходи сюда. Торну и в голову не придет искать тебя в «Гербе бочара». Но за ром тебе придется платить.
Инселл в испуге отодвинул кружку.
– Сколько я тебе должен?
– Я угощаю. Выше нос, Уилли. Эти мошенники не блещут умом. Тебе ничто не угрожает.
* * *
Дни становились все короче, у Ричарда оставалось все меньше времени на поиски Уильяма Генри. Первым делом он приходил на мыс Эйвона, карабкался по мрачным скалам, зовя сына. Добравшись до вершины ущелья, Ричард брел пешком через Дердхэм-Даун и Клифтон-Грин. Путь домой пролегал мимо дома Уильяма Инселла, но обычно они с Инселлом встречались на тропе через Брэндон-Хилл. Инселл торопился попасть домой до наступления темноты, однако из страха перед Торном покидал «Герб бочара» только в сумерках.
Ричард износил еще две пары башмаков, но никто из Морганов не посмел упрекнуть его: чем больше Ричард бродил по окрестностям, тем меньше рома он пил. Брату Уильяму неожиданно понадобилось заточить все пилы (он распиливал дерево, привезенное из Вест-Индии), поэтому у Ричарда появилось новое занятие помимо поисков в Клифтоне. А вдруг мальчик дошел до самого Каколд-Пилла? Ободренный новой надеждой, Ричард перестал считать походы к Уильяму потерянным временем. Несколько дней он совсем не пил: чтобы затачивать пилы, требовалась твердая рука.
Он не плакал, не проронил ни единой слезы. Ром приглушил его боль, а вместе с ней – и надежду увидеть Уильяма Генри.
– Не думал, что когда-нибудь заговорю об этом, – как-то в сентябре признался Ричард кузену Джеймсу-аптекарю, – но теперь я жалею о том, что не нашел труп Уильяма Генри. Если бы я увидел его мертвым, то потерял бы последнюю надежду. А теперь мне все кажется, что Уильям Генри жив, и это сущая пытка – как ему живется среди чужих людей, вдали от дома?
Его кузен печально отвел взгляд. Ричард похудел, но попрежнему был крепким благодаря долгим пешим прогулкам, ему еще хватало силы поднимать тяжести, он не выказывал никаких признаков болезни. Сколько лет ему исполнится в следующем году? Тридцать шесть. Почти все Морганы доживали до глубокой старости, и если Ричард не испортит печень ромом, то дотянет лет до девяноста. Но ради чего? Только бы он забыл о постигшем его горе, женился вновь и обзавелся детьми!
– Прошло уже два с половиной месяца, кузен Джеймс! А Уильяма Генри я так и не нашел. Должно быть, – он содрогнулся, – этот мерзавец спрятал труп.
– Дружище, постарайся забыть обо всем.
– Не могу.
На следующий день Уильям Инселл не появился в «Гербе бочара». Радуясь возможности отправиться в Клифтон раньше обычного, Ричард надел шляпу и двинулся к двери.
– Уже уходишь? – удивленно окликнул его Дик.
– Инселл не пришел, отец.
Дик хмыкнул.
– Невелика потеря. Мне надоело видеть, как он торчит здесь в углу, убитый горем, и отпугивает посетителей.
– А с чего ему веселиться? – отозвался Ричард с усмешкой. – Но его отсутствие тревожит меня. Я схожу и узнаю, почему он не пришел.
Путь через Брэндон-Хилл был знаком Ричарду как свои пять пальцев; он сумел бы пройти его с завязанными глазами. Через четверть часа он уже стоял возле дома Уильяма Инселла.
На пороге сидела девушка. Не заметив ее, Ричард поднялся по ступенькам. Девушка поспешно убрала ногу.
– Бонжур, – произнесла она.
Вздрогнув от неожиданности, Ричард уставился в самое прелестное женское лицо, какое ему доводилось видеть. Огромные, озорные и вместе с тем нежные черные глаза, окаймленные длинными ресницами, ямочки на розовых щеках, пухлые алые губы, не знающие губной помады, безупречная кожа и целый водопад блестящих смоляных локонов. Незнакомка была настоящей красавицей и выглядела на редкость опрятно.
– Как поживаете? – осведомился Ричард, с поклоном приподнимая шляпу.
– Прекрасно, месье, – с сильным французским акцентом отозвалась девушка. – Чего не скажешь о бедном Уилли.
– Инселле, мистрис?
– Да. – Она поднялась, и Ричард убедился, что красотой ее фигура не уступает лицу. Девушке очень шло явно дорогое розовое шелковое платье. – Да, об Уилли, – добавила она, произнеся имя Инселла так мило, что Ричард невольно улыбнулся.
Девушка ахнула.
– О, месье, как вы красивы!
Обычно Ричард робел в присутствии незнакомых людей, но рядом с этой девушкой не чувствовал робости, несмотря на ее откровенность. Понимая, что краснеет, он хотел было отвернуться, но не смог. Она и вправду была на удивление хороша собой, а высокая, гладкая, сливочно-белая грудь в разрезе платья неудержимо манила Ричарда.
– Я Ричард Морган, – представился он.
– А я – Аннемари Латур, горничная миссис Бартон. Я здесь живу. – Она усмехнулась. – Разумеется, не с Уилли!
– Так вы говорите, он болен?
– Пойдемте, и вы увидите сами. – Она повела его по узкой лестнице, высоко подобрав платье и показывая две изящные щиколотки под пеной отделанных кружевом нижних юбок. – Уилли! Уилли! К тебе пришли! – крикнула она, дойдя до площадки.
Войдя в комнату Инселла, Ричард увидел, что тот с посеревшим лицом лежит в постели.
– В чем дело, Уилли?
– Устрицы были несвежими, – простонал Уилли.
Аннемари вошла в комнату следом за Ричардом и теперь смотрела на Уилли с любопытством, но без всякого сочувствия.
– Он съел устрицы, которые отдала мне миссис Бартон. Я говорила, что старуха кормит меня едой, которую давно пора выбрасывать. Но Уилли понюхал устрицы, сказал, что они еще свежие, и съел их. И вот что из этого вышло! – заключила она с трагическим жестом.
– Поделом тебе, Уилли. Врач уже приходил? Тебе что-нибудь нужно?
– Только покой, – простонал страдалец. – Меня выворачивало столько раз, что врач заявил, что в желудке от устриц не осталось даже воспоминаний. Но чувствую я себя совсем разбитым.
– Зато ты жив, а это уже неплохо. Если ты не подтвердишь мои показания, мистер Фишер из акцизного управления проиграет процесс. Завтра я навещу тебя.
Ричард спустился по лестнице, ни на секунду не забывая, что Аннемари Латур следует за ним – так близко, что он ощущал запах лучшего бристольского мыла. Не духов, а мыла с ароматом лаванды. Такой девушке не место в доходном доме в Клифтоне. Как правило, горничные жили в городе. К тому же ни одна из них не носила шелковые платья. Должно быть, обноски миссис Бартон. В таком случае у этой миссис Бартон, которую Аннемари назвала старухой, превосходная фигура.
– Всего хорошего, месье Ричард, – сказала мистрис Латур, остановившись на крыльце. – Так мы увидимся завтра?
– Да, – кивнул Ричард, надел шляпу и направился в сторону Клифтон-Грин.
В голове Ричарда царил хаос: он думал о том, где теперь искать Уильяма Генри, и вместе с тем не мог не вспоминать об Аннемари Латур. Ее образ неотступно преследовал Ричарда, его тело предательски вздрагивало и напрягалось. Проведя всю жизнь в тавернах, он знал, что бывают случаи, когда рассудительность и здравый смысл улетучиваются при одном-единственном шорохе женской юбки.
Но почему именно теперь, да еще с этой женщиной? Пег умерла девять месяцев назад; как требовал обычай, Ричард еще носил траур и не имел права даже думать о плотских потребностях. Впрочем, он никогда не питал пристрастия к любовным утехам. Жена была его единственной возлюбленной, Ричарду и в голову не приходило засматриваться на других женщин.
Дело не во времени и не в случае, размышлял он, продолжая стаптывать четвертую пару башмаков. Все дело в этой женщине. В Аннемари Латур. Когда бы и где бы они ни встретились, при жизни Пег или после ее смерти, Аннемари Латур пробудила бы в Ричарде те же самые чувства. Слава Богу, что Пег уже умерла! Аннемари излучала непреодолимый соблазн, казалась сиреной, чье излюбленное занятие – обольщать. «А я не Улисс, привязанный к мачте, с заткнутыми воском ушами. Я обычный, ничем не примечательный человек. Я не люблю ее, но, Бог свидетель, хочу!»
И тут на Ричарда нахлынули угрызения совести. Пег мертва, он по-прежнему носит траур. Уильям Генри исчез всего три месяца назад. Эти чувства порочны, омерзительны, неестественны. Ричард бросился бежать, выкрикивая имя сына, которое уносил равнодушный ветер Клифтон-Хилла. «Уильям Генри, Уильям Генри, спаси меня!»
Но на следующее утро ровно в восемь Ричард подошел к двери дома Уилли Инселла, комкая в руках шляпу и тщетно высматривая Аннемари Латур. Ее не оказалось ни на крыльце, ни на лестнице. Осторожно постучав, Ричард вошел в комнату Инселла и обнаружил, что тот спит. Грудь Уилли мерно вздымалась и опадала. Ричард на цыпочках вышел.
– Бонжур, месье Ричард.
Вот она где! На лестнице, ведущей в мансарду.
– Он спит, – неловко отозвался Ричард.
– Знаю. Я дала ему лауданум.
На этот раз Аннемари была одета не так тщательно, как вчера, – вероятно, она только что встала. Под розовым кружевным пеньюаром виднелась прозрачная розовая рубашка. Распущенные волосы рассыпались по плечам.
– Я разбудил вас? Прошу прощения…
– Нет. – Она приложила палец к губам Ричарда. – Тс-с! Идемте.
Ричард, воспрянувший духом при виде Аннемари, послушно последовал за ней в крохотную комнатушку и застыл, прижав шляпу к животу и растерянно озираясь по сторонам. В доме кузины Энн мебель была гораздо роскошнее, чем здесь, но мистрис Аннемари отличалась утонченным вкусом. В опрятной комнате пахло не пропитанной потом одеждой, а лавандой; тут преобладал девственно-белый цвет.
– Ричард… вы позволите называть вас Ричардом? – спросила девушка, вынимая из его рук шляпу и изумленно округляя глаза. – О-ля-ля! – воскликнула она, помогая ему снять сюртук.
Ричард привык предаваться любви в ночной рубашке, в полной темноте, но у Аннемари были иные вкусы. Она решительно стащила с него рубашку, и Ричард застыл на месте; на нем не осталось ни единой нитки.
– Ты очень красив, – несколько удивленно заметила она, оглядывая его и одновременно снимая кружевной пеньюар и розовую шелковую рубашку. – И я красива, верно?
Он лишь молча кивнул. Ему было не о чем беспокоиться: Аннемари взяла инициативу в свои руки и не собиралась отдавать ее. Более искушенного мужчину насторожило бы ее мастерство, но Ричард не располагал опытом в подобных делах и боялся оказаться в нелепом положении. А подчинившись Аннемари, он ничем не рисковал и вряд ли сделал бы неверный шаг, за который она могла бы поднять его на смех.
На главных улицах Бристоля встречалось немало миловидных дам, но пышные юбки скрывали кривые или волосатые ноги, а груди, стиснутые корсетами, без этой поддержки свисали почти до пояса, до трясущегося, словно студень, живота. Однако мистрис Аннемари была совсем другой: она и вправду оказалась красавицей. Ее груди были высокими и упругими, как у Пег, талия – еще более тонкой, бедра – округлыми, ноги – стройными и ровными, живот плоским, а холмик под черной порослью – сочным и соблазнительно пухленьким.
Она еще раз обошла вокруг Ричарда, прильнула к его спине и потерлась о нее, не переставая томно мурлыкать. Ричард ощущал прикосновение волос на ее лобке и вздрогнул, когда она вдруг вонзила наманикюренные ногти ему в плечи и слегка приподнялась, лаская своим холмиком его ягодицы. Стиснув зубы и каждое мгновение опасаясь излиться, Ричард заставил себя стоять неподвижно, пока Аннемари продолжала ласкаться и ворковать. Наконец она опустилась на колени перед ним, откинулась назад так, что ее грудь стала похожей на две округлые пирамиды с алыми вершинами, встряхнула волосами и торжествующе усмехнулась.
– Кажется, – гортанно произнесла она, – мне предстоит играть на безмолвной флейте.
– Попробуйте, мадам, – еле выговорил Ричард, – и через секунду польется мелодия!
Подхватив его яички обеими ладонями, Аннемари улыбнулась.
– Это не важно, милый Ричард. В такой чудесной флейте найдется немало мелодий.
Ощущения были неописуемыми. Закрыв глаза, всецело сосредоточившись на изощренном наслаждении, Ричард старался запомнить как можно больше многочисленных нюансов новых впечатлений. И наконец, смирившись с поражением, ослепленный яркими светящимися пятнами на фоне бархатистой черноты, он запустил пальцы в густые волосы Аннемари, пока она проглатывала его семя.
Она была права: содрогнувшись в последний раз, тиран внизу живота Ричарда вновь восстал и потребовал продолжения.
– Теперь моя очередь, – заявила Аннемари, в туфлях на высоких каблуках прошла к постели и растянулась на ней, выставив на обозрение набухшие малиновые губы в глубокой расщелине между ног. – Сначала – легкий напев языком, затем – марш на флейте и, наконец, тарантелла! И грохот барабанов!
Она получила то, чего потребовала. Стеснение Ричарда давно улетучилось: если мадам желала убедиться в его мастерстве, он был твердо намерен исполнить победную симфонию.
– А ты, оказывается, не только колдунья, но и поклонница музыки, – пробормотал Ричард несколько часов спустя, доведенный до изнеможения. – Нет, даже не пытайся. Флейта надолго умолкла.
– Ты сам не знаешь, на что способен, дорогой, – промурлыкала Аннемари.
– И ты тоже. Но вряд ли ты освоила такой богатый репертуар на жалком подобии моей барабанной палочки. Должно быть, у тебя были и флейты, и кларнеты, и гобои, и даже фаготы.
– А ты образованный человек, милый Ричард.
– Пять лет, проведенных в Колстонской школе, вряд ли назовешь достойным образованием. Гораздо большему я научился, делая оружие.
– Оружие?
– Да, в мастерской одного португальского еврея, опытного оружейника, – объяснил Ричард, который был слишком утомлен, чтобы ворочать языком, но чувствовал, что после «концертов» Аннемари любит поболтать. – Он играл на скрипке, его жена – на клавикордах, а три их дочери – на арфе, виолончели и… хм… на флейте. Я прожил в их доме семь лет и часто пел, потому что им нравился мой голос. В моих жилах есть примесь валлийской крови, а валлийцы – признанные певцы.
– Тебе не занимать чувства юмора, – заметила Аннемари, отводя волосы с его лица. – Его нечасто встретишь у бристольца. Значит, валлийцы славятся и остроумием?
Ричард поднялся, надел белье и принялся натягивать чулки.
– Не понимаю только одного: зачем тебе служить горничной, Аннемари? Тебе следовало бы стать любовницей магната.
Она небрежно отмахнулась.
– Меня забавляет такая работа.
– А откуда у тебя шелковые платья? И эта… девственно-белая комната?
– Подарки миссис Бартон, – презрительно откликнулась она. – Безмозглая старая сука!
– Не смей так говорить! – перебил Ричард.
– Нет, буду! Она сука! Да, сука! Похоже, я шокировала тебя, милый Ричард. – Усевшись на постели, она скрестила ноги по-турецки. – Я обманываю миссис Бартон. Обвожу ее вокруг пальца. Она считает, что поступила умно, поселив меня подальше от своего старого глупого мужа. – Аннемари презрительно приподняла губу. – А сама она вхожа во все лучшие дома Клифтона, где любит похваляться тем, что у нее служит настоящая фр-р-ранцуженка. Ха!
Одевшись, Ричард с усмешкой взглянул на Аннемари.
– Ты хочешь вновь увидеться со мной? – спросил он.
– О да, Ричард, очень!
– Когда?
– Завтра в тот же час. Миссис Бартон спит допоздна.
– Но нельзя же вечно одурманивать Уилли лауданумом.
– Это ни к чему. Теперь я твоя – зачем думать об Уилли?
– Верно. Тогда до завтра.
В тот день мысли об Уильяме Генри отступили в дальний уголок в голове его отца. Ричард направился прямиком в «Герб бочара», взбежал по лестнице, никому не сказав ни слова, в одежде бросился на постель и проспал до рассвета. Он не выпил ни капли рома.
– Твоя рыбка попалась, – сообщила Аннемари Латур Джону Тревильяну Сили Тревильяну.
– Когда же ты отучишься от своих французских замашек? – вздохнул мистер Тревильян. – Тебе пришлось несладко, бедняжка моя?
– Напротив, милый Сили. Его одежда чиста, как и его тело. Никаких гнид, вшей и лишаев, – с расстановкой пояснила она. – Он не забывает мыться. – По ее губам порхнула безжалостная улыбка. – У него на редкость красивое тело. Он настоящий мужчина.
Шпилька вонзилась точно в цель, распространяя яд, но Сили был слишком умен, чтобы выдать недовольство. Вместо этого он хлопнул француженку по попке, вручил ей двадцать золотых гиней и отпустил ее. Сегодня его навестили мистер Кейв и мистер Торн, с которыми Сили не виделся уже давно. Тем, кто живет на Парк-стрит вместе с заботливой мамашей, не пристало принимать визитеров низкого происхождения.
– Самое лучшее, что мы можем сделать, – предложил Уильям Торн, – это схватить Инселла и продать его на какую-нибудь галеру.
– Чтобы нас тут же заподозрили в убийстве? – усмехнулся Сили. – Ну уж нет!
– Я позабочусь о том, чтобы его сочли пропавшим без вести.
– Тогда пусть та же участь постигнет и Ричарда Моргана, – подхватил Тревильян.
– Это ни к чему! – встрепенулся Томас Кейв. – У Ричарда Моргана есть связи, а Инселл – просто ничтожество. Пусть Билл отправит Инселла на галеру, а я снова побываю в акцизном управлении. Я не прошу тебя уплатить пеню, Сили, но пока она не уплачена, нам всем грозит виселица. За нами следят.
– Послушай, – отчетливо выговорил Сили Тревильян, – происхождение не позволяет мне зарабатывать на хлеб, а мой покойный отец, дьявол его побери, лишил меня наследства. Поэтому мне приходится жить своим умом и радоваться тому, что он у меня есть. Благодаря матери у меня имеется крыша над головой и мелочь на карманные расходы, но мне нужны большие деньги, и я вовсе не желаю терять их. Кроме того, я не хочу расставаться ни со свободой, ни с собственной головой. По вине Моргана и Инселла я стал нищим и потому должен отомстить им. – Его лицо исказилось. – Да, Инселл – ничтожество. Но нас выследил Морган. И потом, мне просто необходимо погубить Ричарда Моргана.
Проснувшись, Ричард первым делом заглянул в комнатку Уильяма Генри. Постель была пуста. Слезы навернулись на глаза Ричарда впервые с тех пор, как исчез его сын, но не потекли по щекам. Долгий и крепкий сон вернул ему силы, хотя пенис по-прежнему ныл от многочисленных укусов и царапин. Ричард воздерживался от бранных слов. Аннемари и вправду оказалась распутницей.
С тех пор как Ричард помнил себя, утро в доме его родителей неизменно проходило по заведенному порядку. Дик спускался на кухню и приносил чайник кипятку и ведро горячей воды для небольшой жестяной лохани Мэг. Пока была жива Пег, лоханью пользовались обе женщины, а после них мылась служанка. В то время как женщины приводили себя в порядок наверху, Ричард и Дик умывались внизу.
Проходя через спальню сына с чайником и ведром, Дик метнул быстрый взгляд в сторону Ричарда и убедился, что тот уже проснулся. Сбросив вчерашнюю одежду и поручив служанке привести ее в порядок, Ричард разыскал другую одежду в сундуке и голышом сбежал по лестнице. Его отец уже успел побриться и теперь стоял в большом тазу, тщательно намыливая мокрое тело.
Увидев сына, Дик изумленно разинул рот.
– Господи, что с тобой стряслось?
– Я был у женщины, – признался Ричард, готовя бритвенные принадлежности.
– Нашел время! – Мыло выскользнуло из пальцев Дика и утонуло в тазу. – У какой-нибудь потаскушки?
Ричард усмехнулся:
– Если она и потаскушка, отец, то такие встречаются нечасто. Таких, как она, я еще никогда не видел.
– Странные речи из уст хозяина таверны. – Дик перешагнул через край таза и принялся старательно растираться старым льняным полотенцем, а Ричард тем временем занял место отца.
– Вы закончили? – послышался сверху голос Мэг.
– Еще нет! – крикнул в ответ Дик. Не переставая вытираться, он подвел Ричарда к окну и внимательно рассмотрел его в тусклом утреннем свете, а потом нахмурился. – Надеюсь, ты ничем не заразился.
– Ручаюсь, что нет. Эта женщина особенная.
– Где ты ее нашел?
– Мы встретились у Инселла.
– Так она живет с Инселлом?
– Нет, что ты! На такое она ни за что бы не согласилась. Она колдунья. – Ричард нахмурился и покачал головой. – Сказать по правде, не знаю, что она во мне нашла. Чем я лучше Инселла?
– Вы с Инселлом похожи, как шелковый кошелек и свиное ухо.
– Сегодня утром, в восемь, я снова увижусь с ней.
Дик присвистнул.
– Ты так увлекся?
– Горю словно в огне, – признался Ричард, расчесывая влажные волосы. – Беда в том, отец, что она вызывает у меня неприязнь, но вместе с тем я не могу насытиться ею. Как мне быть? Может, держаться от нее подальше?
– Ступай к ней, Ричард! Коль попал в огонь, лучше пройти через него.
– А если я сгорю?
– Буду молиться, чтобы этого не случилось.
«По крайней мере, – размышлял Ричард, закрывая за собой дверь таверны, – отец меня понял. Вот уж не думал, что он одобрит мой выбор! Хотел бы я знать, сгорал ли когда-нибудь он сам?»
Ричард не понимал, что с ним стряслось, – то ли он изголодался, то ли попал в рабство к женщине. В Бристоле редко употребляли такие слова, как «секс» и «сексуальный», – они казались слишком грубыми и откровенными в богобоязненном городке, где умалчивали обо всем, что считалось непристойным. Само слово «секс» низводило плотскую любовь до уровня звериной похоти. Но сейчас Ричард спешил к Джейкобз-Уэлл лишь потому, что жаждал плотских утех.
При этом он думал об Уильяме Генри. Он наверняка жив, он среди чужих людей, ему не позволяют вернуться домой. Может, он попал на корабль и стал юнгой. Такое часто случалось, особенно с миловидными мальчиками. «О Господи! Только не это! Лучше бы ему умереть, чем пережить такое! А я иду совокупляться с французской потаскухой, рядом с которой я становлюсь беспомощным, как беспомощна крыса под взглядом кобры на бристольской ярмарке…»
* * *
Каждый день всю следующую неделю Ричард встречался с Аннемари, и с каждой встречей пламя в нем разгоралось все ярче. Боль, вызванная встречами и мыслями об Уильяме Генри, о том, что он стал юнгой, вновь заставляла Ричарда искать утешения в кружке рома; днем перед ним расплывчатыми кляксами проходили лица Аннемари и отца, Уильяма Генри, плачущего где-то вдалеке, в бескрайнем море, сам Ричард тонул в мешанине плотских утех, музыки, кобр и рома и в последнем находил забвение после каждого прилива скорби. Он ненавидел Аннемари, эту французскую сучку, но никак не мог пресытиться ею. Хуже того, он ненавидел себя.
Однажды Аннемари отправила Ричарду с Инселлом записку, сообщив, что некоторое время они не будут встречаться, но не объяснила почему. Озадаченный Инселл тоже ничего не понимал и сообщил, что с двери комнаты Аннемари снят молоток, – должно быть, она переселилась к миссис Бартон. Бродя по окрестностям в поисках сына, Ричард думал о том, что не может позволить себе потерять и Аннемари. Чувство, которое он испытывал к ней, было тяжелым, тусклым и темным, как свинец, он и сам не понимал, как может бояться такой утраты. Его по-прежнему пожирало адское пламя.
Наконец прекратив поиски, он стал все дни проводить в «Гербе бочара», потягивая ром, беседуя с самим собой, положив на стол перо и бумагу, чтобы написать Джеймсу Тислтуэйту. Однако лист бумаги оставался белым.
– Джим, прошу, посоветуй мне хоть что-нибудь! – взмолился Дик, обращаясь к кузену Джеймсу-аптекарю.
– Я всего лишь аптекарь, а не врач, а у бедняги Ричарда душевная болезнь. Нет, я не виню в этом женщину. Она – только симптом его болезни, которая началась после того, как утонул Уильям Генри.
– Ты все-таки считаешь, что он утонул?
Кузен Джеймс-аптекарь энергично закивал:
– В этом я ничуть не сомневаюсь. – Он вздохнул. – Поначалу я думал, что будет лучше не лишать Ричарда надежды, но когда он начал пить, я отказался от прежних мыслей. Ему необходим врачеватель души, а ром – это не панацея.
– Преподобного Джеймса не назовешь непревзойденным утешителем, – возразил Дик. – Это тебе хватает ума, чтобы увидеть всю картину в целом, а Джеймсу – нет. Попробуй расскажи ему об этой французской потаскухе – и он схватит молитвенник и распятие и ринется в бой против прислужницы сатаны! Именно так он назовет ее. А по-моему, она просто назойливая особа, которую тянет к Ричарду. Он никогда не замечал, как посматривают на него женщины – а они не спускают с него глаз! Должно быть, ты и сам это видел.
Поскольку обе дурнушки дочери кузена Джеймса-аптекаря давным-давно были влюблены в Ричарда, Джеймс вновь согласно закивал.
К двадцать седьмому сентября Ричард успел в буквальном смысле слова пропитаться ромом. Получив от Аннемари Латур записку с известием, что она вернулась домой и сгорает от желания увидеться с ним, он вскочил со стула и бросился вон из таверны.
– Ричард! О, как я рада видеть тебя, милый! – Аннемари втащила его в комнату, осыпала поцелуями, сняла с него шляпу и сюртук, не переставая мурлыкать и ластиться.
– Что случилось? – спросил он, отстраняя ее и решая все выяснить сразу. – Где ты пропадала целую неделю?
– Миссис Бартон заболела, мне пришлось переселиться к ней – Уилли должен был рассказать тебе об этом. Я сама попросила его.
– А куда девался твой акцент? – насторожился Ричард.
– Дело в том, что мне пришлось безотлучно быть рядом с миссис Бартон, а она не выносит ломаного английского. Я измучилась, ухаживая за ней. – И Аннемари нахмурилась, всем видом выражая недовольство.
Ричард, на которого наконец подействовал ром, рухнул на кровать.
– Впрочем, какая разница, детка? Я соскучился и рад, что ты вернулась. Поцелуй меня!
И они принялись ласкать друг друга губами, языками, ладонями, объятые пламенем, в экстазе забыв про стыд. Час за часом они наслаждались друг другом в самых причудливых положениях: фантазия Аннемари была неиссякаемой, а Ричард охотно подчинялся ей.
– Ты необыкновенный, – наконец простонала она.
Колоссальным усилием воли Ричард заставил себя открыть глаза.
– С чего ты взяла?
– От тебя разит ромом, а ты ублажаешь меня – это вполне приличное слово! – как девятнадцатилетний мальчишка.
– Да будет тебе известно, дорогая, – гордо усмехнулся он и закрыл глаза, – чтобы лишить меня мужской силы, мало нескольких пинт рома. – Помедлив, он добавил: – Я продержался дольше Джона Адамса и Джона Хэнкока.
– Что?
Но Ричард не ответил; откинувшись на груду мягких подушек, Аннемари уставилась в потолок, гадая, что станет с ней, как только все будет кончено. Когда Сили уговорил ее соблазнить Ричарда Моргана, посулив несколько золотых гиней, она испустила тяжкий вздох, взяла деньги и заранее приготовилась несколько недель изнывать от скуки. Но беда была в том, что скучать ей не пришлось. Ричард оказался джентльменом. А этого она при всем желании не могла сказать о двуличном развращенном Сили, который кичился своим происхождением, однако повадками напоминал уличного мошенника.
Аннемари никак не ожидала, что ее жертва окажется привлекательной (впрочем, мысленно она называла привлекательность Ричарда красотой). На первый взгляд он был бедновато одетым заурядным бристольцем, ни на что не претендующим и не пытающимся привлечь к себе внимание. Но едва он впервые улыбнулся ей, с его лица, казалось, слетела маска, и оно вдруг стало поразительно прекрасным. А под простой одеждой, в которой любой мужчина выглядел грузным и сутулым, скрывалось тело древнегреческой статуи. Пользуясь библейским выражением, можно сказать, что Ричард держал свой свет под спудом. Это замечали только те, кто имел глаза, чтобы видеть. Какая досада, что он так низко ценит себя! Превосходный любовник! Да, непревзойденный!
Но что же будет с ней, когда все кончится? Ждать осталось совсем недолго, судя по тому, каким податливым стал Ричард, – Сили торопил ее, а ром оказывал ей огромную помощь. Аннемари подозревала, что играет в этом спектакле второстепенную роль и понятия не имеет, каким будет финал. Но эта роль поможет ей распрощаться с Сили и с Англией. Аннемари еще не утратила девической красоты, в тридцать лет ей давали не более двадцати. С деньгами, которые Сили вскоре заплатит ей и уже заплатил за последние четыре года, она сумеет покинуть эту страну грязных свиней и перебраться на родину, в Жиронду, где и заживет, как знатная дама.
Аннемари продремала около часа; проснувшись, она разбудила Ричарда.
– Ричард, Ричард, я кое-что придумала!
У Ричарда раскалывалась голова, во рту пересохло. Привстав, он потянулся за белым кувшином, в котором Аннемари держала легкое пиво. После нескольких больших глотков ему стало лучше, но Ричард знал: пройдет не один день, прежде чем его перестанет мучить похмелье. Разумеется, если он прекратит пить. Но кому это нужно?
– Что? – спросил он, садясь на постели и обхватывая голову руками.
– Почему бы нам не пожить вместе? Миссис Гейл, которая живет внизу, переезжает и сдает два этажа всего за полкроны в неделю. Мы могли бы устроить в одной из комнат спальню, а Уилли переселить сюда или в подвал. Он поможет нам – ведь он платит за жилье целый шиллинг. Жить вдвоем было бы так удобно – прошу тебя, Ричард, согласись!
– Но я безработный, дорогая, – возразил он.
– Зато у меня есть работа у миссис Бартон, да и ты тоже скоро подыщешь себе место, – беспечно отозвалась Аннемари. – Ну пожалуйста, Ричард! А если здесь поселится какой-нибудь мужлан? Кто тогда защитит меня?
Ричард отвел ладони от лица и уставился от нее.
– Я могла бы сказать, что мы женаты, чтобы к нам относились с уважением.
– Женаты?
– Только чтобы успокоить соседей, милый Ричард. Ну прошу тебя!
Думать было трудно, легкое пиво вызвало тошноту. Ричард едва понимал, о чем идет речь, но предстоящие перемены не пробуждали в нем недовольства. Он и без того злоупотребил гостеприимством родителей – а может, ему просто надоел «Герб бочара».
– Ладно, – наконец выговорил он.
Просияв, Аннемари запрыгала на постели.
– Завтра же мы переезжаем! Уилли поможет миссис Гейл вывезти вещи, а потом перенесет мою мебель вниз! Завтра же!
Ошеломленные известием, родители Ричарда переглянулись и решили промолчать. В последнее время Ричард пристрастился к рому. Если он переселится в Клифтон, ему волей-неволей придется платить за выпитое.
– А если он будет жить здесь, отказать ему, моему родному сыну, я не смогу, – заключил Дик.
– Ты прав, здесь ром у него под рукой, – согласилась Мэг.
Дик одолжил сыну ручную тележку, на которой возил опилки и припасы, и мрачно проследил, как Ричард ставит на нее два сундука.
– А твои инструменты?
– Пусть останутся у тебя, – сухо ответил Ричард. – Такие инструменты вряд ли понадобятся мне в Клифтоне.
Дом, где жили мистрис Латур и Уилли Инселл, располагался на Клифтон-Грин-лейн, в окружении двух таких же домов, неподалеку от Джейкобз-Уэлл. О том, что эти дома когда-то представляли собой одно строение, свидетельствовали узкие лестницы и грубые перегородки, благодаря которым домовладельцы увеличили количество помещений и собственный доход. Перегородки доходили до потолка, но были сколочены кое-как и испещрены щелями, сквозь которые доносились голоса. Только в мансарде Аннемари, напоминающей приподнятую бровь, существовало хоть какое-то подобие уединения. Ричард понял это сразу же, едва кровать перенесли в новую комнату этажом ниже.
– Теперь все соседи будут знать, как и когда мы предаемся любви, – недовольно заметил он.
Аннемари пожала плечами:
– Любви предается весь мир, милый Ричард. – Вдруг она ахнула и сунула руку в сумочку. – Совсем забыла! Тебе письмо!
Взяв свернутый лист бумаги, Ричард с любопытством оглядел печать – она оказалась незнакомой. Но под печатью было аккуратным почерком выведено имя мистера Ричарда Моргана.
«Сэр, – говорилось в письме, – о вас мне стало известно благодаря любезности миссис Герберт Бартон. Если не ошибаюсь, вы оружейник. В таком случае, если вы представите рекомендательные письма и продемонстрируете свое мастерство в моем присутствии, я готов предложить вам работу. Жду вас в девять часов тридцатого сентября в моем доме по адресу: Бат, Уэстгейт, дом десять».
Ниже было дрожащей, неуверенной рукой начертано имя – Хорейшо Миддер. Кто такой этот Хорейшо Миддер? Ричард думал, что ему известны имена всех оружейников от Рединга до Уэймута, но о мистере Миддере он никогда не слышал.
– Что там? От кого это? – допытывалась Аннемари, заглядывая через плечо Ричарда.
– От оружейника из Бата, некоего Хорейшо Миддера. Он предлагает мне работу, – растерянно выговорил Ричард. – Тридцатого в девять утра он ждет меня – значит, я должен выехать завтра.
– А, это знакомый миссис Бартон! – радостно воскликнула Аннемари, хлопая в ладоши. Внезапно она смутилась и опустила глаза, тени длинных ресниц легли на ее щеки. – Я рассказала ей о тебе, Ричард. Надеюсь, ты не против?
– Если я получу работу, – отозвался Ричард, подхватывая ее на руки, – можешь рассказывать обо мне хоть самому дьяволу!
– Жаль, – надулась Аннемари, – что завтра тебе придется уезжать. Я уже всем рассказала, что мы женаты и только что поселились здесь, нас наперебой приглашают в гости. – Она выпятила пухлые губки. – А если ты задержишься в Бате до вечера, мы увидимся лишь в субботу…
– Не важно, была бы работа, – отмахнулся Ричард, ставя свой сундук туда, где вряд ли согласилась бы держать свои вещи Аннемари. – Только напрасно мы перенесли сюда кровать. Поскольку Уилли предпочел жить внизу, в этом не было никакой необходимости.
– А если ты найдешь работу в Бате? – продолжала рассуждать Аннемари, демонстрируя железную логику. – Нам опять придется переезжать.
– Верно.
– А хорошо, что теперь у меня будет отдельный кабинет, правда? Я люблю писать письма, а комната в мансарде была такой тесной!
Ричард прошел в комнату, соседствующую со спальней, и осмотрел одиноко стоящий в ней стол.
– Надо будет купить к нему остальную мебель. Как странно… За всю жизнь мне ни разу не доводилось обставлять дом, даже когда мы с Пег жили на Темпл-стрит.
– Пег? Кто это?
– Моя жена. Она умерла, – коротко ответил Ричард и понял, что ему необходимо выпить. – Пройду прогуляюсь, пока ты пишешь письма.
Но Аннемари проводила его вниз, в гостиную и кухню, где разместились четыре деревянных стула, стол, буфет, кухонный стол и грубо сложенная печь. Умеет ли Аннемари готовить еду? И хватит ли ей времени готовить, если она проводит все дни и вечера с сибариткой миссис Бартон?
На пороге Аннемари привстала на цыпочки и поцеловала Ричарда.
– Вот так встреча! – раздался развязный голос. – Мистер Морган, если не ошибаюсь?
Оборвав поцелуй, Ричард повернул голову и увидел неподалеку от дома мистера Джона Тревильяна Сили Тревильяна в роскошном оранжевом бархате, расшитом белыми и черными нитями. От неожиданности волосы на затылке Ричарда встали дыбом, но в присутствии Аннемари он не мог поступить так, как ему хотелось, – повернуться спиной к Сили Тревильяну и направиться прочь по улице.
– Мистер Тревильян собственной персоной? – откликнулся он.
– Это и есть ваша жена, о которой я наслышан? – продолжал щеголь, восхищенно оттопырив накрашенные губы. – Прошу, познакомьте нас!
Долгую минуту Ричард стоял молча, стараясь оставаться бесстрастным, а в его затуманенной ромом голове вертелись все мыслимые последствия этой злополучной, никчемной встречи. Мистера Тревильяна сопровождали мужчины и женщины, которых Ричард никогда не видел, но, судя по их домашнему платью, они жили по соседству с квартирой, снятой Аннемари. Как же быть? Что ответить?
– Представьте меня вашей жене, – вновь попросил Сили.
Подобно каждому англичанину, Ричард слабо разбирался в законах, но знал, что, как только он назовет какую-нибудь женщину женой, она и вправду станет считаться его гражданской супругой. Когда Аннемари предложила рассказать соседям и друзьям о том, что они женаты, даже в состоянии похмелья к Ричарду пришла отрадная мысль: пусть болтает сколько угодно, называя его мужем, но он ни за что не станет подтверждать ее слова.
А теперь он стоял лицом к лицу со своим недругом, Сили Тревильяном, в окружении соседей Аннемари и пребывал в полной растерянности: если он представит им Аннемари как свою жену, она будет считаться его гражданской супругой, пока они живут вместе. Если же он публично опровергнет ее слова, соседи сочтут ее блудницей, Аннемари станет изгоем.
Ладно, так уж и быть. Пусть Аннемари считают его женой – до тех пор, пока он спит с ней. Ричарду были ненавистны «музыкальные» сравнения Аннемари, он презирал себя за то, что попался в ее ловушку, но тем не менее не мог одним словом превратить ее из порядочной служанки в потаскуху. Из них двоих только Аннемари постоянно жила близ Джейкобз-Уэлл и знала всех соседей.
– Ее зовут Аннемари, – сухо произнес Ричард и спросил: – Что вы здесь делаете?
– Заходил к своему цирюльнику, мистеру Джойсу. – Сили указал на стоящего рядом с ним жеманного мужчину. – Он живет рядом с вами. От него я и узнал, что вы поженились и поселились здесь. – Достав из рукава кружевной платок, Сили изысканным жестом вытер лоб. – Жаркий нынче выдался сентябрь, верно?
– О, сэр, позвольте пригласить вас в гости, – вмешалась Аннемари, с шуршанием нижних юбок опускаясь в реверансе. – У нас в гостиной гораздо прохладнее, там вам будет удобно. – Она провела нежданного гостя в дом, усадила на стул и стала обмахивать подолом передника. – Ричард, дорогой, мы можем чем-нибудь угостить джентльмена? – медовым голоском осведомилась она – видимо, наряд гостя произвел на нее неизгладимое впечатление.
– Сначала мне придется сходить за пивом и ромом в таверну, – без особого восторга отозвался Ричард.
– Тогда я сейчас же найду кувшин для рома и второй – для легкого пива, – пообещала Аннемари и вышла на кухню, взмахнув юбками – так что взгляду Сили предстали ее тонкие щиколотки.
– Мне не за что вас благодарить, Морган, – заявил Сили, как только они остались вдвоем. – Вы оклеветали меня, мне пришлось выдержать несколько пренеприятных бесед в акцизном управлении. Не знаю, чем я обидел вас, пока вы возились с перегонными аппаратами Кейва, но считаю, что вам было вовсе незачем лгать обо мне сборщику акциза.
– Я не солгал, – бесстрастно ответил Ричард. – Я все видел своими глазами в безоблачную лунную ночь и слышал ваше имя. – Он усмехнулся. – И кроме того, вы имели неосторожность завести весьма откровенный разговор с мистером Кейвом и мистером Торном в присутствии посторонних. Вам предстоит обвинение в мошенничестве, мистер Сили Тревильян.
Аннемари вернулась с пустыми белыми кувшинами в каждой руке.
– Так вы согласитесь выпить пива, сэр? – спросила она у гостя.
– В такой час дня – пожалуй.
Забрав у Аннемари кувшины, Ричард отправился в таверну «Вороная лошадь», а Аннемари устроилась на втором стуле и принялась развлекать беседой роскошно разодетого джентльмена.
Возвращаясь домой, Ричард обнаружил, что понапрасну потерял время: мистер Тревильян уже стоял на пороге, целуя руку Аннемари.
– Надеюсь, мы еще увидимся, месье, – заметила она, показывая в застенчивой улыбке ямочки на щеках.
– О, непременно, обещаю вам! – резким фальцетом отозвался Тревильян. – Не забывайте, что мой цирюльник живет по соседству.
Вдруг Аннемари ахнула:
– Миссис Бартон! Я опаздываю!
Мистер Тревильян предложил ей руку:
– Поскольку я хорошо знаком с этой леди, позвольте проводить вас, мадам Морган.
И они вышли, сблизив головы. Тревильян болтал чепуху, Аннемари хихикала. Ричард наблюдал за ними из-за ближайшего угла, недовольно ворча себе под нос. Он внезапно вспомнил, что до сих пор не вернул отцу ручную тележку. Безмозглая французская потаскуха! Она кокетничает с этим болваном Сили Тревильяном только потому, что он наряжен в оранжевый бархат, расшитый руками какой-то бедной сиротки, не получившей за свой труд ни гроша!
Дилижанс в Бат каждый день отходил от постоялого двора «Лэм инн» в полдень и через четыре часа прибывал к месту назначения. Билет стоил четыре шиллинга, на империале – всего два. Хотя Ричард отказывал себе во всем, экономя деньги, заработанные у мистера Томаса Кейва, у него осталась незначительная сумма. Поездка в Бат могла обойтись ему самое малое в десять шиллингов – существенный расход. Он еще не успел договориться с Аннемари по поводу расходов на домашнее хозяйство, а вчера взял два обеда в «Вороном коне», которые стоили дороже, чем в «Гербе бочара». Аннемари даже не попыталась заплатить за свой обед, но не стала и ограничивать Ричарда в роме, хотя сама предпочитала портвейн.
Ричарду пришлось пройти пешком через весь Бристоль, чтобы вовремя занять дешевое место на империале дилижанса. Путешествующие таким образом пассажиры неизбежно оказывались жертвами стихий, но сегодня дождя не предвиделось.
На просторных постоялых дворах, возле которых останавливались дилижансы, жизнь кипела ключом. Там суетились конюхи, лошади бродили, волоча за собой упряжь, на каждом шагу попадались кучера и слуги с подносами еды, заказанной пассажирами. Обнаружив, что шесть лошадей еще не успели запрячь в дилижанс, Ричард уплатил два шиллинга за место на империале и отошел к стене постоялого двора, дожидаясь, когда объявят посадку.
Там его и нашел Уильям Инселл, который влетел во двор и застыл, тяжело дыша и озираясь.
– Уилли!
Инселл торопливо приблизился к Ричарду.
– О, слава Богу, слава Богу! – задыхаясь, выговорил он. – А я боялся, что ты уже уехал!
– Что стряслось? Аннемари захворала?
– Нет, гораздо хуже, – ответил Инселл, выпучив светлые глаза.
– Хуже? – Ричард схватил его за руку. – Умерла?!
– Нет, нет! Она назначила свидание Сили Тревильяну.
Почему-то Ричард ничуть не удивился.
– Продолжай.
– Он якобы пришел к своему цирюльнику, живущему по соседству, но почему-то постучал в нашу дверь, и Аннемари открыла ему. – Он стер пот со лба и умоляюще взглянул на Ричарда. – Как хочется пить! Я бежал всю дорогу!
Ричард дал Инселлу пенни на кружку легкого пива, которую тот осушил одним глотком.
– Уфф… вот так-то лучше!
– Рассказывай, Уилли. Мой дилижанс отправится в Бат с минуты на минуту.
– Они ничуть не стеснялись, словно забыв, что я дома. Аннемари спросила, пришел ли Сили по делу, и он кивнул. А потом она начала кокетничать – заявила, что время неподходящее, что ты можешь вернуться. Она предложила Сили прийти в шесть часов сегодня вечером и разрешила ему остаться на ночь. Сили отправился к цирюльнику Джойсу, я услышал, как они переговариваются за стеной. Дождавшись, когда Аннемари закроет дверь, я бросился искать тебя. – Взгляд его по-собачьи преданных глаз остановился на лице Ричарда в ожидании похвалы.
– Дилижанс до Бата! – громко крикнул кто-то.
Что же делать? Черт побери, ему необходима работа! Но, как мужчина, Ричард был взбешен тем, что Аннемари предпочла ему Сили Тревильяна, не кого-нибудь, а именно Сили! Оскорбление казалось нестерпимым. Он выпрямился.
– Ладно, черт с ней, с этой работой в Бате, – грустно произнес Ричард. – Мы отправимся к моему отцу и побудем там. А в шесть вечера мистрис Латур и мистера Сили Тревильяна ждет неприятный сюрприз. Даже если его не привлекут к суду по обвинению в мошенничестве, этот вечер он запомнит навсегда, клянусь тебе!
Охваченный дурными предчувствиями, Дик размышлял: вправе ли он расспрашивать взрослого, тридцатишестилетнего сына? Что происходит, почему Ричард упорно молчит? Эта размазня Инселл с преданным видом вертелся вокруг Ричарда – впрочем, малый он безобидный, но и хорошим другом его не назовешь. А сам Ричард мрачно потягивал ром.
Незадолго до шести часов, перед тем как Мэг начала подавать ужин посетителям, заполнившим таверну, Ричард и Инселл поднялись. «Да он же почти трезв, – думал Дик, глядя, как уверенно Ричард шагает к двери, сопровождаемый Инселлом. – С моим сыном что-то происходит, а он хранит молчание и не дает мне даже рта раскрыть!»
Вечерняя заря еще догорала в небе, стоял чудесный вечер. Ричард шагал так стремительно, что Уилли Инселл с трудом поспевал за ним. С каждым шагом Ричарда все сильнее охватывала ярость.
Дверь новой квартиры была незапертой, Ричард приоткрыл ее и проскользнул в щель.
– Жди здесь, пока я не позову тебя, – шепотом приказал он Уилли и скрипнул зубами. – Она с Сили! С Сили! Сука! – И он стал подниматься по лестнице, стиснув кулаки.
Сцена в спальне была, казалось, целиком взята из классического фарса. Похотливая любовница Ричарда возлежала на кровати, раскинув ноги; одетый в отделанную кружевом рубашку Сили нависал над ней. Их тела размеренно двигались, Аннемари издавала негромкие стоны наслаждения, Сили довольно урчал.
Ричард думал, что он готов ко всему, но едва он вошел в спальню, гнев лишил его всякой способности рассуждать здраво. Возле камина стояли ведерко с углем и молоток, чтобы разбивать крупные куски угля. Прежде чем лежащие на постели успели моргнуть глазом, Ричард метнулся к камину, схватил молоток и подскочил к кровати.
– Уилли, сюда! – взревел Ричард. – А вы двое не шевелитесь! Пусть мой свидетель увидит вас в такой позе.
Инселл вошел в спальню и застыл с разинутым ртом, не сводя глаз с груди Аннемари.
– Мистер Инселл, вы готовы подтвердить, что застали мою жену в постели с мистером Сили Тревильяном?
– Да! – с дрожью отозвался Инселл.
Аннемари рассказывала Тревильяну, что Ричард пьет запоем, но Сили не мог представить, что ему придется столкнуться нос к носу с крепким мужчиной, одержимым слепой яростью. От лица хладнокровного мошенника, без зазрения совести обманывавшего сборщика акциза, отхлынула кровь. О Боже! Морган задумал убийство!
– Чертова сука! – рявкнул Ричард, впившись взглядом в перепуганную Аннемари. Содрогаясь от ужаса, она ужом сползла с постели и вжалась спиной в стену. – Сука! Блудница! Подумать только, я признал тебя женой, заботясь о твоей репутации! Мне и в голову не приходило, что ты потаскуха, но теперь я вижу, что ошибался! – Он перевел взгляд горящих глаз на подоконник, где лежали часы Тревильяна, кошелек и брелок. – А где же свеча, мадам? – ехидно продолжал он. – Шлюхи зазывают гостей, ставя свечу на подоконник, однако свечи я не вижу! – Он желчно усмехнулся, медленно подошел к кровати и приставил молоток ко лбу Тревильяна. – А что до тебя, Сили, ты заставил меня назвать эту потаскуху женой, и тебе это даром не пройдет! Я подам на тебя в суд, обвинив в прелюбодеянии!
Тревильян попытался отстраниться, но Ричард мертвой хваткой вцепился ему в плечо и легонько постучал молотком по взмокшему лбу.
– Не шевелись, Сили, а не то все это белое покрывало будет перепачкано твоей кровью.
– Что ты задумал? – в ужасе прошептала Аннемари. – Ричард, ты же пьян! Умоляю, не убивай его! – Ее голос зазвучал пронзительно и резко. – Брось молоток, Ричард! Брось молоток! Не убивай его! Опомнись!
Презрительно сплюнув сквозь зубы, Ричард повиновался, но бросил молоток так, чтобы при первых признаках угрозы дотянуться до него.
«Думай, Сили Тревильян, думай! Он в ярости, но по натуре он не убийца! Уговори его, успокой, возьми дело в свои руки!»
Не обращая внимания на визг Аннемари, Ричард вновь взялся за молоток и приподнял им подол рубахи Тревильяна, а затем обернулся к Аннемари с притворным недоумением на лице.
– Так вот на что ты польстилась! Должно быть, он пообещал щедро заплатить тебе?
Ричард не знал, к кому испытывает большую ненависть – к Аннемари за то, что она торгует собой, или к Сили Тревильяну, по милости которого ему пришлось назвать эту женщину женой. От выпитого рома и бешенства он так распалился, что мечтал лишь об одном: отомстить обоим – по крайней мере за этот злополучный вечер и за собственную ярость. Нет, он не станет доводить дело до суда, не поддастся корыстным побуждениям. Но что бы ни случилось, он заставит этих людей бояться его и последствий содеянного.
Стремительно выбросив вперед руку, он схватил Тревильяна за горло и поставил его на колени посреди постели.
– У меня есть свидетель тому, что вы соблазнили мою жену, сэр. Я намерен взыскать с вас… – он сделал паузу, обдумывая сумму, – …тысячу фунтов за оскорбление. Я уважаемый ремесленник, мне не пристало быть рогоносцем, особенно по вине такого мерзавца, как ты, Сили Тревильян. Ты же охотно согласился заплатить за услуги моей жены – и заплатишь, только гораздо больше.
«Думай, Сили, думай! Дело принимает именно тот оборот, на который ты и рассчитывал. Он становится словоохотливым, ненависть угасает. Ром постепенно усыпит его».
Облизнув губы, Тревильян выговорил тщательно продуманные слова:
– Морган, ты вправе обратиться за помощью к блюстителям закона, я признаю, что нанес тебе оскорбление. Но зачем же доводить дело до суда? А как же мои мать и брат? Подумай о своей жене, о ее репутации! Если случившееся будет предано огласке, она потеряет работу и станет отверженной!
Ярость и вправду угасала. Морган вдруг растерялся, нахмурился, смутился. А Тревильян продолжал:
– Я готов признать свою вину, но давай разрешим недоразумение прямо здесь и сейчас. Тысячу фунтов я тебе не дам, а на пятьсот можешь рассчитывать. Я выдам тебе вексель на пятьсот фунтов – и все будет кончено, Морган!
Обезоруженный этой безоговорочной капитуляцией, Ричард присел на край кровати, гадая, как же ему быть. Он рассчитывал, что Тревильян станет отбиваться, сопротивляться, вынуждая его перейти к крайним мерам, но с какой стати он вообразил себе такое? Потому, что вспомнил энергичного, хладнокровного мошенника, скрывавшегося под изысканной одеждой и жеманными манерами? Ричард внезапно понял, что Тревильян завладел инициативой. Этот человек выходил сухим из воды благодаря своей хитрости, а не силе.
– Это щедрое предложение, Ричард, – робко вмешался Уилли Инселл.
– Ладно, – вздохнул Ричард и поднялся. – Оденься, Сили, ты смешон.
Дрожащими руками натянув нефритово-зеленый сюртук с вышивкой оттенка павлиньего пера, Тревильян последовал за Ричардом в соседнюю комнату и сел за письменный стол Аннемари. Надеясь разжиться деньгами, Уилли Инселл присоединился к ним, не сознавая, что Ричард не имеет ни малейшего намерения получать деньги по векселю. Ричард жаждал только отомстить, заставить Тревильяна еще несколько дней обливаться холодным потом, предчувствуя потерю пятисот фунтов.
Вексель на пятьсот фунтов был выписан на имя Ричарда Моргана из Клифтона и подписан «Дж. Тревильян».
Изучив документ, Ричард с бесстрастным видом разорвал его.
– Пиши снова, Сили, – велел он. – И не забудь указать все свои имена.
Очутившись на площадке лестницы, Ричард поддался искушению, примерился и пнул Тревильяна ногой под тощие ягодицы. Перекувырнувшись в воздухе, Тревильян с грохотом скатился по ступеням и ударился о шаткую перегородку. К тому времени как Тревильян добрался до крохотной прихожей, он вопил во всю мощь легких. Куда исчез хладнокровный мошенник? Рванув дверь, он вывалился на улицу, всхлипывая и дрожа, став посмешищем для всех соседей.
Ричард задвинул засов и поднялся наверх, к Аннемари. Уилли Инселл счел за лучшее укрыться в своей каморке.
Аннемари сидела неподвижно, не сводя глаз с Ричарда, который прошелся по комнате и вновь подобрал молоток.
– Мне следовало бы убить тебя, – устало произнес он.
Она усмехнулась.
– Ты этого не сделаешь, Ричард. Даже ром не заставит тебя прикончить человека. – И улыбка вновь тронула ее губы. – А Сили на минуту поверил, что ты способен на такое. Как странно! Ведь он так уверен в себе, так изворотлив и хладнокровен…
Ричард обратил бы внимание на эти слова, сообразив, что Аннемари довольно давно знакома с Сили Тревильяном, но его отвлек стук в дверь.
– Ну что там еще? – выпалил он, спускаясь по лестнице.
– Мистер Тревильян просит вернуть ему часы, – ответил незнакомый мужской голос.
– Передай мистеру Тревильяну, что часы он получит лишь после того, как я добьюсь сатисфакции! – рявкнул Ричард, не прикасаясь к засову. – Он вернулся за часами, – объяснил он, входя в спальню.
Часы по-прежнему лежали на подоконнике, но кошелек и брелок исчезли.
– Отдай их, – вдруг потребовала Аннемари. – Выброси в окно.
– Черта с два! Он получит часы, только когда я сам этого захочу! – Схватив часы, Ричард принялся разглядывать их. – Какое самомнение! А часы стальные. С чего, скажите на милость, этому проходимцу вздумалось задирать нос? – И он сунул часы в карман пальто, где уже лежал вексель. – Я ухожу, – заключил Ричард, внезапно почувствовав себя совсем больным.
Аннемари мгновенно вскочила с постели, набросила платье и сунула босые ступни в туфли.
– Ричард, подожди! Уилли, Уилли, помоги мне! – крикнула она.
Растерянный Уилли встретил их на нижней площадке лестницы.
– Эй, Ричард, куда это ты собрался? Останься!
– Если ты боишься Сили, то напрасно, – отозвался Ричард, выходя на улицу и жадно вдыхая свежий воздух. – Его здесь нет. Комедия кончилась две минуты назад.
И он направился к Брэндон-Хиллу, сопровождаемый Аннемари и Уилли. Три смутных силуэта еле вырисовывались в кромешной темноте квартала, где и в помине не было фонарей.
– Ричард, а что же будет со мной? – наконец спросила Аннемари.
– А какое мне дело, мадам? Я оказал вам честь, назвав вас в присутствии Сили своей женой, но таких, как вы, не берут в жены. И потом, что с вами может случиться? У вас есть работа, а мы с Сили позаботились о том, чтобы ваша репутация не пострадала. – И он желчно усмехнулся. – Репутация… Мадам, вы попросту шлюха.
– А как же я? – вмешался Уилли, вспомнив о пятистах фунтах.
– Я буду жить в «Гербе бочара», как раньше. Скоро нас наверняка вызовут в акцизное управление, поэтому не будем терять связи друг с другом.
– Давай мы хоть немного проводим тебя, – предложил Уилли.
– Нет. Отведи мадам домой. Здесь небезопасно.
И они расстались. Один мужчина повел женщину на Клифтон-Грин-лейн, а второй зашагал по тропе через Брэндон-Хилл, забыв о ночных опасностях. Миссис Мэри Мередит долго стояла у двери своего дома, удивляясь бесстрашию путника, расставшегося с друзьями. Она заметила, что эти трое говорили приглушенно и понимали друг друга с полуслова, но кто они такие, так и не разглядела. Поздним сентябрьским вечером лица были неразличимы в темноте.
Ощущая опустошенность, Ричард брел домой, вспоминая о недавнем скандале. Какая мерзость! Как рассказать об этом отцу?
«По крайней мере я выпустил пар, – писал он в письме мистеру Джеймсу Тислтуэйту назавтра, в последний день сентября тысяча семьсот восемьдесят четвертого года. – Не знаю, что нашло на меня, Джимми, но человек, которого я обнаружил в себе, мне не по душе – он слишком озлоблен, мстителен и жесток. Мало того, у меня появилось два предмета, о которых я даже не помышлял, – часы в стальном корпусе и вексель на пятьсот фунтов. Первый я верну Сили Тревильяну, как только утихнет злоба, а второй ни за что не стану предъявлять в банке. Когда я буду возвращать часы хозяину, я разорву вексель у него на глазах. Проклятый ром!
Отец отправил посыльного в Клифтон за моими вещами, поскольку я не желаю видеть Аннемари и никогда не соглашусь встретиться с ней. Она лжива от корней волос до… об этом умолчу. Каким же болваном я был! И это в тридцать шесть лет! Отец утверждает, что с такими женщинами, как Аннемари, мне следовало бы познакомиться лет в двадцать. «Седина в бороду – бес в ребро», – грубовато заключил он. И все-таки отец – славный человек.
Этот скандал помог мне разобраться в себе, узнать то, о чем прежде я не имел ни малейшего понятия. Как мне стыдно за то, что я предал единственного сына, забыл о нем и его судьбе, едва встретив Аннемари! А вчера я словно очнулся и обнаружил, что ее чары перестали действовать. Возможно, мужчинам положено переживать подобные приключения. Но я нанес оскорбление Господу, и неизвестно, какое наказание он выберет для меня на сей раз.
Прошу, напиши мне, Джимми. Понимаю, тебе нелегко писать после того, что случилось с Уильямом Генри, но я был бы рад получить весточку от тебя. Твое молчание меня тревожит. И кроме того, мне не обойтись без твоих мудрых советов. Сказать по правде, они мне необходимы».
Но даже если мистер Джеймс Тислтуэйт и ответил Ричарду, его письмо не успело дойти до «Герба бочара» к восьмому октября, когда в таверну вошли двое мрачных мужчин в мешковатых бурых одеждах.
– Где Ричард Морган? – спросил один из них и огляделся.
– Это я, – отозвался Ричард, выходя из-за стойки.
Мужчина шагнул к Ричарду и положил руку ему на левое плечо.
– Ричард Морган, именем его величества короля Георга я беру вас под стражу по обвинению, выдвинутому мистером Джоном Тревильяном Сили Тревильяном. – Сделав паузу, он вопросительно произнес: – Уильям Инселл?
Вскрикнув, Уилли забился в угол.
Второй мужчина подошел к нему и взял за плечо.
– Уильям Инселл, именем его величества короля Георга я беру вас под стражу по обвинению, выдвинутому мистером Джоном Тревильяном Сили Тревильяном. Следуйте за нами и не вздумайте оказать сопротивление. За дверью ждут еще шесть человек.
Ошеломленный Ричард перевел взгляд на отца, открыл рот и вдруг понял, что ему нечего сказать.
Судебный пристав резко ткнул его кулаком между лопаток.
– Ни слова, Морган, ни слова. – Он обвел взглядом безмолвных посетителей таверны. – Если кому-нибудь из вас понадобятся Морган и Инселл, ищите их в Ньюгейтской тюрьме.
1
«Бристольское молоко» – название сухого хереса, ввозимого в Англию через г. Бристоль. – Здесь и далее примеч. пер.
2
В обращении в Англии находились фунты, шиллинги и пенсы, особой денежной единицей служила гинея. Гинею составлял 21 шиллинг, фунт – 20 шиллингов, а шиллинг – 12 пенсов. Выпускались также монеты достоинством в полпенни и фартинг – четверть пенни.
3
Прозвище принца Уэльского, отличавшегося тучностью.
4
Уильям Хоу – виконт, английский военный деятель (1729–1814).
5
Континентальный конгресс – собрание представителей 13 североамериканских колоний Англии (1774–1781).
6
Молль Флендерс, в одноименном романе Д. Дефо (1722), – женщина из низов общества, вынужденная встать на путь порока и воровства. Разбогатев к концу жизни, умирает в раскаянии.
7
«Сыны свободы» – организация американских колонистов (1765).
8
Игра слов: латинское выражение «Caesar adsum iam forte» созвучно английскому «Caesar had some jam for tea».