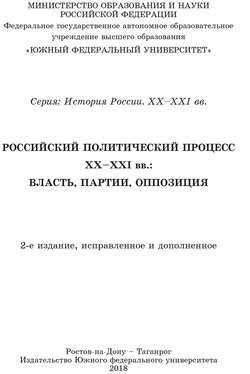Читать книгу Учебник Российский политический процесс ХХ-ХХI вв. Власть, партии, оппозиция - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 4
Глава 1
Системный политический кризис в начале ХХ в.: власть и оппозиция
1.2. Консервативные партии в России в начале ХХ в.: лидеры, идеология и практика
ОглавлениеПожалуй, ни одна из политических сил в России в начале ХХ в. не имела столь негативного образа в общественном и научном сознании за минувшее столетие как русские консерваторы. Чаще всего они именовались черносотенцами, националистами, реакционерами, погромщиками и ретроградами.
Историческая реабилитация русских консерваторов началась в 1990–2000-е гг. В этот период было опубликовано большое количество исследований, которые опровергали многие черные мифы о консерватизме, реконструировали его доктрину и политическую практику. Значительное внимание уделялось идейному наследию и деятельности правых партий, а также их лидеров в работах С. А. Степанова [41], В. В. Кожинова [42], Ю. И. Кирьянова [43], А. В. Репникова [44]. В современной науке все чаще используются нейтральные внеидеологические определения – правомонархические или правые партии, традиционалисты-монархисты, консерваторы [45].
Правые политические партии начала ХХ в. в значительной мере выступали наследниками русской консервативной интеллектуальной традиции, сформировавшейся в ХIХ в. Консерватизм являлся одной из классических политических идеологий наряду с либерализмом и социализмом. Он оформился в Европе после Французской революции, став политической и мировоззренческой антитезой прогрессистским учениям. В основе консерватизма лежала приверженность к традиционным ценностям и социально-политическим институтам, которые подверглись мощной волне критики в рамках общественного дискурса в эпоху Просвещения. Прежде всего, церкви, монарху, государству и семье. Консерватизм не отрицал возможности и необходимости перемен в обществе, однако ограничивал их рамками национальных и религиозных традиций.
Отличительной особенностью русского консерватизма на всём протяжении ХIХ – начала ХХ вв. был его реактивный характер. В России консерватизм как политическая идеология начал оформляться в первой четверти ХIХ в., будучи попыткой, с одной стороны, воспрепятствовать либерализации общественно-политической системы страны со стороны М. М. Сперанского; с другой стороны, обосновать самобытный путь развития России на фоне повальной галломании русской элиты и наполеоновского нашествия.
У истоков русского консерватизма стояли такие известные представители высшей административно-политической, военной и научной элиты, как адмирал А. С. Шишков, генерал-губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин, известный историк М. Н. Карамзин, военный министр А. А. Аракчеев и др. [46]. Значительный вклад в историю консервативной общественно-политической мысли внесло первое поколение славянофилов – А. С. Хомяков, братья И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, Ю. Ф. Самарин. Славянофилы обосновали самобытный путь развития России на основе православия и самодержавия; критиковали окружающую социально-политическую реальность, в том числе крепостное право, абсолютистскую форму правления, которая вытеснила исконное русское самодержавие после реформ Петра I, выступали за реанимацию народного представительства в виде Земских соборов. Многое из идейного наследия славянофилов было заимствовано и развито последующими поколениями русских консерваторов.
Реформы Александра II дали мощный толчок развитию консервативной мысли, которая в целом критически восприняла преобразования 1860–1870-х гг. и приветствовала их пересмотр в период правления Александра III. Развитие революционного движения в лице народников-социалистов, набиравших популярность марксистов, обусловливала попытки сформулировать идеологический ответ со стороны консервативной части общества. В постреформенный период оформилась новая плеяда ярких представителей консерватизма, таких как М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, К. Н. Леонтьев, Д. А. Хомяков, Л. А. Тихомиров и др. Однако они не представляли собой единого идеологического течения: каждый из них по-разному реагировал на происходившие в стране глобальные изменения.
На патерналистских позициях, признававших ведущую роль государственного аппарата и категорически отрицавших необходимость демократизации общественной и политической жизни страны, стояли представители так называемого «го-сударственнического» или «бюрократического консерватизма» – обер-прокурор Священного Синода К. П. Победоносцев (1827–1907 гг.) и главный редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков (1818–1878 гг.) [47]. Консерваторы-государственники были принципиальными противниками народного представительства, в том числе Земского собора, полагая, что последний трансформируется в парламент западноевропейского типа. Вместе с тем М.Н. Катков, будучи представителем журналистского сообщества, признавал необходимость активной борьбы за общественное мнение, роль и влияние которого в обществе неуклонно возрастала.
«Государственникам» оппонировали представители славянофильского течения русского консерватизма. Знаменитая формула «Сила власти – царю, сила мнения – народу» была краеугольным камнем их идеологии. С момента своего возникновения на рубеже 30–40-х гг. XIX столетия славянофилы отстаивали идеи эмансипации общественной жизни в России, являлись поборниками сельской общины, ратовали за возрождение совещательных Земских соборов, которые считались русской исторической формой общения между царём и народом, противоположной европейскому парламентаризму. Славянофильское учение так и не доразвилось в целостную социально-политическую доктрину. Тем не менее славянофильская идея широкого развития местного самоуправления на началах общинности и их традиционный постулат о возрождении Земских соборов оказали глубокое влияние на становление русской консервативной доктрины в начале ХХ века. Кроме того, в работах идеологов «позднего славянофильства» – С. Ф. Шарапова и Д. А. Хомякова – был дан критический анализ развитию капитализма в России, оказавший значительное воздействие на идеологию и программы правых партий.
Идеи предыдущих поколений русского консерватизма были синтезированы выдающимся представителем русской монархической мысли, разработчиком теоретической доктрины русского консерватизма – Львом Александровичем Тихомировым (1852–1923 гг.). Человек легендарной судьбы, бывший член Исполкома «Народной воли», заочно приговоренный к смертной казни после убийства Александра II, затем революционный эмигрант и, наконец, ведущий публицист и теоретик правого лагеря, Л. А. Тихомиров привнес много нового в методологию консервативной мысли и тактику политической борьбы на рубеже XIX–XX вв. [48] Во многом под влиянием идей родоначальника сословно-корпоративного консерватизма К. Н. Леонтьева (1831–1891 гг.) он разработал доктрину монархического корпоративного государства. Как и его предшественники-консерваторы, Тихомиров, ссылаясь на опыт западных стран и мнения авторитетных зарубежных ученых, считал либеральный парламентаризм фикцией народного представительства. Реальным носителем политической власти в демократических странах, как следует из его работ, являлся не народ, а класс так называемых политиканов – профессиональных политиков. Классическое либеральное («общегражданское») государство, устраняясь от социальной сферы, по сути, легализовало классовое угнетение неимущих. Поэтому либеральное государство, делал вывод Л. А. Тихомиров, являлось государством классовым, а именно, буржуазным. Тогда как, продолжал автор, государство обязано выступать в качестве силы надклассовой, играя роль арбитра социальных интересов и отождествляя свои интересы не с интересами отдельного класса, а с интересами всей нации. Народ в тихомировской концепции представлялся в виде сложного конгломерата социальных групп – сословий, корпораций и др., – каждое из которых имело свои определенные интересы, зачастую противоположные интересам прочих сословий или корпораций (социальная группа, определяемая принадлежностью к той или иной сфере профессиональной деятельности). В связи с этим особая роль отводилась монархической верховной власти, не зависевшей от отдельных классов или сословий, а потому способной проводить независимую от них внутреннюю политику. Теоретик разработал систему местного самоуправления и народного представительства, основные положения которой были изложены в его фундаментальном труде «Монархическая государственность» (1905 г.) и в ряде последующих работ. Тихомиров предложил создать орган народного представительства, совещательный по характеру и корпоративный по принципу формирования. По его мнению, интересы того или иного социального слоя (корпорации) должны представлять исключительно представители данной корпорации, а не политиканствующая интеллигенция, как в парламенте.
Таким образом, русский консерватизм в конце XIX – начале XX вв. представлял собой самостоятельную социально-политическую доктрину, разработанную несколькими поколениями мыслителей. Новый этап в развитии русского консерватизма пришёлся на революцию 1905–1907 гг. Революционная стихия, всколыхнувшая общественное сознание и обусловившая начало кардинальной трансформации общественно-политической системы после опубликования Манифеста 17 октября, вызвали широкий резонанс в консервативной среде. Борьба с революционной смутой и сохранение самодержавной формы правления стали ключевыми задачами сознательных монархистов. Апелляция к ключевым архетипам традиционного русского самосознания позволило правым создать массовое, всесословное политическое движение.
В отличие от предыдущего опыта элитарных консервативных организаций («Священная дружина», «Русское собрание»), в 1905 г. по всей стране было создано большое количество монархических организаций: Союз законности и порядка (Орел), Партия народного порядка (Курск), Царско-народное общество (Казань), Самодержавно-монархическая партия (Иваново-Вознесенск), Белое знамя (Нижний Новгород), Двуглавый орел (Киев), Союз русских православных людей (Шуя) и др. Весной 1905 г. на базе редакций основанных М. Н. Катковым ведущих монархических изданий – газеты «Московские ведомости» (редактором которой в впоследствии станет Л. А. Тихомиров) и журнала «Русский вестник» – была образована Русская монархическая партия (впоследствии – Русский монархический союз), руководителем которой стал редактор этой газеты В. А. Грингмут. В том же году в Москве возник Союз русских людей во главе с братьями Павлом и Петром Шереметевыми. В состав Союза вошли видные представители консервативной интеллектуальной элиты, в том числе Д. А. Хомяков.
В ноябре 1905 г. в Санкт-Петербурге была создана самая многочисленная и влиятельная правая партия – Союз русского народа (СРН). Он быстро расширил сферу своего влияния, так как изначально был ориентирован на широкие массы населения. В отличие от вышеупомянутых политических организаций он быстро перерос региональные рамки и стал общероссийской партией. В течение полутора лет была создана сеть провинциальных отделов почти по всей России. К Союзу присоединился ряд ранее самостоятельных черносотенных организаций: Иваново-Вознесенская самодержавно-монархическая партия, Курская партия народного порядка, Орловский союз законности и порядка, Петербургское общество активной борьбы с революцией и др. Программа СРН на одном из монархических съездов была признана наиболее удачной и рекомендована для распространения среди других правых партий [49].
Руководящим органом СРН являлся Главный совет, председателем которого был врач А. И. Дубровин; его товарищем (заместителем) – бессарабский помещик В. М. Пуришкевич. Следующим звеном были губернские отделы со своими советами, далее городские и уездные и сельские подотделы. Союз русского народа объединял под своим контролем практически все правомонархические организации страны. Из 2229 отделов монархических партий и организаций 2124 входили в состав Союза русского народа. Многие провинциальные монархические организации были включены в Союз русского народа на правах отделов. Однако, как отмечает С. А. Степанов, «самым уязвимым местом была их слабая организованность» [50], поскольку так и не был создан единый координирующий центр правых. Это мнение находит подтверждение в мемуарах ряда лидеров Союза (Н. Е. Маркова и др.), в которых отмечалось, что потенциально СРН «с его 3–4 тысячами местных советов представлял великолепное ядро для образования… государственной организации всенародного монархизма». Однако правые подчеркивали нежелание властей опереться на эту силу: «Если бы тогдашнее правительство… поддержало бы и осуществило бы правильную спасительную мысль о необходимости опереть верховную власть на организованную в мощные монархические Союзы лучшую часть народа, – история России была бы совсем иная» [51].
Наивысшего подъема СРН достиг к концу 1907 – началу 1908 гг. По данным МВД, в 2229 местных организациях числилось более 400 тыс. человек. Учитывая значительное количество сочувствующих, реальная численность сторонников СРН и других правомонархических организаций значительно превышала официальные данные. Таким образом, консерваторы по численности опередили все политические партии России вместе взятые [52].
Причинами высокой популярности СРН и других консервативных организаций в период революции 1905–1907 гг. стали патриархальный менталитет значительной части общества, сохраняющийся высокий уровень доверия к верховной власти в лице царя, неприятие широкими народными массами изменений привычного уклада жизни и размывание традиционной системы ценностей в ходе модернизационных процессов.
Наибольшую популярность СРН снискал в юго-западных губерниях Российской империи (так называемая черта оседлости, где особенно остро стоял национальный вопрос), Санкт-Петербурге, Москве, Центрально-черноземном районе Европейской России, Поволжье.
Особенностью массового консервативного движения был его общенародный характер. В программе СРН отмечалось, что их организации, в отличие от других партий, выражают интересы всей нации. В рядах Союза были представлены все слои русского общества: аристократия, интеллигенция, духовенство, мещане, рабочие, крестьяне.
Несмотря на критику интеллигенции за ее приверженность к революционным и либеральным взглядам, значительная часть руководства СРН состояла из представителей творческих профессий – ученых, писателей, врачей, адвокатов. Среди них выделялись: академик А. И. Соболевский, филолог и один из зачинателей исторического изучения русского языка; хранитель Горного музея Н. П. Покровский; художник А. А. Май-ков (сын известного поэта); крупные публицисты и издатели – В. А. Грингмут, С. А. Нилус, А. С. Суворин; адвокаты – А. И. Тришатный и П. Ф. Булацель. Активно участвовали в консервативном движении авторитетные православные архиереи и священники: митрополит Серафим (Чичагов), митрополит Антоний (Храповицкий), архиепископ Андроник (Никольский), протоиерей Иоанн Восторгов, настоятель Андреевского собора в Кронштадте протоиерей Иоанн Кронштадтский.
Вопреки расхожему мнению в консервативных организациях был широко представлен рабочий класс. Пытаясь воспрепятствовать революционной пропаганде среди рабочих, правые вели в их среде активную просветительскую работу. В Петербурге Путиловский завод во время революции 1905 г. являлся одним из центров правомонархического движения. В Центральном промышленном районе значительную часть активистов черносотенных организаций составляли рабочие. В Киеве Союз русских рабочих, согласно донесению киевского вице-губернатора в Департамент полиции от 7 декабря 1907 г., объединял в своих рядах 6,5 тыс. человек [53].
Активную агитацию консерваторы развернули среди крестьян, рассчитывая на традиционную преданность престолу российской деревни. Крестьяне составляли подавляющее большинство членов и сторонников правых партий. Зачастую в Союз вступали целыми селами и деревнями. Особенно успешной эта агитация была на западных окраинах империи, где земельный вопрос имел национальную подоплёку.
Стержневой частью идеологии правых партий, в том числе СРН, был тезис о необходимости сохранения самодержавной власти, являвшейся гарантом сохранения целостности и могущества страны. Русская монархическая партия ратовали за сохранение незыблемости самодержавия, против попыток превратить Россию в конституционную монархию или республику. При этом в рядах правых не было единства в вопросе определения «идеального» самодержавия. Некоторые из них (Русская монархическая партия под руководством В. А. Грингмута, сторонники А. И. Дубровина в Союзе русского народа) выступали за возврат к дореформенным порядкам (т. е. до Манифеста 17 октября 1905 г.), тогда как другая влиятельная группа монархистов (Н. Е. Марков, В. М. Пуришкевич и др.) считала необходимым принять новые «узаконения», исходящие от монарха. Наконец, существовала третья группа монархистов, которая выступала за «народное участие» в управлении в виде Земских соборов, подвергнув критике Государственную думу. К этой группе, помимо Л. А. Тихомирова и Д. А. Хомякова, следует отнести также главу Астраханской народно-монархической партии Н. Н. Тихановича-Савицкого. По мнению последнего, «Самодержавие сошло со своего истинного пути! Охваченное со всех сторон цепкими когтями бюрократизма, оно разобщилось с народом, замкнулось и само себя упразднило, превратившись в абсолютизм». Исходя из этой установки, Тиханович-Савицкий подчеркивал необходимость поиска такой оптимальной формы государства, которая сочетала бы полноту власти монарха с институтом «верных советников от земли».
В своем стремлении защитить самодержавие от посягательств либеральной оппозиции правые не останавливались перед критикой постановлений правительства. Так, Л. А. Тихомиров посвятил целую серию статей в «Московских ведомостях» критике новых Основных законов Российской империи от 23 апреля 1906 г. [54]. Тихомиров требовал отмены или редактирования ряда законов нового свода, ограничивавших права монарха и ставивших его законодательные прерогативы в зависимость от Государственной Думы.
Выступая против идей федерализма, не соответствующим историческим и политическим особенностям России, правые, в то же время, постоянно подчеркивали необходимость развития системы местного самоуправления. В программных документах правых партий и правой публицистике предлагались проекты реформирования системы местного самоуправления, но с тем, чтобы «общественная самодеятельность» не противоречила «общей Государственной политике» [55]. Предполагалось реформировать эту систему в духе тихомировских предложений: включить органы местного самоуправлению в административную систему Российской империи и формировать их не по «общегражданскому», а по сословно-корпоративному принципу. Важно подчеркнуть, что консерваторы выступали либо за отмену имущественного ценза («которым от выборов отстраняются огромные массы русского народа и повсюду даются преимущества нерусским элементам, вообще более богатым») [56], либо за его снижение. Взамен имущественного и образовательного ограничений правые настаивали на введении национального ценза [57].
Важное место в партийных программах и идеологии правых занимали экономическая и социальная проблематика. В финансово-экономической сфере монархисты выступали с резкой критикой финансовой реформы С. Ю. Витте, которая привела, по мнению их лидеров, к установлению в России режима финансово-экономической зависимости от Запада [58]. Их экономическую программу можно охарактеризовать как экономическую автаркию. Россия, считали они, должна опираться на собственные силы, не должна являться сырьевым придатком развитого капиталистического Запада. Иностранные инвестиции они считали формой закабаления российской промышленности, усиливающей, вместе с тем, и политическую зависимость страны.
Правые выступали за активную социальную политику государства, направленную на профилактику социальных конфликтов. Именно правые (не только в России, но и в Европе) первыми, до социалистов, подняли рабочий вопрос. Государство в их программах должно было выполнять патерналистские функции в отношении подданных и в том числе рабочих. Автор проекта «зубатовских» организаций Л. А. Тихомиров предлагал перенести опыт общинной самоорганизации русского крестьянства в условия урбанизированной среды с целью социальной адаптации русского пролетариата. В этом случае, был убежден теоретик, рабочие будут видеть, что государство выполняет возложенную на него функцию защиты от классовой эксплуатации [59]. В чем-то сходные рецепты предлагал Н. Н. Тиханович-Савицкий, который утверждал: «Народу нужен Царь самодержавный, богачам нужны– конституция и парламент… Государь, поддерживаемый трудящимся народом, всегда станет защищать его интересы от засилия капиталистов, которые стремятся захватить его власть и даже лишить его престола». В своих программных документах правые требовали сокращения рабочего дня на производстве, улучшения условий труда, государственного страхования и т. д. [60].
Однако наиболее болезненным для правых был аграрный вопрос. Здесь столкнулись экономически интересы дворянства, занимавшего руководящие посты в правых партиях, и крестьянства, из которых состояла их рядовая масса. Исходя из принципов незыблемости частной собственности и отрицательно относясь к требованиям отчуждения помещичьей земли, Союз русского народа выдвинул требования продажи по низким ценам казенных земель, организации государственной переселенческой политики, развития мелкого кредита, повышения земледельческой культуры и т. д.
По-разному правые оценивали столыпинскую аграрную реформу, что стало одной из причин раскола Союза русского народа. А. И. Дубровин и его сторонники негативно относились к идее разрушения крестьянской общины, которая, по их мнению, препятствовала обезземеливанию сельского населения, его пролетаризации и росту революционных настроений в деревне. Вместе с тем у сельской общины, подчеркивали идеологи правых, помимо экономической имелась важнейшая социальная функция. Она являлась средой воспроизводства патриархально-монархического сознания русского крестьянства. Консерваторы полагали, что проекты чиновников-«прогрессистов», направленные на модернизацию русской деревни, вели к глубинным социокультурным сдвигам, что в итоге могло привести к крушению всей русской государственности.
Наряду с поборниками общинного землевладения в рядах правых присутствовали поборники столыпинской аграрной политики, в частности, бессарабский помещик В. М. Пуришкевич, а также курский помещик Н. Е. Марков. Эта часть монархистов поддерживала курс на капитализацию сельского хозяйства, считая общину тормозом экономического развития России. Кроме того, они опасались, что община представляет собой сплочённую социальную организацию страдающих от малоземелья крестьян, разрушение которой сможет отвести угрозу от помещичьей собственности.
Национальный вопрос занимал в идеологии и программе СРН важнейшее место. Ключевым его элементом вопреки распространённому мнению был не еврейский, а окраинный вопрос, суть которого заключалась выработке эффективных механизмов интеграции национальных окраин в общегосударственное культурно-правовое поле. Консерваторы выступали сторонниками унитарного территориального устройства Российской империи, унификации всех сфер жизни на окраинах, в том числе в Финляндии, Польше, на Кавказе [61].
Программные документы правых партий обосновывали идею «единства и нераздельности Российской империи». Это могло быть достигнуто, по мнению правых, только тогда, когда основа государства – русский народ – будет наделен определенными правами и привилегиями, которые должны были обеспечиваться твердой и планомерной политикой государства. При этом в число русских включались малороссы (украинцы) и белорусы. Ряд неотъемлемых и обязательных мер, связанных с закреплением положения русского народа, как «государствообразующего», необходимо было осуществить на всей территории империи. Одной из таких неотъемлемых мер признавалась необходимость обязательного повсеместного осуществление того, «чтобы русский язык был языком власти, администрации, общественных учреждений, войска, суда и государственной школы» [62].
В то же время, ряд лидеров правых партий, например В. М. Пуришкевич, выступали за установление тесных связей с российскими мусульманами как наиболее консервативной и верноподданной части населения Российской империи. Местные отделения СРН в Поволжье тесно сотрудничали с татарскими общественными организациями и мусульманским духовенством. Часть местных татар были членами региональных консервативных организаций. В Казанской губернии наряду с черносотенным «Царско-Народным Русским обществом» существовало «Царско-Народное Мусульманское общество»– татарская мусульманская черносотенная организация [63].
После первой русской революции популярность правых монархических организаций, в том числе СРН, пошла на спад. Численность консервативных партий неуклонно сокращалась. Многие местные отделения существовали лишь на бумаге. Это объяснялось затуханием революционного процесса в стране после 1907 г.: многие сторонники правых партий посчитали свою миссию по борьбе с революцией выполненной, а дальнейшее пребывание в их составе неоправданным. Сказывалось разочарование значительной части крестьян и рабочих отсутствием конкретных действий по решению насущного аграрного и рабочего вопросов, а также усталость от социальной демагогии и популизма лидеров правых партий.
Углубляющийся кризис массового консервативного движения и выбор дальнейшей стратегии развития в условиях развивающегося парламентаризма обусловил раскол СРН. В конце 1908 г. из рядов Союза вышел В. М. Пуришкевич и ряд его сторонников, которые основали Русский народный союз имени Михаила Архангела (СМА). В 1912 г. в результате конфликта А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова Союз русского народа распался на Всероссийский дубровинский Союз русского народа (ВДСРН) и обновленческий Союз русского народа. Одной из причин раскола в консервативном лагере стало отношение к Государственной думе, которая, по мнению консерваторов, умаляла власть самодержавного монарха и представляла собой посредника, отделявшего государя от народа. Однако, если дубровинцы так и остались бескомпромиссными противниками российского парламента, то сторонники В. М. Пуришкевича и Н. Е. Маркова допускали возможность участия правых в работе Государственной думы, хотя и выступали за изменение формулы выборов с целью отсечения леворадикальных элементов и представителей от национальных окраин. В отличие от ВДСРН, практиковавшего непарламентарные методы политической борьбы, вплоть до применения насилия, «обновленцы» использовали легальные способы политической деятельности: от думской трибуны до газет и листовок, лояльно относились к правительству Столыпина.
Первоначально консерваторы выступали за разгон Государственной думы. По итогам выборов в I Думу представители правых партий не получили ни одного мандата. Отказавшись от союза с октябристами, они потерпели сокрушительное поражение, получив всего 9,2 % голосов выборщиков. Сами они объясняли это тем, что почти не участвовали в предвыборной борьбе.
На выборах во II Государственную думу правые изменили тактику, вступив в негласный блок с октябристами и выставив ряд общих кандидатов. За список правых проголосовали 25 % выборщиков от всех курий, что свидетельствовало о поляризации политических сил в стране. Черносотенцам не удалось создать самостоятельную фракцию, хотя депутатами II Государственной думы стали 16 крайне правых депутатов, в то числе В. М. Пуришкевич и П. А. Крушеван. Они понимали, что их силы слишком незначительны, чтобы противостоять либерально-радикальному крылу и по-прежнему призывали правительство распустить учреждение, состоявшее «из революционеров».
Новое «Положение о выборах» после роспуска II Государственной думы 3 июня 1907 г. позволило крайне правым получить около 45 мест. Ряды крайне правых в Думе пополнились ещё одним ярким лидером – Николаем Евгеньевичем Марковым. Внешне он очень напоминал Петра I, за что его прозвали Медным всадником.
Правые депутаты проявляли большую активность в разработке новых законопроектов. За пять лет (1907–1912 гг.) с участием правых были разработаны и утверждены 2197 законопроектов, ставших законами. С думской трибуны консерваторы поднимали вопрос о состоянии русской армии и флота, их боеспособности и вооружении. В думской деятельности правых большое место отводилось вопросам просвещения народа. Предложения, разработанные на съездах и частных совещаниях правых партий и организаций в 1908–1909 гг., легли в основу правительственного курса в области образования [64].
Помимо законотворческой деятельности думская деятельность правых депутатов отличалась эпатажным поведением их лидеров, которые провоцировали своих политических оппонентов, срывали заседания, устраивали скандальные акции. Я. В. Глинка, прослуживший одиннадцать лет в Думе в качестве начальника канцелярии, говорил о Пуришкевиче: «Он не задумается с кафедры бросить стакан с водой в голову Милюкова. Необузданный в словах, за что нередко бывал исключаем из заседаний, он не подчинялся председателю и требовал вывода себя силой. Когда охрана Таврического дворца являлась, он садился на плечи охранников, скрестивши руки, и в этом кортеже выезжал из зала заседаний» [65].
В IV Думе черносотенцы увеличили своё представительство до 140 депутатов, превратившись в самую крупную фракцию. Однако в целом правомонархическое движение накануне Первой мировой войны переживало тяжелый кризис. Череда расколов не могла не сказаться на состоянии дел на правом фланге. У многих лидеров правых наступило разочарование в той политической силе, которую они защищали. Некоторые авторитетные деятели правых (тот же Л. А. Тихомиров) отошли от активной политики. Сходная ситуация наблюдалась и на местах. Большинство местных отделов различных правых партий либо перестало существовать, либо вело пассивную деятельность. Падает влияние правых в рабочей и крестьянской среди и даже в дворянских кругах. К концу 1915 г. правые перестали быть серьезной политической силой, их лидеры на местах либо были заняты вопросами организации помощи фронту, либо находились в распрях друг с другом.
Начало войны и общий патриотический подъем в стране на время активизировали работу правых, хотя большинство из них придерживалось германофильских позиций. Из области культурно-просветительной работы в защиту самодержавия они перешли к практической помощи в тылу и на фронте. Часть активистов записалась добровольцами на фронт. Другие занялись работой по организации помощи фронту, начали сбор пожертвований и т. д. Так, В. М. Пуришкевич организовал санитарный поезд и был его начальником.
Военные неудачи весны – лета 1915 г. привели к резкому изменению политической обстановки. Создание Прогрессивного блока, в который вошла часть националистов и умеренно-правых, было воспринято монархистами как сплочение врагов самодержавия. В противовес Прогрессивному блоку была предпринята неудачная попытка создать «Консервативный» или «Черный» блок. В то же время правые активно выступали против деятельности Всероссийских земских и городских союзов, военно-промышленных комитетов, которые, по их мнению, занимались не столько оказанием помощи фронту, сколько подготовкой дворцового переворота [66].
Однако начинания правых в Государственной думе в борьбе с политическими противниками потерпели неудачу. Более того, один из лидеров крайне правых, В. М. Пуришкевич, включился в развязанную Прогрессивным блоком кампанию по дискредитации царской династии, произнеся в Думе нашумевшую речь о «темных силах» вокруг трона. Попытки Маркова-второго выступить на думской трибуне в защиту династии были остановлены свистом «прогрессивных» думцев.
После начала беспорядков в столице правые не смогли организовать действенной помощи правительству. Как оказалось, те черные миллионы, о которых говорил Дубровин, существовали только в воображении консерваторов. Одними из первых актов Временного правительства стало запрещение правых партий, арест их лидеров и закрытие газет.
Таким образом, правые партии, ставшие основой массового консервативного движения, так и не смогли стать самодостаточным политическим актором. По иронии судьбы, возникнув на волне революционной стихии, они прекратили своё существование на новом этапе революционного подъёма в феврале–марте 1917 г, замкнув круг своего политического существования. Историческое поражение правого движения в России было обусловлено рядом причин.
Во-первых, правые партии в России начала XX в. являлись составной частью истории русского консерватизма, который развивался преимущественно как направление теоретической мысли. При всей идейной глубине доктрины русского консерватизма, сформированной несколькими поколениями интеллектуалов в ХIХ – начале ХХ вв., правое движение отличалось крайней неорганизованностью, фрагментарностью и стихийностью. Оседлав волну антиреволюционных настроений в ходе первой русской революции 1905–1907 гг., лидеры правых партий не сумели предложить обществу конструктивную повестку дня после её завершения, ограничиваясь огульной критикой происходивших в обществе политических изменений (учреждение Государственной думы, введение политических прав и свобод и т. д.).
Во-вторых, консервативные партии значительно уступали своим социалистическим и либеральным оппонентам в плане внутренней организации и структурированности. Правые партии образовались позже левых и центристских партий, которые имели опыт многолетней подпольной работы и в ходе легализации осенью 1905 г. представляли собой сложившиеся устойчивые политические структуры. Кроме того, консервативные партии в отличие от своих политических визави изначально не ставили главной целью своей деятельности борьбу за власть, выступая за сохранение существующих порядков и ставя себя в зависимость от воли властей, которые зачастую использовала консерваторов в своих личных интересах.
В-третьих, правые партии, являясь наследниками консервативной политической традиции и социальной структуры патриархального общества, априори не могли стать полноценным участниками парламентской системы – западного феномена нового времени. Они же оказались не способны решать задачи нормального функционирования в рамках политической системы, которая начала формироваться в России после Манифеста 17 октября 1905 г. Союз русского народа и подобные ему организации (так называемое «черносотенство») представляли собой стихийные, аморфные, слабо организованные околополитические движения, которые сами себя никогда не идентифицировали в качестве политических партий, более того призывали всячески бороться с этим продуктом западной политической системы. В беседах о «Союзе русского народа» утверждалось, что «…мы теперь должны твердо сказать и запомнить, что «Союз Русского Народа» не партия и не преследует никаких партийных целей и намерений. «Союз» есть сам Великий Русский народ, под впечатлением злосчастных освободительных событий последних трех лет приходящий в себя и постепенно собирающийся с духом, чтобы отстоять своё достояние от всех возможных бед. Это есть сам народ, отгребающийся или освобождающийся от натиска всяких партий, от всего партийного и наносного, а не народного» [67]. Монархисты были ограничены в применении арсенала средств политической борьбы, в отличие от своих политических противников, – не только революционеров-террористов, но даже либералов, которые использовали не менее опасное, чем террор, оружие – безответственные, по мнению правых, выступления с думской трибуны и страниц печати. Попав в иную, чуждую ему социокультурную среду мировоззренческой и политической конкуренции, консерватизм фактически был обречен на поражение.
В-четвертых, как ни парадоксально, но наиболее ощутимые удары по правым партиям были инспирированы правительственными кругами, которые опасались консолидации консервативных сил, всё более активно критиковавших неэффективную, по их мнению, политику властей. После подавления революции 1905–1907 гг. потребность в массовом консервативном движении у правительства отпала. Высокий уровень социально-политической активности лидеров правых партий и их чрезмерная идейность раздражали представителей высшей политической элиты, преследовавших собственные корпоративные интересы на волне социально-политических изменений в стране. Кроме того, многие идеи и инициативы русских консерваторов были несвоевременными и утопичными.
В-пятых, социальная база русского консерватизма постоянно размывалась: дворянство, купечество, духовенство, крестьянство в начале ХХ в. переживали процесс социальных мутаций, границы между сословиями размывались. Многие представители этих традиционно монархических слоев населения уже не придерживалась консервативных убеждений. Так, среди дворянства и купечества были сильны либеральные взгляды, позволявшие конвертировать финансово-экономические ресурсы в политическую власть. Значительная часть крестьянства приоритетной задачей считало решение социально-экономических задач, прежде всего проблемы малоземелья. Программы правых партий и практическая деятельность их лидеров не удовлетворяли завышенных ожиданий крестьянства. Деструктивным фактором выступали антагонистические противоречия между лидерами консервативных партий, среди которых были крупные помещики, отстаивавшие незыблемость частной собственности на землю, и рядовым составом черносотенных организаций, мечтавшем о «чёрном переделе». Просветительская работа среди промышленных рабочих оказывалась всё менее эффективной перед натиском революционной пропаганды. Тем самым монархисты на социологическом уровне проиграли борьбу «прогрессистам» – либералам и социалистам, разделивших симпатии не только русской интеллигенции, но и представителей других слоёв населения, в том числе крестьян и рабочих.
Примечание
1. См. напр.: Власть и общество в представлении левых общественно-политических движений. – М.: ИВИ РАН, 2005.
2. См. подробнее: Кононенко А. А. Современная зарубежная историография партии социалистов-революционеров // Вопросы истории. – 2005. – № 2.
3. Коновалова О. В. В.М. Чернов о путях развития России. – М.: РОССПЭН, 2009.
4. Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. – М., 1954–1965. – Т. XII. – С. 309, 310, 433; – Т. XIV. – С. 183; – Т. XIII. – С. 179.
5. Литература партии «Народная Воля». – М., 1930. – С. 127. 6. Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. – М., 1956. – Т. 1. – С. 66.
7. Брешко-Брешковская Е. Скрытые корни русской революции. Отречение великой революционерки. 1873–1920. – М.: Центрполиграф, 2006.
8. Чернов В. Перед бурей. Воспоминания. Мемуары – Минск: Хорвест, 2004. – С. 122.
9. Чернов В. Записки социалиста-революционера. Кн. 1. Берлин-Петербург-Москва, 1922. – С. 25, 26.
10. Маслов П. П. Народнические партии // Общественное движение в России в начале ХХ века. – СПб., 1913. – Т. 3. – Кн. 5. – С. 91.
11. Чернов В. Записки социалиста-революционера. – С. 274.
12. Чернов В. М. [Ю. Гарденин]. Маркс и Энгельс о крестьянстве: историко-критический очерк. – М., 1906. – С. 12, 16.
13. Чернов В. М. Философские и социологические этюды. – М., 1908. – С. 214.
14. Революционная Россия. –1904. –№46.
15. Чернов В. М. Записки социалиста-революционера…– С. 163–164.
16. Программа партии социалистов-революционеров // Программы политических партий и организаций России конца XIX-ХХ века. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1992. – С. 66.
17. Там же. – С. 61–62.
18. Проект программы партии социалистов-революционеров, разработанный редакцией «Революционной России» // Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. – М.: РОССПЭН, 1996. – Т. 1. – С. 119–123.
19. Ненароков А. П. Правый меньшевизм: прозрения российской социал-демократии: монография. – М., 2012.
20. Общественное движение в России в начале ХХ века / под ред. Ю. О. Мартова, П. П. Маслова, А. Н. Потресова. – СПб, 1910. – Т. 2. – Кн. 4. – С. 283, 307.
21. Левые в Европе ХХ века: люди и идеи:сб. статей. – М.: ИВИ РАН, 2001; Корчагина М. Б. Левая идея в ХХ веке // Власть и общество в представлении левых общественно-политических движений. – М.: ИВИ РАН, 2005.
22. Плеханов Г. В. Наши разногласия // Избранные философские произведения. – М.,1956. – T. I. – C. 288–289.
23. Тютюкин С. В., Плеханов Г. В. Судьба русского марксиста. – М.: РОССПЭН, 1997; Тютюкин С. В., Шелохаев В. В. Марксисты и русская революция. – М.: РОССПЭН, 1995.
24. Плеханов Г. Социализм и политическая борьба // Избранные философские произведения. – М., 1956. – Т. 1. – С. 110.
25. Milikov P. Russia and its crisis. – London, 1969. – P. 246.
26. Струве П. Из размышлений о русской революции // Русская мысль. – 1907. – № 1.
27. Плеханов Г. Год на Родине. – Париж. 1921. – Т. 1. – С. 218.
28. Плеханов Г. В. Год на Родине. – 1921. – Т. 1. – С. 188–189.
29. Плеханов Г. В. Год на Родине. – 1921. – Т. 3. – С. 208.
30. Струве П. Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России. – Вып. 2. – СПб., 1894. – С. 132.
31. Улам А. Большевики. Причины и последствия переворота 1917 года. – М.: Центрполиграф, 2004; Медушевский А. Н. Феномен большевизма: логика революционного экстремизма с позиций когнитивной истории // Общественные науки и современность. – 2013. – № 5, 6.
32. Валентинов В. Малознакомый Ленин. – М.: Мансарда Смарт, 1991. – С. 150.
33. Бердяев П. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – С. 97.
34. Под знаменем марксизма. – 1922. – № 5. – С. 129.
35. Троцкий Л. Д. О пятидесятилетнем (Национальное в Ленине) // К истории русской революции. – М.: Политиздат, 1990. – С. 236–237.
36. Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 8. – С. 242.
37. Троцкий Л. Д. Указ. соч. – С. 236.
38. Мартов Ю. О. Борьба с «осадным» положением в российской социал-демократической партии – Женева, 1904. – С. 14.
39. Письмо Плеханову. 12 декабря 1908 // Мартов Ю. О. Избранное. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 553.
40. Тютюкин С. В. Меньшевизм: страницы истории. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 543.
41. Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914). – М., 1992; – М., 2005.
42. Кожинов В. В. «Черносотенцы» и революция. – М., 1998.
43. Кирьянов Ю. И. Правые партии в России. 1911– 1917 гг. – М.: РОССПЭН, 2001.
44. Репников А. В. Консервативные концепции переустройства России. – М., 2007.
45. См. напр.: Кирьянов Ю. И. Правые партии России. 1911– 1917. – М., 2001. – С. 14–25.
46. Минаков А. Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX века. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011.
47. Пайпс Р. Русский консерватизм во второй половине XIX в. Доклад на XIII Международном конгрессе исторических наук. – М., 1970.
48. См. подробнее: Милевский О. А. Тихомиров: две стороны одной жизни. – Барнаул, 2004.
49. Правые партии. Документы и материалы. 1905–1917 гг.: в 2 т. – М., 1998. – Т. 1.
50. Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914). – М., 1992. – С. 125.
51. Марков Н. Е. Войны темных сил. – М., 1993. – С. 118.
52. Степанов С. А. Черносотенные союзы и организации // Политические партии России: история и современность / под ред. А. И. Зевелёва. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 88.
53. Правые и конституционные монархисты в России в 1907–1908 гг. // Вопросы истории. – 1997. – № 8. – С. 94.
54. Тихомиров Л. А. Церковный собор, единоличная власть и рабочий вопрос. – М., 2003. – С. 450–457.
55. Программа Русской монархической партии // Программы политических партий и организаций России конца XIX–ХХ вв. – Ростов-на-Дону, 1992. – С. 111.
56. Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. – М., 1998. – С. 392.
57. Программа Союза русского народа // Программы политических партий и организаций России конца XIX–ХХ вв. – Ростов-на-Дону, 1992. – С. 107.
58. «Перед нами неизбежное государственное банкротство». Записка С. Ф. Шарапова о финансовом в России // Источник. – 1995. – № 5 – С. 4–13.
59. См. подробнее: Попов Э. А. Разработка теоретической доктрины русского монархизма в конце XIX – начале ХХ вв.: дисс. канд. историч. наук. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 123–126.
60. Программа Русской монархической партии // Программы политических партий и организаций России конца XIX–XX века. – Ростов-на-Дону, 1992. – С. 111–112.
61. См. подробнее: Аверьянов А. В. Национальный вопрос в доктрине и политической практике русского консерватизма в конце ХIХ – начале ХХ вв.: дисс. канд. историч. наук. – Ростов-на-Дону, 2007.
62. Постановления IV Всероссийского съезда объединённого русского народа в Москве // Правые партии… – С. 328.
63. Алексеев И. Татарский след в черносотенном движении. – URL: http://ruskline.ru/analitika/2006/01/06/tatarskij_sled_v_chernosotennom_dvizhenii (дата обращения: 02.07.2017).
64. Никифорова С. М. Политическая борьба правых партий за сохранение самодержавия в России (1905–1917 гг.): автореф. дисс. … канд. историч. наук. – Орёл, 1999. – С. 17.
65. Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917. Дневник и воспоминания. – М., 2001. – С. 51.
66. См.: Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. – М. 2003.
67. Епископ Андроник«Беседы о «Союзе Русского Народа»». Старая Русса, 1909. – URL: http://gosudarstvo.voskres.ru/ andrnk.htm (дата обращения: 02.07.2017).
Контрольные вопросы и задания
1. Какие элементы в идеологии народничества можно считать прогрессивными, а какие нет?
2. В чём заключается гуманистическое содержание идеологии народничества.
3. Чем отличается либеральное народничество от остальных радикальных течений народнического толка?
4. В чём состоит различие между народничеством и неонародничеством? Составьте таблицу сопоставления идеологии народников и неонародников по основным программно-политическим параметрам.
5. Дайте развёрнутый ответ: что явилось причиной распространения марксизма в России?
6. По какой причине многие сторонники радикальных преобразований в России в 80-е гг. перешли от народничества к марксизму?
7. В чем состоит политическая уникальность «легального марксизма»?
8. Сравните народническую и марксисткую политическую платформу и ответьте на вопрос: какие параметры идеологии их объединяют, а какие наоборот разделяют?
Тесты для самопроверки знаний
1. Что в теоретической модели социализма неонародников во многом совпадало с представлениями социал-демократов?
Ориентация на интересы личности, гармонию между ней и обществом;
Отказ от градации различных социальных групп по степени сознательности, революционности;
Вывод, что крестьянство «не менее социалистическое», чем пролетариат.
Cоздание централизованного общества, планомерной организации экономики.
2. Что должно было прийти на смену самодержавию по мнению идеологов неонародничества?
Диктатура пролетариата в форме советов;
безгосударственное устройство;
конституционная монархия;
демократическая республика с развитым местным самоуправлением.
3. В каком году Г. В. Плеханов со своими единомышленниками организовал группу «Освобождение труда»?
в 1918 г.;
в 1885 г.;
в 1883 г.;
в 1876 г.
4. Свою цель члены группы «Освобождение труда» видели в… (выберете соответствующее выражение):
ликвидации феодальных пережитков в экономике;
осмыслении опыта европейских революций сер. XIX в., установке тесной связи между всеми народами мира;
организации террористических действий;
переводе марксистских произведений на русский язык и пропаганде их среди русской общественности.
5. «Кульминацией и крахом» народничества станет:
анархические убеждения;
«хождение в народ»;
раскол организации;
убийство Александра II.
6. Для классического народничества не было характерно:
утопизм;
волюнтаризм;
терроризм;
эгалитаризм.
7. Автором основных программных установок неонародников был:
В. М. Чернов;
А. Южаков;
К. Михайловский;
Г. В. Плеханов.
8. Либерализм Б. Чичерина нельзя отнести к:
интеллигентскому либерализму;
академическому либерализму;
классическому либерализму;
неолиберализму.
9. Земское либеральное движение набирает силу к:
90-м годам XIX в.;
80-м годам годам XIX в.;
60-м годам XIX в.;
70-м годам XIX в.
10. К легальным марксистам не относился:
М. Туган-Барановский и П. Новгородцев;
М. Ковалевский и П. Виноградов;
П. Милюков и Н. Бердяев;
К. Михайловский и В. Стасюлевич;
Д. Шаховский и кн. Е. и С. Трубецкие.
11. Радикализм неолиберальной идеологии не проявлялся в:
в идее бессословного народного представительства;
во всеобщем избирательном праве;
в признании «государственного социализма»;
требовании федеративного устройства государства.
12. Для либералов в целом был характерен:
аполитичность;
демократизм;
радикализм;
эволюционизм.
13. Неолибералы допускали политический союз с:
консервативным направлением мысли;
народничеством;
крестьянским движением;
демократическим рабочим движением.
14. Автором основных программных установок неолибералов не был:
Б. Н. Чичерин;
Н. А. Бердяев;
П. Б. Струве;
П. Н. Милюков.
15. Кто из идеологов русского консерватизма является автором работы «монархическая государственность»?
К. П. Победоносцев;
Д. А. Хомяков;
М. Н. Катков;
Л. Тихомиров.
16. Элитарный политический клуб, образованный в 1900 г. в России назывался:
Дворянское собрание;
Государственное собрание;
Национальное собрание;
Русское собрание.
17. К сословно-корпоративному направлению консерватизма относился:
М. Н. Катков;
К. П. Победоносцев;
К. Н. Леонтьев;
Л. Тихомиров.
18. Одним из ведущих монархических изданий в России было:
«С.-Петербургские ведомости»;
«Голос»;
«Биржевые ведомости»;
«Московские ведомости».
19. Что идеологи монархизма понимали под «самодержавием»?
независимая ни от каких сословий власть царя и бюрократического аппарата;
Дворянская монархия;
царская монархия, ограниченная дворянскими органами;
царская власть, основанная на идее «единения царя и народа».
20. Лидером партии СРН не являлся:
К. Н. Леонтьев;
Д. А. Хомяков;
А. И. Дубровин;
Н. М. Пуришкевич.