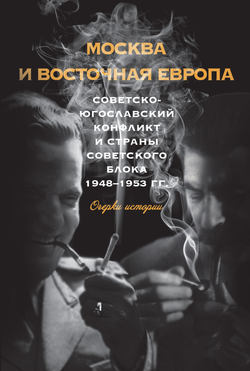Читать книгу Москва и Восточная Европа. Советско-югославский конфликт и страны советского блока. 1948–1953 гг. - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 4
А. С. Аникеев
Югославия в годы конфликта с СССР и странами «народной демократии»
Второе совещание Информбюро и интернационализация советско-югославского конфликта
ОглавлениеВсе второе совещание Коминформа было посвящено развернутой критике югославского руководства. Глава советской делегации А. А. Жданов выступил с докладом «О положении в Коммунистической партии Югославии», содержащим весь набор обвинений, выдвинутых против руководства КПЮ в советских письмах. В результате дискуссии участники пришли к единому выводу, отраженному в резолюции совещания. Руководству КПЮ вменялось в вину, что оно «за последнее время проводит в основных вопросах внешней и внутренней политики неправильную линию, представляющую отход от марксизма-ленинизма»[70]. Бо́льшая часть делегатов совещания использовали трибуну не только для осуждения югославов, но и для безудержного восхваления ВКП(б) и ее руководства. Так, член ЦК БРП(к) Тр. Костов в своем выступлении отмечал, что «ЦК ВКП(б) и лично т. т. Сталин и Молотов давали нам чрезвычайно ценные советы и помогали нам исправлять наши ошибки». Явно отмежевываясь от югославов, Костов подчеркнул: «Мы не боимся, что ЦК ВКП(б) будет иметь свою собственную информацию о положении дел в нашей партии, т[ак] к[ак] в лице СССР мы видим искреннего друга, прекрасного советника и наставника. Наша коммунистическая совесть чиста, у нас нет никаких секретов от ЦК ВКП(б), от тов. Сталина. А у югославских руководителей, видимо, совесть не совсем чиста». Перечисляя «ошибки» югославских руководителей, Костов указал на недооценку ими руководящей роли СССР в борьбе против империализма и в строительстве социализма, на «узконационалистическую переоценку роли и значения новой Югославии», «зазнайство и головокружение от успехов, которые достигнуты при помощи Советского Союза». Перечень «ошибок» завершала констатация отхода югославского руководства от теории марксизма-ленинизма, стремления внести в теорию «свои югославские поправочки, от которых веет духом оппортунизма и троцкизма»[71]. Костов поставил вопрос о том, каким способом можно не допустить «отхода Югославии от демократического фронта»; в противном случае Болгарии и Албании «придется оглядываться в сторону Югославии», поскольку все экономические связи Болгарии с Западной Европой проходят через нее. По мнению «болгарских товарищей», подчеркивал Костов, следует сделать этот вопрос предметом широкого обсуждения, вынести его «на суд партийных и народных масс Югославии», «развязать внутренние силы партии и страны и опереться на них». Важно, по мысли Костова, сделать это до съезда КПЮ, «чтобы помешать маневрам Тито противопоставить всю партию Информбюро»[72].
Совещание приняло резолюцию по докладу Жданова, констатировавшую, что «в руководстве КПЮ за последние 5–6 месяцев открыто возобладали националистические элементы», и оно стало на путь национализма. Подчеркивалось, что югославские руководители, «переоценивая внутренние национальные силы и возможности Югославии», думают о сохранении ее независимости и построении социализма «без поддержки коммунистических партий других стран, без поддержки стран народной демократии, без поддержки СССР». Рисовалась мрачная перспектива взаимоотношений Югославии с капиталистическими странами, причем задолго до того, как начались, на первых порах во многом вынужденные ее реальные контакты с Западом. Авторы резолюции, опираясь на какие-то только им известные факты и информацию, утверждали, что югославские руководители, «плохо разбираясь в международной обстановке и запуганные шантажистскими угрозами империалистов, полагают, что путем ряда уступок империалистическим государствам» они могут приобрести их расположение, «договориться с ними о независимости Югославии и постепенно привить югославским народам ориентацию на эти государства, то есть ориентацию на капитализм». В документе констатировалось, что причины подобных надежд югославского руководства заключались в следовании «известному буржуазно-капиталистическому тезису», в силу которого «капиталистические государства представляют меньшую опасность для независимости Югославии, чем СССР»[73]. Завершалась резолюция словами, в которых выражалась надежда на то, что «в недрах компартии Югославии имеется достаточно здоровых элементов», которые должны «заставить своих нынешних руководителей открыто и честно признать свои ошибки и исправить их, порвать с национализмом, вернуться к интернационализму и всемерно укреплять единый социалистический фронт против империализма». В противном случае задача «здоровых сил» будет состоять в том, чтобы сменить нынешних руководителей и «выдвинуть новое, интернационалистическое руководство КПЮ»[74].
На следующий день после появления резолюции Информбюро состоялся пленум ЦК КПЮ, на котором был сформулирован развернутый югославский ответ на этот документ. Все обвинения были названы несправедливыми и отвергнуты как самая большая историческая ложь, направленная против героического югославского народа и партии. Пленум, отвечая на кремлевские призывы к «здоровым силам партии» сменить руководство, призывал членов КПЮ сплотиться в борьбе за проведение партийной линии и «еще большее укрепление единства партии, а рабочий класс и остальных трудящихся, объединенных в Народном фронте, еще настойчивее продолжать работу по строительству социалистической родины»[75].
Проблема отношений с ВКП(б) и компартиями, входившими в Информбюро, стала одной из главных на съезде КПЮ, решение о проведении которого было принято 20 мая 1948 г. Созыв партийного форума сам по себе явился ответом на обвинения Москвы в нарушении югославами норм партийной жизни: предыдущий съезд прошел в ноябре 1928 г. Состоявшийся в конце июля 1948 г. 5-й съезд КПЮ одобрил решения пленума КПЮ от 29 июня, которые были сформулированы в ответ на резолюцию Информбюро. Выступивший на съезде с докладом Тито отверг все обвинения, назвав их чудовищными, но заверил делегатов съезда, что ЦК КПЮ несмотря ни на что полон решимости восстановить хорошие отношения с ВКП(б). На съезде вновь прозвучало приглашение к советскому партийному руководству приехать в Югославию и «на месте убедиться в неточности своих обвинений»[76].
Согласно принятому на совещании Информбюро решению, из Белграда в Бухарест в конце июня – начале июля 1948 г. была перенесена штаб-квартира этого органа, а также редакция газеты «За прочный мир, за народную демократию!». Кремль постепенно переходил к изоляции КПЮ и теперь, уже после интернационализации конфликта – к публичной критике его руководства. Компартиям стран «народной демократии» предписывалось «нести в массы» решения совещания в Бухаресте, добиваться осуждения югославских «оппортунистов» и «изменников». В июле, после опубликования резолюции началась кампания вовлечения в межпартийный конфликт широких партийных масс компартий всех стран-участниц Информбюро. На многочисленных собраниях проходило обсуждение материалов прошедшего совещания. Наиболее драматическая ситуация сложилась в Югославии, где после июльского съезда КПЮ все партийные структуры – от актива до рядовых членов – должны были высказаться в поддержку «генеральной линии» партии. Этот болезненный процесс, проходивший при активном участии спецслужб, возглавляемых А. Ранковичем, выявил неоднозначный подход к конфликту. Несогласные, высказавшиеся в поддержку резолюции Информбюро, вскоре попали в категорию так называемых «информбюровцев». На первом этапе им выносили выговоры, подвергали партийным наказаниям, а уже через год наиболее упорствующих в убеждении, что югославской компартии необходимо остаться верной СССР, ВКП(б) и Сталину, стали отправлять в концентрационные лагеря, причем среди них были не только коммунисты, но и беспартийные граждане[77]. Вопрос о борьбе с инакомыслием в верхних эшелонах партии встал перед югославским руководством спустя всего неделю после принятия резолюции в Бухаресте. Тито и почти всё его ближайшее окружение – Э. Кардель, М. Джилас, А. Ранкович, М. Пьяде, С. Вукманович-Темпо, Б. Кидрич и др. – прибыли в Сараево на совместное заседание Политбюро ЦК КПЮ и Краевого комитета КПЮ Боснии и Герцеговины (БиГ). Ситуация в партийном руководстве республики сложилась непростая: часть его высказалась в поддержку решений Информбюро и осудила отказ центрального руководства КПЮ послать делегацию на совещание в Бухарест. Открывая заседание, Тито попытался кратко обрисовать некоторые, с его точки зрения важные причины возникшего конфликта, сообщив, что трения начались после принятия пятилетнего плана. Сталин обещал создать в Югославии военную промышленность, но вплоть до начала обмена письмами ничего не было сделано. Торговый договор в Москве не хотели подписывать, отложили эту процедуру на декабрь 1948 г.
Один из боснийских лидеров Родолюб Чолакович признался, что спор между КПЮ и ВКП(б) не только привел его в замешательство, но и полностью деморализовал. Он так верил в непогрешимость позиции ВКП(б) в споре с КПЮ, что даже думал о самоубийстве. Теперь же благодарит Тито и Карделя и считает, что истоки его колебаний кроются в недостаточной марксистской подготовке, догматизме. Член ЦК Углеша Данилович подчеркнул, что несмотря на неверную оценку политики КПЮ со стороны ВКП(б) всё же следовало отправить делегацию в Бухарест. Его позицию разделяли Радован Папич и другие коммунисты. Хасан Бркич, председатель правительства БиГ, полагал, что некоторые положения, изложенные в письмах ЦК ВКП(б), следовало признать. Джилас коснулся недостатков в идеологической работе и отсутствия четкой позиции относительно политики на селе, но закончил свое выступление признанием того факта, что «у Югославии нет другого пути, кроме как с СССР». Кардель объяснил боснийским товарищам, что занятая ЦК КПЮ позиция отрицания всех обвинений была единственно верной и возможной. Отставка Тито завершилась бы распадом страны[78]
70
Совещания Коминформа. С. 455.
71
Совещания Коминформа. С. 429.
72
Там же. С. 432.
73
Совещания Коминформа. С. 460.
74
Там же. С. 461.
75
Jугословенско-совjетски односи. С. 380.
76
V конгрес КПJ. 21–28 jула 1948: Стенографске белешке. Београд, 1949. С. 148–159.
77
Hrvatski Drzavni Archiv (HDA). Fond SDS / Sluzba drzavne sigurnosti. Informbiro. God / 1949–1954.
78
AJ. F. 507. Sednica CK za BiH 7 jula 1948. III/35. S. L. 1–5.